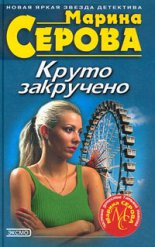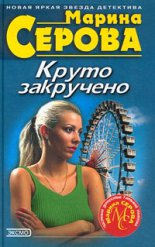Клуб любителей диафильмов (сборник) Хеймец Нина
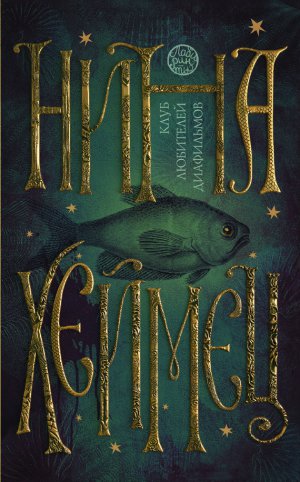
© Нина Хеймец, текст
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Марте, без которой многие из этих рассказов, возможно, не были бы написаны
Стеклышки
Памяти Иры
Мой дедушка Зелиг записал свои первые слова на русском языке, когда ему было тринадцать: еврейскую школу, в которой он учился, однажды закрыли, а всех ее учеников, числом сорок девять, перевели в школу рабочей молодежи, расположившуюся на первом этаже бывшего универмага братьев Казанцевых. Второй этаж здания пустовал – разбитые окна заменили пока только внизу, и крышу пока что тоже не починили. Говорили, что на втором этаже ночуют нищие и жгут там костры, а утром просыпаются и идут дальше – улица, на которой стояла школа, спускалась в заросший кустарником овраг, там превращалась в глинистую тропинку, такую, что в дождь и не пройдешь, проверено, а потом, на подъеме из оврага, снова становилась улицей и приводила к вокзалу.
Вечерами, погасив лампу и лежа в кровати, Зелиг проходил этим маршрутом. Выждав, пока станционный сторож отвернется, он прокрадывался мимо, бросал овчаркам ливерную колбасу – чтобы отвлечь их внимание, по-пластунски пробирался вдоль застывшего на рельсах состава, проникал в товарный вагон, прятался в нем и уезжал. «Пока хватит дыхания». Вдох – поезд мчится так быстро, что вокруг него образуются вихри и движутся за ним, срывая пласты воздуха со всего, что приблизилось к рельсам – с полустанков, водонапорных башен с летящими на пол тяжелыми каплями, с двускатных крыш над затянувшимися дымкой оконцами, с покрытой инеем земли. Выдох, в новом городе – улицы начинаются у твоих ног; здания кажутся плоскими, но спустя несколько секунд в стенах появляются двери, витрины, над ними – вывески; в окнах можно увидеть фрагменты комнат; в стеклах отражаются солнце и небо; воздух становится плотным и ровным, и ты забываешь ту скорость и то дыхание, оглядываешься по сторонам и идешь.
В тот день в классе писали диктант. Учитель – высокий сутулый человек в белой рубашке без воротничка – читал им из толстой книги в картонном переплете. Многие слова были Зелигу незнакомы, но и те слова, что он уже слышал и знал их значение, ему приходилось задерживать в памяти. Он будто накидывал на каждое слово нитки, не давал ему исчезнуть, раствориться, и, пока слово звучало у него в голове, пока проявившая перед зажмуренными глазами картинка, из которой прорастали другие картинки – фигуры людей и животных, растения, тучи, дома и моря, не распадалась на сотни разноцветных треугольников, кругов и квадратов, Зелиг должен был успеть подобрать к нему недавно выученные буквы – как если бы он по фотографии пытался найти в людной комнате нужного ему человека. Потом он переписывал буквы в тетрадь, стараясь правильно соединять линии и не забрызгивать строчку чернилами.
Это произошло ближе к концу диктанта. Зелиг слышал, как его одноклассники переворачивают в тетради законченную страницу; у него было исписано только несколько строчек. Створка окна захлопнулась, видимо, из-за сквозняка. От удара стекло разбилось. В ту же секунду, сквозь образовавшееся зубчатое отверстие, в класс ворвалась птица – грач. Дети смотрели на птицу, и Зелиг смотрел вместе с ними, а потом что-то отвлекло его – тень движения – и он взглянул на пол. Мечущийся грач отражался в осколках стекол. Зелиг видел то переливавшиеся черные перья, крылья, лапки, клювы, то десятки маленьких птиц, уменьшавшихся, удалявшихся от него, падавших куда-то вверх животами. Та земля, куда падали птицы, была другой – не твердой, а состоящей из густого дыма. Дым расступался, образовывая огромную воронку – только так они могли там поместиться. Зелиг посмотрел под ноги, увидел недавно крашеные доски, следы мокрых ботинок. Через несколько секунд учитель опомнился, бросился открывать окна. Грач вырвался на улицу.
В том же году у дедушки появилось увлечение – калейдоскопы. Он мастерил их сам, по чертежу, который случайно обнаружил в старом, дореволюционном еще, учебнике математики. Он выменял на рынке стеклорез и зеркало, вырезал нужные детали. Первый калейдоскоп дедушка сделал черно-белым: он использовал матовый плафон от керосиновой лампы, покрасив часть стекляшек чернилами. Когда осколки высохли, он выцарапал на них булавкой силуэты птиц. Его пальцы всегда были в ссадинах: он подбирал на улице разноцветные осколки, умудрялся находить их буквально всюду – будто там, где он жил, когда-то стоял огромный стеклянный город, а потом – по какой-то причине – разлетелся вдребезги, осыпался, врезался в землю. Некоторые кусочки стекла, впрочем, удавалось опознать: фрагменты фар, окон поездов, очков, биноклей, настольных ламп, уличных фонарей. Дедушка хранил их в специальных деревянных ящичках с табличками. Остальное хранилось в коробке с надписью «разное».
Окончив школу, дедушка выучился на инженера-железнодорожника, носил форменную фуражку, работал на сортировочной станции, в длинном кирпичном здании, за депо. Он отвечал за исправность поездов дальнего следования. К тому времени дедушка уже несколько лет вел дневник. Дневник занимал три высоких шкафа в нашей квартире на пятом этаже. Всматриваясь в осколки, дедушка, по всей видимости, стал очень чувствителен к цветам и их сочетаниям. Говоря по правде, цвета он замечал в первую очередь, а обстоятельства, при которых эти цвета появлялись – во вторую. Бабушка рассказывала маме, а мама – мне, как, придя с работы, дедушка мог сказать, что день был очень желтым, «примерно на две пятых»: семь желтых платьев на вокзальном перроне, желтые каски ремонтных рабочих; желтый пиджак в машине скорой помощи, канарейка на дереве перед зданием депо. Они ужинали, а потом дедушка шел в спальню – там у него был оборудован верстак. Он доставал с полки заранее заготовленный отрезок трубы. Из ящика письменного стола он доставал пенал, в котором хранились зеркала. Потом он выбирал нужные осколки (желтых было примерно на две пятых) и мастерил калейдоскоп – про этот день. Калейдоскопы хранились в строгом порядке, но даты на них обозначены не были – только соотношения цветов. «Четыре пятых оранжевого», «треть зеленого», «треть фиолетового» и тому подобное. Бывало, дедушка неделями не притрагивался к своей коллекции. Но были и вечера, когда он подолгу сидел в кресле, направив на свет настольной лампы один из своих калейдоскопов. Он вращал металлическую трубку то в одну сторону, то в другую. Выражение его лица менялось – он улыбался, становился задумчив, хмурился, что-то тихо говорил сам себе. Бывало, он звал бабушку: «Вот, посмотри». Она смотрела на эти стеклянные кусочки, переливающиеся фрагменты, исчезающие друг в друге и возникающие снова, а дедушка ей рассказывал, что в это день встретил друга, про которого все думали, что он умер, а он не умер, а вышел из красного трамвая как раз, когда дедушка стоял на остановке.
Когда началась война, дедушку призвали на фронт. Он был начальником санитарного поезда, вывозившего раненых с передовой. Через три года после начала войны бабушка получила извещение о том, что дедушка Зелиг пропал без вести: эшелон попал под бомбежку, почти все, кто в нем ехал, погибли. Тело Зелига не нашли. Еще три года спустя бабушка получила по почте посылку. Открыв ее, она увидела калейдоскоп. Его корпус был сделан из обрезка водопроводной трубы. К калейдоскопу прилагалось письмо. Капитан запаса Н. писал, что бомбежка произошла ночью, а поздно вечером дедушка как раз закончил мастерить калейдоскоп и оставил его Н. на хранение. Теперь Н. возвращает калейдоскоп семье Зелига. Бабушка долго держала калейдоскоп в руках прежде чем решилась в него посмотреть. Калейдоскоп был разбит. Стеклянные фрагменты осыпались. Бабушка сорвала с противоположного конца трубы крышку со стеклышком и высыпала осколки себе на ладонь. Разноцветные стеклышки переливались в свете лампы. Бабушка и моя семилетняя мама смотрели на день Зелига. Меня тогда еще не было. Бабушка сказала: «Три четверти синего».
Когда я проезжаю в трамвае мимо Старого города, я сажусь так, чтобы между мной и тянущейся вдоль рельсов стеной из неровных камней был проход и еще ряд сидений – одна из тех привычек, которые человек сам в себе не замечает. Но я иногда замечаю. Я вижу, как городские стены выгибаются наружу, по ним идут трещины, а потом стены не выдерживают, и все разлетается: каменные вздутия крыш, башни, антенны, мощенные булыжниками мостовые, оливковые деревья, люди в одеждах разных цветов, оконные стекла, шахматные доски, книги в кожаных переплетах, винтовки, сабли, мечи, покрытые патиной монеты, кости, черепки, тонны черепков, тучи, звезды, дождь. Красный свет. Трамвай резко тормозит. Я подаюсь вперед, потом выпрямляюсь. Я открываю сумку, убеждаюсь, что не забыла взять с собой зонтик. Между стеной и рельсами – газон из мягкой травы.
Двадцать лет назад я уехала из города, в котором родилась. В этих широтах совсем другие цвета – очень яркие, даже когда небо покрыто облаками. Дедушке бы здесь понравилось. Я часто думаю о нем. Я привезла с собой несколько его калейдоскопов. Иногда я смотрю в них и пытаюсь угадать истории тех дней, когда они были сделаны. Я вижу лишь узоры из переливающихся фрагментов. Еще, мне бы очень хотелось выяснить, что было в том последнем дне – в том, где три четверти синего. Но, я знаю, встреча не обещана.
Вечерами я выхожу на балкон и смотрю на освещенный огнями город. Если бы сделать про него калейдоскоп, он был бы на четверть золотым, на четверть серебряным, на четверть черным. На четверть он был бы прозрачным, чтобы вместить все лица – родные и те, которые уже никто не помнит. Можно было бы смотреть в него, пока хватит дыхания.
Оммаж Андерсену
Письмо оставил в морозильнике. Подумал: «Если и есть нечто постоянное, так это – там. Одна и та же температура, круглый год, и все процессы при ней замирают. Могут, конечно, электричество отключить, но в здании, все же, генераторы, а потом, глядишь, и починят. Незначительное колебание по сравнению с тем, что происходит – вокруг, везде, со всем»
Там оно и будет, пока не найдется. В квартире бы оно точно затерялось – перебор поверхностей. Слишком много шкафов, ящичков, коробок, щелей, стопок. Добавим к этому сквозняки – врываются в окна, меняют вещи местами, а могут и забрать с собой. Вынесет этот жалкий листок на улицу, а там вода, конечно – дождь либо был, либо будет. Где бы листок ни упал, он окажется между двумя дождями, и все. Ведь, дело даже не в самих молекулах, а в связях между ними, и вот сухое и плоское становится влажным и объемным, а потом исчезает. И только чернила – просачиваются в землю, смешиваются с водой, а вода, как известно, все помнит.
Открыл дверцу – завернутый в белую магазинную бумагу сом, и полиэтиленовый пакет, нарядный такой, пестрый, а в нем – килограмм замороженных горошин. «Один умер, другие – не родились». Положил листок между ними. Несколько секунд не выпускал его из пальцев, но холод немедленно дал о себе знать – сводил суставы, выталкивал руку, уходи уже, уходи. Ушел.
Договором это не предусматривалось, но в квартире обнаружился старый холодильник – в рабочем состоянии, даже в сеть включен. Считай, повезло – с деньгами у меня сейчас не очень. Открываю я, значит, морозильник, и – что за фигня. Лежит пакет с горохом – ну, это ладно. А рядом – рыбина. На первый взгляд, вроде, ничего особенного. А потом пригляделся – она вся в буквах, вся исписана от головы до хвоста. Я зачем-то закрыл дверцу, потом снова открыл – будто надеялся, что мне показалось. Не показалось. Я стоял и думал: «Что предпринять в этом случае?», словно в отношении мороженой рыбы вообще задаются таким вопросом. Потом я вытащил ее – холод обжигал руки; положил на кухонный стол. Почерк оказался почти детским, крупным, но видно было, что писал не ребенок. Я сел на стул, попытался вчитаться. «…особенно вечером, когда луна оказывается в созвездии Тельца… и ремонт на лестнице…». Думаю: «Что-то не вяжется тут». Пошел за увеличительным стеклом, долго его искал – коробки еще не распакованы; нашел, вернулся. То, что я поначалу принял за чешую, оказалось обрывками бумаги. Бумага, причем, была двух типов – белая, упаковочная и тонкая, со следами тетрадной разметки, на ней-то все и было написано. «О’кей, – думаю, – так что там с лестницей?». Смотрю – а строчки-то уже и нет. То есть, луна с тельцом на месте, но дальше речь про какого-то типа, у которого «столько шляп, сколько существует настроений, и он каждую неделю перекладывает их в шкафу». Я снова взялся за увеличительное стекло и, кажется, понял, что произошло. В комнате было тепло, все-таки июнь месяц. Рыба, пока на столе лежала, подтаяла, вот бумажки на ней и сместились. В этом, наверное, и было дело. Район не ахти, проводка старая, перебои с электричеством гарантированы. В здании, правда, есть генераторы – с лучших, что называется, времен, но в каком они состоянии – большой вопрос. Вот морозильник и оттаивал, а потом опять замораживался, и так много раз подряд. Собственно, никто не знает, сколько это продолжалось – в агентстве проговорились, что квартира уже давно стоит пустая. Разгадал загадку, и словно на душе легче стало. Вернул рыбину в морозильник и пошел разбирать вещи. Спать лег поздно, но все никак не мог заснуть. Ворочался с боку на бок. Думал: «Что же там, изначально, написано было? И кто писал? И почему чернила не расплылись? Наверное, водостойкие». Не выдержал, встал, пошел на кухню. Достал рыбу: «всегда пустота… не менее килограмма крыжовника». Помню, мне захотелось швырнуть эту рыбину об стенку. Но я положил ее на место, вернулся в кровать и заснул.
Так повторялось каждый вечер. Я приходил с работы, зажигал настольную лампу, клал под нее рыбу, вчитывался. «…взгляд не может проникнуть… лучшее время суток… [зачеркнуто]», «…придется это узнать… смотрю в зеркало как обычно… не более четырех игроков». Я отодвигался от стола, вставал, шел на балкон – там мне лучше думалось. Мой этаж – одиннадцатый, почти полгорода видно, гирлянды фонарей, огни на высотках. Однажды я поймал себя на том, что всматриваюсь в прохожих, там, далеко внизу, словно ожидаю узнать в одном из них – автора доставшегося мне текста. Я обратил внимание на то, что смотрю, главным образом, на людей, удаляющихся от меня, смотрю им в спину, будто тот человек – обязательно уходит. «…и водопады… пойдем в тир… увеличить до десяти».
Однажды, вернувшись с балкона в комнату, я заметил, что строчка, которую я прочитал несколько минут назад, исчезла – вместо нее была белая бумага. Рыбина лежала на столе, проступившая на бумаге изморозь начала подтаивать. Если бы рыба была живой, я отпустил бы ее в реку. Но это была давно замерзшая рыба с ввалившимися глазами. Я достал из ящика нож. Я не сразу решился, но потом – разрезал рыбу на кусочки, вместе с бумагой. Потом я захватил из морозильника пакет с горохом и пошел на балкон. Там стоял оставшийся от прежних жильцов деревянный столик. Я положил куски рыбы на потемневшую от сырости столешницу, и горох из пакета – высыпал туда же. Все произошло, как я и рассчитывал, даже лучше и быстрее. К кормушке стали слетаться птицы – будто поджидали. Одна, две, потом я насчитал десять и сбился со счета – над домом кружила целая стая. Вернее, стаи. Птицы были разными. Вороны, голуби, но были и такие, каких я здесь прежде не видел. Балкон будто накрыло рябым облаком, я отступил в комнату. Через несколько секунд птицы разлетелись, кормушка была пуста. А потом пошел дождь.
Известно, что птицы могут передвигаться быстрее времени, а рыбы – быстрее памяти.
НЛО
Когда мне было четыре года, мы с папой видели летающую тарелку. Мы возвращались с прогулки в парке. В парке была карусель с разноцветными лошадками и автодром. Там было много дорожек; папа знал, где нужно сворачивать. Мы шли домой обедать, было воскресенье. Я подводил носки ботинок под опавшие листья. Листья смешно шуршали. Папа вел меня за руку. Мы вышли из парка и шли через пустырь. Я видел за пустырем наш дом. Вдруг папа остановился. Я почувствовал, что его ладонь стала мокрой. Я попытался высвободить руку, но папа не двигался и не отпускал меня. Я поднял голову, чтобы посмотреть на папу, и тоже это увидел. Над нашим домом висело что-то огромное, похожее на самолет без крыльев. Оно было матовым, гладким и не светилось на солнце. Я заметил в нем маленькие окошки. Они были темно-серыми. Вокруг было очень тихо. Окна нашего дома отражали солнечный свет, а стены повторяли цвет самолета без крыльев. Наше окно тоже отражало солнечный свет. Мамы в окне не было. Я услышал, как папа шепчет: «летающая тарелка, неужели…». Папа притянул меня к себе и обхватил за плечи. Предмет висел над домом, а потом вдруг метнулся куда-то в сторону, по дуге, за папу, и исчез. На первом этаже залаяла собака. Мимо нас проехал автомобиль.
Мы вошли в подъезд, и я заплакал. Папа сказал, что я очень устал.
Когда я проснулся, было уже темно. Мама с папой сидели в большой комнате. Я слышал звук их голосов. Они о чем-то спорили. Я пришел к ним, мама дала мне попить. Я сказал маме: «мы видели летающую тарелку». Мама ответила, что тарелка мне приснилась. А папа сказал, что мне не надо бы ложиться спать так поздно. Восемь часов – самое подходящее время.
На следующее утро я попытался нарисовать летающую тарелку. У меня получились два пятна. Пятно поменьше, оранжевое, было нашим домом. Большое голубое пятно – тарелкой. Окна у меня не получились. Папа спросил, что я нарисовал; я сказал: «летающую тарелку». Папа ничего не ответил и вышел из комнаты, а мама сказала, что летающих тарелок не бывает, но у меня получилось очень красивое сочетание цветов.
Через три года я стал ходить на кружок рисования. Учительница сказала папе и маме, что у меня способности. Я любил рисовать наш дом, парк и карусель с лошадками. Рисовать лошадок было сложно, но постепенно я научился. Я тренировался рисовать их очень маленькими, все меньше и меньше. Я мог всё. Я был уверен, что, если захочу, смогу уместить в рисунке тысячу лошадок или даже миллион. Потом я подумал, что к лошадкам можно прибавить и других зверей – тигров, слонов, жирафов, медведей. Мама и папа развешивали мои рисунки на стенах у меня в комнате.
…Мне всё хотелось попробовать, и однажды я изобразил, как обычно, наш дом – бежевый, с желто-голубыми окнами. Вокруг – коричневые деревья с редкими красными листьями. Но на этот раз я поместил над домом овальный предмет. Я нарисовал его серым. Я сам повесил рисунок на стенку. Когда родители его увидели, папа сказал, что всё отлично, но без пятна было бы лучше. Мама молчала. Мне показалось, что она смотрит на меня виновато. Она поправила волосы, и я впервые заметил, что у нее широкая ладонь и коротковатые пальцы. Я снял рисунок со стены.
Я перестал заниматься рисованием через два года. Я возвращался из школы, делал уроки и шел гулять с приятелями. Нам разрешали играть во дворе, но постепенно мы стали уходить все дальше от дома. Мы начали заходить в парк. Сначала – за ближайшие деревья. Потом – все глубже. Аллеи парка были пустынными. По их краям иногда были сложены поленницы бревен. Стволы были сырыми. Мы часто играли в прятки. Я любил прятаться, а водить – не любил. Когда я прятался, меня искали, и в целом парке находился лишь небольшой закуток, куда я помещался, и о котором другие не могли подумать. Когда я водил, я стоял на месте и осматривался. Взгляд выхватывал деревья, перескакивая с одного на другое. В парке становилось слишком много места, предметы помещались в нем без затруднений, а люди могли застывать и двигаться, себя не обнаруживая. Когда почти совсем темнело, мы возвращались домой.
Однажды вечером я делал уроки, и мне понадобились ножницы. Я не нашел их на обычном месте и решил поискать в ящике серванта, в большой комнате. Вообще-то, когда я был помладше, я любил заглядывать в этот ящик, но потом мне перестало быть интересно, и прошло уже несколько лет с тех пор, как я открывал его в последний раз. Там хранились документы, серебряные вилки и мамины украшения – в черной пластмассовой коробочке. Раньше, открывая ящик, я обязательно вынимал из коробки украшения. В коробке лежали бусы, но в них ничего особенного не было, и я их не трогал. Я доставал оттуда кольцо с прозрачным камешком и смотрел сквозь него на свет лампы. Мне казалось, что камешек должен светиться, но он всегда оставался тускло-матовым. В этот раз, открыв ящик, я заметил, что под коробкой с украшениями лежит тонкая картонная пластинка. Когда я вытащил ее из ящика, я увидел, что на ней нарисован наш дом. Был вечер, в доме светились окна. Я нашел наше окно, в нем был виден чей-то силуэт. Я подумал, что это – мама, было очень похоже. Рядом с нашим подъездом стояли два дерева, я вспомнил их: когда я был в детском саду, их спилили – жильцы жаловались на тополиный пух. Небо было ясным, в нем виднелись звезды. Над домом висел предмет, похожий на самолет без крыльев. Предмет был серо-голубым, гораздо светлее неба. В нем светились иллюминаторы. Я понимал, что это – летающая тарелка. Картинка была нарисована масляными красками. Кто мог ее нарисовать, я не знал.
Папа с мамой были на кухне, я побежал к ним, с картинкой в руках, и крикнул: «смотрите, что я нашел!». Родители ужинали. Папа со стуком положил вилку на стол и сказал мне: «Немедленно положи это на место». Мне стало очень обидно. Я вернул картинку в ящик и ушел в свою комнату. Чуть позже мама пришла ко мне. Я спросил ее, что это была за картинка и правда ли, что на ней – летающая тарелка. Мама сказала, что не знает, что хотел нарисовать художник; что рисунок – чужая вещь, и меня это не касается. На следующий день я снова заглянул в ящик серванта, но картинки там не было.
Окончив школу, я решил изучать историю искусств, но лекции казались мне скучными, и через два года я бросил университет. Я жил с девушкой, которая училась со мной на одном курсе. Мы все чаще ссорились. Она жаловалась, что я все время молчу, и невозможно понять, что у меня на уме. Через три месяца после того, как я бросил университет, мы расстались. Я скучал по ней. Потом я уехал в другую страну. Однажды я увидел на автобусной остановке объявление: в луна-парке требовался разнорабочий. У меня совсем не было денег, я подумал, что другого выхода нет, и устроился туда. Я работаю там до сих пор.
Луна-парк переезжает из города в город. Я отвечаю за главную карусель. Она не самая быстрая, но самая нарядная, ее обычно устанавливают в центре луна-парка. К круглой двухъярусной платформе привинчены звери – лошади, слоны и верблюды. Я должен смазывать механизм карусели и подкрашивать зверей, когда на них вытирается краска. Иногда фигуры ломаются, и я заказываю новые. Оказалось, что на складе у поставщика есть самые разные модели – львы, киты, лисы, ящерицы. Я монтирую их вместо зверей, пришедших в негодность.
Я посылаю родителям фотографии городов, в которых бываю вместе с луна-парком. В столицах аттракционами никого не удивишь, мы объезжаем маленькие города. Я фотографирую ратуши, мосты и дома с палисадниками. Папа теряет зрение, он почти ослеп, но все равно просит, чтобы мама развешивала эти фотографии на стене в большой комнате. Недавно я приезжал к ним. Возле нашего подъезда посадили новые деревья. В парк я не ходил. Мои родители уже несколько лет на пенсии. Папа целые дни проводит у окна. Он еще может различать свет и тень. Мама заботится о папе. Она почти не выходит из дома.
Спустя несколько дней после моего приезда мама попросила меня достать с антресолей коробку с посудой. Я открыл дверцы, внутри было очень пыльно. Чувствовалось, что туда уже давно никто не заглядывал. Пытаясь добраться до нужной коробки, я заметил небольшой кусок картона. Мне трудно сейчас сказать, зачем, но я вытащил его и вытер пыль рукавом свитера – это был рисунок маслом, который я видел много лет тому назад. Я иногда вспоминал его и гадал, что с ним стало. Когда я фотографировал, мне хотелось, чтобы на моих снимках было похожее настроение – когда людям уютно и они не знают, что над их домом повисла летающая тарелка. Но у меня не получалось. Я смотрел на этот рисунок. Краски показались мне резкими. Небо было нарисовано крупными мазками. Мама позвала меня. Я вытащил нужную коробку, вернул рисунок на место и плотно закрыл дверцы. Через неделю мой отпуск закончился, и я вернулся в луна-парк.
Обычно мы приезжаем в новый город под вечер. Закончив работу, я не иду в гостиницу, а гуляю по ночным улицам. В городе уже почти нет прохожих, а в домах – темные окна. Тротуары тускло отражают свет фонарей, как будто они сделаны из теплого пластилина. Иногда, когда улица идет резко под гору, у меня возникает ощущение, что я нахожусь на карусели, которая установлена не параллельно земле, а перпендикулярно. Мне начинает казаться, что, сделав шаг, я ухну куда-то вниз, буду стремительно падать, а потом окажусь на той же улице, вернувшись назад на несколько кварталов. Иногда мне кажется, что диаметр карусели гораздо больше, и, когда я сорвусь вниз, над затылком у меня будет Большая медведица, а когда стану возвращаться – Южный крест. Когда я так чувствую, я захожу в ночные кафе. Там стоят пластиковые столики и стулья с железными спинками. Посетителей в этот час бывает очень мало. На чугунной плате жарятся лук, кусочки мяса и куриные потроха. Хозяин кафе заворачивает мне их в лепешку и спрашивает, как дела.
Недавно директор луна-парка поручил мне фотографировать детей на карусели и продавать снимки их родителям. Он сказал, что это существенно повысит доходы от аттракциона. Я вспомнил, как мы с папой ходили в парк, он покупал билеты на карусель и сажал меня на пластмассовую лошадь. Где-то нажимали на кнопку, карусель приходила в движение. Я переставал видеть папу, оказывался один. Я вспомнил, что сначала боялся, а потом испытывал торжество – я знал, где я, а папа меня не видел. Потом я стал представлять себе, как папа ждет, пока я появлюсь, и волнуется, потому что я – по другую сторону карусели и неизвестно, что со мной стало. Я жалел папу и хотел, чтобы карусель быстрее возвращала меня к нему.
Я стою у лесенки, ведущей на карусель, и держу свой фотоаппарат наготове. Щелкает реле, и дети – на лошадях, на китах, на львах, лисах и ящерицах – скрываются из виду. В этот момент мне всегда становится не по себе, потому что они совершенно одни, в медленном движении, ни для кого недоступны.
Но проходит несколько секунд, и они возвращаются.
Птичий рынок
Ире Черске
К войне все было готово, оставалось только разыскать кошку. Ее не было нигде. Картонная коробка в подвале была пуста, на подстеленном полотенце – ни шерстинки. И еда, которую мы принесли, тоже осталась нетронутой, как будто, даже исчезнув, кошка сохранила за собой все это пространство – сырую комнату с оконцами под потолком, с пыльным бетонным полом. И никто не приходил сюда больше – ни бродячие кошки, ни даже мыши. Никто не приближался к ее миске. Не посягал. Мы понимали, что необходимо продолжать поиски. «Я за эту кошку отвечаю» – сказала Людка. А потом посмотрела на меня, чуть прищурившись, и уточнила: «Мы отвечаем».
А все этот Птичий рынок, и зачем мы только туда поехали.
Это был самый обычный день, в конце февраля. Почти неделю назад началась оттепель; снег был мартовским – липким, осевшим, с черными корочками. Тем не менее, нам велели прийти в школу с лыжами, а на перемене учительница физкультуры зашла в класс и объявила, что мы едем кататься в Измайловский парк. Все обрадовались – в парк надо было ехать на трамвае, да и потом – кататься там все же интереснее, чем на школьном дворе.
– А вы, девочки, почему без спортивной формы? – обратилась физкультурница к нам с Людкой. Я ответила, что у меня был грипп, а Людка – что у нее на лыже крепление сломалось.
– Все равно поедете с нами, – распорядилась учительница, – мы глубоко в парк не зайдем. Класс будет кататься вдоль шоссе, от Третьей Владимирской до Новогиреевской, и обратно. А вы постоите и подождете.
Мы пришли на остановку, и тут же – очень удачно – подъехал трамвай. И весь наш класс, четвертый «А», столпился перед открывшимися дверцами.
– Не толкайтесь! Лыжи палками вверх держите! – волновалась учительница. И я подумала, что мы, наверное, издали напоминаем толстого ежа, который пытается протиснуться в норку.
Мы с Людкой заходили последними. Мы уже стояли на ступеньке трамвая. И тут это случилось. Вдруг. Мы ни о чем таком заранее не договаривались. Когда двери начали закрываться, мы переглянулись и спрыгнули на асфальт. Трамвай зазвонил и тронулся с места. Мы с Людкой стояли, растерянные. На остановке, кроме нас, никого не было. Нас тоже на ней не должно было быть. Не в эту минуту. Случившееся было нарушением порядка вещей, и было ясно, что теперь в действие вступают какие-то другие законы. А потом мы увидели мальчика из нашего класса. Он опоздал и торопился к остановке: «Эй, подождите! – крикнул он нам, – где все? Я с вами!». И мы побежали от него. Он нам не нужен был с нами. Нам никто не был нужен. Мы как будто оказались внутри огромного шара, наполненного разряженным воздухом. Внутри шара было весело и тревожно. И казалось, что все, находящееся в нем: все эти голые деревья, дома со свисавшими с крыш сосульками, проезжавшие мимо трамваи – все это кричало нам, сообщало, нашептывало: «Вы свободны! Вам нельзя здесь находиться!»
Мы добежали до Зеленого проспекта и остановились, купить мороженое. Я выбрала «Эскимо», а Людка – в вафельном стаканчике.
– А ничего, что ты мороженое ешь? У тебя же грипп был? – спросила Людка.
– А у тебя крепление на лыже сломалось! – ответила я, и мы захохотали.
И тут я сказала: «Слушай, а поехали на Птичий рынок. Рыбок посмотрим».
И мы поехали.
Ехать нужно было долго – на двух троллейбусах. Похолодало, выглянувшее с утра солнце снова скрылось за тучами. Мы очень долго ждали на пересадке, и я даже предложила вернуться домой. Но Людка ничего не ответила. И мы поехали дальше. Я знала дорогу. Мы с сестрой там пару раз бывали. Но на сам рынок мы не заходили – покупали корм в зоомагазине в прилегавшем к рынку переулке, и уезжали.
– Там очень красивые рыбки, – рассказывала я Людке, – Я, правда, сама не видела, но, говорят, что такого выбора как там, нигде в Москве больше нет.
Наконец, троллейбус добрался до нужной остановки, и мы вышли.
Такого количества рыбок, как там, и вправду нигде больше не было. Гупии, сомики, карпы, боции, телескопы, золотые рыбки, меченосцы, еще десятки неизвестных мне рыб самых возможных форм и оттенков. Казалось, они впитали в себя все краски этого пасмурного дня, забрали их, оставив улицам серое и коричневое. От них не хотелось отворачиваться. Никогда.
– Девочки, ну что, покупаем что-нибудь? – послышался голос продавца – а то вы мне только зря товар загораживаете.
И мы пошли дальше. Толпа образовывала воронку, выбирать маршрут не оставалось возможности. И через пару минут мы оказались в самом центре этой толпы, в центре воронки.
– Котята! кому котят? Персидские, сиамские, на выбор!
Звери казались игрушечными. Но взять их на руки не хотелось. Хотелось убежать отсюда, не видеть, сесть в троллейбус, оставить позади этих людей, все эти звуки – щебет, мяуканье, собачий визг.
– Девочки, щеночек нужен?
Это была изнанка, изнанка того, что происходило в домах, в десятках тысяч домов, а может быть – в миллионах. Там жили любимцы, они спали на ковриках или на хозяйских кроватях, им давали прозвища, рассказывали о них гостям смешные истории, а летом – брали с собой на дачу.
А здесь, в этой воронке, все начиналось; здесь определялось, у кого какая судьба; здесь все были безымянными.
Я почувствовала стыд. Я не могла там больше оставаться. Но и уйти я была не в силах. И я знала, была уверена, что с Людкой происходит то же самое.
И вдруг мы услышали, что к нам обращаются:
– Девочки, купите кошечку. Я давно на вас смотрю. Вот, чувствую, что вы мне поможете.
Мы остановились. Перед нами стояла женщина, средних лет, в старом шерстяном пальто и вязаной шапке. Ее щеки покрывала сеточка из фиолетовых прожилок. Верхние пуговицы пальто были расстегнуты, и из-за пазухи выглядывала кошачья голова.
– Купите у меня кошку, – продолжила она, – не пропадать же ей. Я дома ее не могу оставить. У дочки астма началась. Уже два часа тут стою, никто покупать не хочет.
– Понимаете, – я попыталась объясниться, – мы вашу кошку купить никак не можем. У меня уже есть собака и рыбки. Кошка будет на них охотиться, и с собакой они тоже не уживутся. А у Люды никого нет, но ей мама и не разрешает никого заводить. Да и денег у нас с собой – полтора рубля, на вашу кошку – точно не хватит.
У меня с собой был рубль – я копила на солдатиков, в «Детском мире», а у Людки – пятьдесят копеек. Она мне это сказала, когда мы мороженое покупали.
А Людка стояла рядом и молчала. А потом вдруг сказала: «Ничего, мама мне разрешит. Давайте сюда вашу кошку. Но денег у нас и вправду мало».
– Девочки, как же вы меня выручили! – засуетилась женщина, – берите! Хорошая кошечка, ласковая. А денег мне как раз рубль и дайте – чтоб прижилась. Это примета такая. А остальное – на дорогу оставьте. Вы, ведь, далеко живете? – она вдруг посмотрела на нас с подозрением.
Мы поскорее расплатились, взяли кошку, и договорились нести ее по очереди. Я была первой. Кошка пристроилась под курткой. Казалось, смена хозяев не произвела на нее особого впечатления. Она была теплая и чужая.
А потом мы увидели собаку. Вернее, человека с собакой. Собака была большая и бежевая. А человек – высокий, худощавый, в спортивных штанах и заляпанной грязью куртке. У него была рассечена бровь. Он как раз нашел покупателя и договаривался с ним.
– Слышь, братан, – говорил он, – считай, повезло тебе. Всего за червонец такую собаку отдаю! Породистую, лабрадор она, ты только посмотри. Деньги нужны позарез, а так – хрен бы я такую собаку стал продавать.
Покупатель смотрел на него с сомнением. Наконец он решился и отдал человеку с рассеченной бровью деньги. Тот быстро сунул ему в руку поводок и исчез в толпе. Собака не пошевелилась. Она оглянулась и напряженно всматривалась в ту точку, где в последний раз мелькнула куртка ее хозяина.
– Ну, пошли, что ли! – новый владелец неуверенно потянул ее за поводок.
Собака не отреагировала. Она продолжала всматриваться в толпу.
И тут Людка это сказала. Вокруг было шумно, но я очень хорошо ее услышала. Всего два слова, очень тихим и очень твердым голосом. Она сказала:
– Будет война.
Троллейбус был полупустым. И теперь кошку держала Людка. Кошка была пушистой. Серой, с коричневыми и черными полосками. Людка молчала, а я думала о том, что она сказала, там, на рынке. Она такие вещи просто так говорить не стала бы, в этом я была уверена. Вот, например, когда Колька Артемов обозвал ее двоечницей, она ему ответила: «Может, я и двоечница, а тебя, зато, тут месяц не будет и никто этого не заметит!». И точно – буквально через неделю выяснилось, что Колькины мама с папой разводятся, а его самого отправили к бабушке. И вернулся он именно через месяц. Ну, может, чуть раньше. А когда другой мальчик из нашего класса, Юра Кондратьев, ударил ее линейкой по пальцам, она ему крикнула: «Ты теперь долго ни на кого руку не поднимешь!». И что бы вы думали? Через четыре дня Кондратьев упал, сломал правую руку и три недели ходил в гипсе. Мы ему, правда, завидовали, потому что он сидел в классе и ничего не писал – ни контрольные, ни диктанты, ничего. И домашние задания не делал. Все ему можно было.
Так что к Людкиным словам стоило прислушаться.
– Люд, – спросила я, – а почему ты думаешь, что будет война?
– Не знаю, – ответила она, – Я, просто, подумала, что если он эту собаку продаст, то будет война. И, вот, пожалуйста. Будет война, – повторила она решительно.
– А как ты думаешь, кто на нас нападет? Опять немцы?
– Наверное, – ответила Людка, – а, может, американцы. Да какая разница? Какая разница, кто твой враг?
«Если будет война, то папу призовут на фронт, – думала я, – А еще, мама мне однажды сказала, что во время войны немцы убивали всех евреев. Дед, правда, уцелел, и у него есть медали. А вот дядя Лео, бабушкин брат, пропал без вести».
Настроение у меня совсем испортилось. И у Людки, кажется, тоже. А потом она сказала:
– Знаешь, все это неспроста. Весь этот день, и то, что мы, вдруг, на Птичий рынок поехали. И эта кошка. Почему ее хозяйка именно к нам обратилась? Нет, это все не вдруг. Это поручение. Понимаешь? Мы должны эту кошку спасти. Уберечь от войны.
– Кошка, – обратилась она к сонной голове, – мы тебя защитим. Я беру тебя к себе.
Приехав на нашу остановку, мы расстались. А вечером Людка мне позвонила и сказала, что мама на кошку не согласна и велела ее из дома убрать. Немедленно.
Необходимо было что-то предпринять. И мы нашли выход. В Людкином доме не запирался подвал. Он и должен был стать кошкиным убежищем. Мы подобрали у продуктового магазина картонную коробку, положили в нее старое чистое полотенце. И отнесли все это туда. «Подвал – это даже и хорошо, – бодрилась Людка, – если будет бомбежка, то больше шансов, что кошка уцелеет». Потом мы принесли в подвал большую миску с водой, колбасу, которую Людка взяла тайком в холодильнике, и сухари. Хищники, правда, сухари не едят, но мы решили, что, если будет голод, то кошка не станет привередничать. Наконец, завершив все приготовления, мы перенесли в подвал кошку. Мы посидели с ней немножко, чтобы она не тосковала. А потом я предложила принести из дома горшок с аспарагусом – чтобы у кошки были витамины. И мы с Людкой отправились ко мне. А когда мы вернулись, с цветочным горшком, кошки в подвале не было.
– Это конец, – сказала Людка, – мы не справились с заданием. Жизнь этой кошки зависит от нас, а мы вот так вот взяли и ее упустили. Мы должны ее найти, слышишь? Во что бы то ни стало!
И мы отправились на поиски. Имени у кошки так пока и не было, поэтому мы не могли ее позвать. Мы, вдруг, оказались немыми. Мы обходили все дворы, заглядывали в подвальные окна. Так прошло несколько дней.
Наконец, мы поняли, что ничего не остается – надо зайти в тот дом, поискать там. Это был наш последний шанс. Дом был заброшенным строением, с пустыми черными окнами. Мы с Людкой никогда не решались туда заходить. Казалось, что там нас подстерегает опасность. Какая именно – было неясно. И это пугало нас еще больше. Но сейчас мы должны были выполнить поручение. Это была наша защита. Мы толкнули дощатую дверь и вошли. Со стен свисали клочья сырых обоев. Коридор вел в единственную, узкую комнату. Мы двигались на цыпочках. Войдя туда, мы увидели, что в доме кто-то живет. На полу валялись грязные одеяла. В центре комнаты стояла табуретка, а на ней – консервная банка с окурками. Над одним из одеял, на стене были приклеены картинки – улыбающаяся девушка в купальнике и молодой человек с азиатскими чертами лица и напряженным взглядом. Человек был полуголым. Людка сказала, что это – Брюс Ли, и что он очень здорово умеет драться. У них дома был видеомагнитофон, и она разбиралась. И вдруг, нам показалось, что мы слышим шаги. К нам явно кто-то приближался, шел по коридору. Мы перелезли через подоконник, прыгнули на мокрую землю и побежали, что было сил.
– Людка, – сказала я, – когда мы остановились, чтобы отдышаться, – а, может, эта кошка давно к своей хозяйке вернулась? Как Королевская Аналостанка. А мы только зря ее ищем.
– Ага, – отозвалась Людка, – вернулась. На троллейбусе к ней поехала. Конечно.
Но что делать дальше, было совершенно неясно.
А на следующий день Людка не пришла в школу. Я позвонила ей вечером, но ее мама ответила, что Люда к телефону подойти не может, и что гулять она тоже не пойдет. И бросила трубку. А еще через пару дней к нам в класс зашла завуч.
– Дети, – сказала она, – у Люды Ковалевой стригущий лишай. Заболевание это поддается лечению, но очень заразно. Им болеют домашние животные и люди. Передайте родителям, что, если они заметят на вас подозрительные пятна, следует немедленно обратиться в поликлинику и оповестить дирекцию школы.
Когда уроки закончились, я пошла к Людке. По дороге я внимательно осматривалась и даже несколько раз заглянула в подвальные окна – вдруг кошка все-таки найдется. Людка была дома одна. Ее побрили наголо, а голова была измазана йодом. У нее был какой-то новый взгляд – тревожный и колючий.
– А, это ты. Проходи, – сказала она. В комнате был включен телевизор. Показывали фигурное катание. Я села в кресло. А Людка – на диван. Мы молчали.
– Вот интересно, – сказала, наконец, Людка, – почему заболела именно я, а не ты? – она смотрела прямо перед собой.
– Люд, – мне было неловко перед ней, – ты выздоровеешь, у тебя отрастут волосы. Мы опять пойдем искать кошку. Мы ее найдем, вот увидишь. Ты знаешь, пока ты болеешь, я ее даже сама буду искать.
– Делай, что хочешь, – Людка пожала плечами, – ищи свою кошку. Если она тебе так понравилась.
Мне казалось, что эту фразу говорит кто-то другой, не Людка. Как будто у нас тут фильм на иностранном языке, и какой-то дурацкий переводчик вот так вот его озвучивает.
– А как же война? – спросила я.
– Ты совсем чокнулась? – сказала Людка.
На экране показался фигурист в облегающем черном комбинезоне. Он сделал несколько плавных, уверенных движений, как бы пробуя свою силу, напоминая себе о ней. Потом он разогнался – через все покрытое белым льдом поле, мимо слившихся в рябое пятно лиц зрителей – подпрыгнул и завертелся в воздухе.
– Люд, пойду я. У меня через полчаса рисование.
– Ага, – отозвалась Людка, – иди на рисование.
Через несколько секунд она добавила:
– Подожди меня в прихожей, я тебя провожу. Мама не узнает, что я уходила.
Я вышла в прихожую. Там было полутемно. У двери висело зеркало.
«А я ведь красивая», – подумала я вдруг. Мне захотелось рассмотреть свое отражение внимательно. И еще мне захотелось забыть о том, что я сейчас подумала.
Мы вышли из Людкиного подъезда и пошли по улице. Людка надвинула шапку на глаза. Мы взялись за руки. Мы никогда раньше с Людкой так не ходили. Людка смотрела вперед, она шла, чуть поджав губы. Я иногда смотрела на нее украдкой. Прохожих вокруг почти не было. Снег уже совсем растаял, и выглядело это так, будто вот-вот придет кто-то и сдернет с деревьев и с земли серые чехлы, и они станут, наконец, самими собой – зелеными, приветливыми.
Мы шли, взявшись за руки, и было ясно, что так будет всегда, и что все кончится очень скоро.
И все произойдет само собой. И никак иначе.
Дервиш
Я встретил дитя с огнем в руке.
«Откуда это пламя?», спросил я его.
Он дунул и пламя погасло, а он произнес:
«А ну-ка скажи мне, куда оно ушло»
Хасан из Басры
В том сентябре в нашем городе видели дервиша. Я узнала об этом от Виталика. Мы сидели на веранде и пили кефир, с вишневым пирогом. Над столом кружила оса, хотела пирога или еще чего-нибудь. Виталик наблюдал за ней, а потом сказал: «Только смотреть на нее – голова кругом идет. Как все в природе устроено, и все из-за пирога. Или из-за варенья – они его даже больше любят. Я, правда, тоже». А потом добавил: «А вот тут один чувак есть, он вообще крутится на месте, и всё; хоть полчаса может, хоть час. А потом улыбается как ни в чем не бывало и уходит. Другой упал бы давно и лежал бы, а он уходит. И не качнется».
Я сказала: «странно, никогда такого не встречала».
А Виталик: «само собой, не встречала. Он с неделю как появился. Во вторник его у рынка видели, в среду – на площади за вокзалом, а вчера – у старой водонапорной башни; нашел тоже, где кружиться, там же не ходит почти никто, только старухи бутылки собирают. Одежда на нем, говорят, какая-то очень странная. Длинное белое платье; когда он кружится, оно приподнимается – на уроке труда, у моей сестры, похожие шили. И шапка высокая – не то папаха, не то колпак поварской. А бабушка сказала, что, судя по описанию, это – дервиш, и что непонятно, откуда он здесь взялся. «И куда уйдет, – говорит, – тогда уж тоже непонятно». А, потом, представляешь, собралась и сама ушла. Она уже три месяца из дому не выходила. А тут достала из шкафа сумочку, замочком на ней щелкнула и говорит: «Ничего я, считай, в жизни не видела, но теперь вот хоть на дервиша посмотрю». И ушла. Полдня ее не было. Мы думали, она опять заблудилась. Уже искать ее ходили. Но потом она все-таки сама вернулась.
– И чего, – спрашиваю я, – что она рассказала?
Но Виталик сказал: «И ничего».
Потом он пошел домой, а я осталась на веранде. Близился вечер, солнце было мягким, а контуры листьев на кусте жасмина за окном – как будто вывернуты подкладкой наружу, как будто каждую черточку и каждый шов на них необходимо было запомнить, в этот именно день, хотите вы или нет. Я подошла к центру веранды. Простое вроде бы движение, но я попробовала не сразу. Мне все казалось, что я стою неустойчиво, и что должна быть точка – где-то на нашем полу, стоит лишь чуть-чуть сдвинуться с места – где равновесие дается гораздо проще. Наконец, я решилась: резко оттолкнулась левой ступней от половицы и сделала оборот на правой пятке, а потом еще раз, и еще. На шестой раз в ушах у меня зашумело, ноги стали подкашиваться, а стены и мебель, казалось, кружились теперь вместо меня, не желая останавливаться. Я легла на пол, закрыла глаза; всё остановилось, но не сразу. «Может, он от кого-то прячется, – думала я, – и к нам приехал переждать. Или, может, он городом ошибся, или его из поезда высадили. И теперь он кружится, чтобы деньги заработать, на билет».
…На следующий день, после школы, я встретила Виталика во дворе и сказала: «Поехали его поищем?» А Виталик ответил, что и сам уже хотел. Мы решили объехать весь центр города, у вокзала побывать, и у рынка, на всякий случай, тоже. У меня была «Украина», папина, а у Виталика «Орленок». Он умел ездить, заложив руки за спину. Просто закладывал их за спину и ехал себе, не знаю, как у него это получалось. А я, зато, умела ехать, положив ноги на руль. Руками, правда, за него тоже приходилось держаться, я кончиками пальцев дотягивалась. В общем, поехали мы. Дорога шла под уклон; велосипеды набрали скорость, взгляд успевал улавливать лишь фрагменты пути, и каждый такой фрагмент был как вспышка, охватывавшая все поле зрения – пятна мха на красной кирпичной пятиэтажке, сосна с висевшей на ней, еще с зимы, синей варежкой, бело-красный шлагбаум, «золотые шары», цветущие вдоль проволочной изгороди. Картинки не соединялись, но оставались в памяти – как будто кто-то оставил для нас записки, выбирал почтовые открытки, а мы спустя много лет обнаружили бы их случайно, и не могли вспомнить, от кого они. Имя знакомо, но к человеку не ведет. И так мы мчались; в колесных спицах свистел ветер. Мы проехали насквозь городской парк, мимо безлюдного в будний день рынка с зелеными киосками, потом сделали два круга по вокзальной площади – мимо кондитерской с деревянным кренделем в витрине; мимо часовой мастерской, в которой на дощатом прилавке лежали горки деталей, целые россыпи шестеренок, стрелок и циферблатов. Дервиша нигде не было.
Мы целую неделю его искали. После школы выходили во двор, уже с велосипедами. У нас было несколько маршрутов: ведь дервиш мог оказаться в любой точке города. Мы ездили к кинотеатру, заодно смотрели, не вывесили ли новые афиши; к пруду, где однажды почти утонул один мальчик из нашей школы – он потом две недели лежал в больнице; на поляну, которая за лесом – там было дерево с длинной тарзанкой, и на заброшенную промзону тоже ездили. Виталику нравилось там бывать, и всё из-за котельной. Это было одноэтажное кирпичное здание с высоченной трубой. Трубу было видно даже от нашего дома. Кирпичи котельной были всегда чуть сырыми, в любую погоду, будто она работала-работала, но так и не смогла прогреть собственные стены, а потом ее закрыли. Мы забирались на крышу – это было легко, там дерево росло, у самой стены, очень удобно. А потом мы подходили к основанию трубы, я подсаживала Виталика, он хватался за нижнюю железную скобу, подтягивался и лез по скобам вверх, как по лестнице. Виталик лез медленно, выверяя каждое движение: медленно отпускал рукой одну скобу, брался за другую, потом только переступал – так, чтобы на скобе оказывались обе ноги. Он говорил, что каждый день будет подниматься на десять ступенек выше, будет тренироваться, пока не сможет добраться до самого верха. Он сказал, что оттуда виден весь наш город, и по скоплению людей можно будет определить, где сейчас находится дервиш. И мы тогда быстро спустимся вниз, поедем туда и успеем.
В один из дней я тоже попробовала залезть. Это был один единственный раз, на исходе той недели. Виталик меня подсадил, я поднялась на несколько скоб, довольно высоко, посмотрела вниз. Это было так, будто я сбросила кожу, а вместе с кожей сошли все предметы; все, что меня окружало; все, что я привыкла видеть на своих местах – вот ворота, на их раме можно попробовать подтянуться; вот дерево, у него желтеют листья; вот шоссе, на нем нужно быть осторожным. Теперь они оставили меня и больше не должны были со мной считаться. Мое тело: напряженные плечи, вспотевшие ладони, колени, которые я не решалась полностью распрямить, – перестало быть им соразмерным; пустота начиналась сразу за ним, и то, что мог охватить взгляд, только подчеркивало эту пустоту, никак ее не заполняя. Я тогда спустилась на крышу, но руки у меня продолжали дрожать, а ноги были будто из резиновых шлангов сделанные. Мы сидели на крыше и молчали, а потом я сказала: «Слушай, а, может, это шутка чья-то или, вообще, недоразумение. Мы его ищем-ищем, и нет его нигде».
А Виталик: «Так его же бабушка видела. Не веришь, сама ее спроси».
И буквально следующим вечером так получилось, что я и спросила.
В тот вечер я зашла за Виталиком, но его дома не было. Я ждала его, сидела в пустой комнате, за столом, накрытым клеенкой, с синими мельницами. Мельницы были изображены то прямо, то вверх ногами, и казалось, что лопасти – это колесо, на котором катится деревянный домик, как циркач на одноколесном велосипеде. Я рассматривала мельницы, я любила их рассматривать, и вдруг услышала: «Ты кого ждешь, детка?»
Это Виталикова бабушка была; я не заметила, как она вошла в комнату. Она стояла у стола, в руке у нее было блюдце с чашкой. Я слышала, как чашка постукивает о блюдце, мелко дребезжит. На чашке был нарисован оранжевый петух. Я сказала:
– Я Виталика жду, внука вашего.
Она говорит:
– А, Виталика. Правильно. А я, вот, чаю решила попить.
Бабушка села за стол, налила себе заварку из чайника. Я заметила, что она смотрит в чашку. Там, наверное, было ее отражение, но я почему-то подумала, что она смотрит не на него, а куда-то вглубь, в подсвеченную настольной лампой коричневую воду; и взгляд ее уходит сквозь фаянсовое дно и проникает сквозь фаянсовые стенки, растворяясь в комнате, оседая на находящихся в ней предметах, делая их линии чуть более контрастными, чуть более ломкими.
– Ольга Карловна, скажите, а вы видели дервиша, тогда, ну, несколько дней назад?
Я, на самом деле, сама не ожидала, что у нее это спрошу; не знаю, как это получилось вдруг.
А бабушка посмотрела на меня спокойно так, и говорит:
– Видела, конечно.
Я тогда спросила:
– А какой он, он в белом платье был?
Она говорит, так удивленно:
– Нет, что ты, детка. Он в костюме был, стрелки на брюках так тщательно отглажены, будто только что из химчистки. И при галстуке. Приятно посмотреть, не то, что эти ваши джинсы, мешком висят.
– А вы уверены, что это был именно дервиш?
А она подперла рукой щеку, и говорит, будто уже меня и не слыша:
– Руки у него были подняты, голова наклонена набок. И лицо у него было такое…
– Какое? – спрашиваю.
– Доверчивое. Он кружился.
Она стала пить чай, и больше мы об этом не говорили. Я не решилась больше ее расспрашивать. А потом я ушла домой.
На следующий день мы снова собирались ехать на велосипедах, но я сказала: «Знаешь, мы дервиша, скорее всего, так и не найдем. Мне кажется, твоя бабушка кого-то приняла за него. Опять что-то перепутала». Виталик ничего не ответил мне, сидел, нахмурившись, смотрел себе под ноги – там муравьиная дорожка была как раз. А потом сказал, не глядя на меня: «Быть дервишем – это не просто так. Обычный человек так танцевать, конечно же, не может».
– Не может.
– Вот и я говорю, не может. Вывод тут только один. Их специально готовят, по особой методике, секретной, чтобы больше никто не знал и не кружился.
Я спрашиваю: «А что за секретная методика?»
– Существуют специальные школы – центры подготовки дервишей. Их там и тренируют, с детства.
– А что там делают?
– Школы находятся в долинах, среди гор – чтобы никто не подглядывал. Там стоят карусели, разной высоты и крутятся с разной скоростью. Самая большая карусель вращается так, что сиденья на длинных цепях летят почти параллельно земле. Сидений много, и на каждом – по ученику, в белом платье, и в шапочке их этой, чтобы голову не продуло. Так они и занимаются, в любую, причем, погоду – берут с собой на карусель завтрак, обед и ужин. А в конце им надо сдать экзамен – неделю на карусели продержаться, не слезая. После этого их производят в дервиши. И всё, и можешь кружиться, где угодно, без карусели уже.
Я говорю: «А кого в эту школу принимают?»
– Там надо три часа на карусели прокружиться, средней быстроты. Берут всех, у кого получится. Потом уже отсеивают.
Потом он встал с крыльца и сказал: «Я думаю, у меня бы получилось. Я, может, следующим летом туда и поеду. На интенсивные курсы».
А я не знала, получилось бы у меня, или нет.
И тогда Виталик говорит: «Это же очень просто выяснить. Пошли на детскую площадку, там же карусель есть».
И точно, есть же карусель! Мне даже обидно стало, что я сама не додумалась.
Площадка была в соседнем дворе. Там стояли качели – но на них нам было уже неинтересно раскачиваться. И карусель была, та самая. Она была с меня примерно высотой. Нужно было держаться за металлический поручень, разбегаться и виснуть на нем – карусель вращалась, а потом, постепенно, останавливалась. Когда-то карусель была красной, но теперь краска стерлась, сползала с рукоятей, осыпалась; под ней проступал серый, затертый до тусклого блеска металл.
– Если просто так разбежаться, эффект будет не тот, конечно, – сказал Виталик, – мы так сделаем: ты сначала разгонись, а я тебя потом буду дальше подталкивать. Тут же время важно, не только скорость.
– А я думала, мы вместе будем.
– Нет, у нас сейчас другая задача. Нам нужно выяснить, примут тебя в школу дервишей или нет. Чтобы ты это для себя точно знала.
Я положила руки на поручень, он был прохладным, но скоро это перестало ощущаться. Поначалу карусель поддавалась тяжело, несмазанные втулки скрипели и постукивали. Я налегла на поручень грудной клеткой, попыталась разбежаться, кеды проскальзывали по влажному песку, оставляли бесформенные следы. Наконец карусель начала разгоняться – первый круг, второй. На третьем кругу мне казалось, что ноги у меня стали легче, что я почти их не чувствую, могу двигаться безо всяких усилий, огромными шагами-скачками, как паук, как космонавты на луне – они, наверное, там тоже так передвигались. Надо было улучить подходящий момент. На четвертом кругу, я постаралась набрать скорость еще больше и, резко оттолкнувшись от земли правой ногой, повисла на поручне. И в эту же секунду Виталик с силой, от плеча взмахнул рукой и толкнул проносящийся мимо него поручень, потом следующий, и еще раз, и еще. Меня обдувал ветер, мне казалось, что он весь остается у меня в груди, копится там, будто в аккумуляторе, и было непонятно, что с ним делать дальше – нужно было и смеяться, и плакать, и кричать, и улететь, разжав кулаки, оторвавшись от прилипшего к ним металла. Виталик продолжал раскручивать карусель, все быстрее и быстрее. Все, что было вокруг – пятиэтажки, деревья, гаражи, изгородь школьного двора – все это стало вдруг плоским, я будто оказалась внутри кокона, состоявшего из упругого воздуха и мелькавшей рябой ленты. Я не знала, сколько прошло времени, но, для того чтобы выдержать экзамен, этого явно было недостаточно. В какой-то момент я почувствовала, что мне необходимо закрыть глаза, но, когда я их закрывала, мне начинало казаться, что карусель переместилась внутрь меня, кружится там и тянет меня вниз.
Я крикнула: «Останови!».
Виталик размахнулся и толкнул поручень.
– Останови, слышишь!
Он продолжал раскручивать карусель. Оборот следовал за оборотом. Я почувствовала, что больше не могу на ней удерживаться, пальцы разжимались, ухватиться крепче у меня уже не получалось.
И, это было невозможно, но мне казалось, что, проносясь мимо Виталика, я успеваю видеть его лицо; он смотрел прямо перед собой, его рот был полуоткрыт, глаза расширены, правая рука была отведена, поджидая приближавшийся поручень, готовая последовать за ним, слиться с ним, пусть на секунду, сообщить ему еще большую скорость, зарождавшуюся в этом взмахе локтя, в напряженности взгляда, в застывших зрачках; кисть левой руки была сжата в кулак, поднята – как у обороняющегося боксера.
– Останови карусель!
Еще оборот.
– Останови! Я так не играаааааю!
Я плохо помню, что произошло дальше. Я отпустила поручень. Он будто исчез у меня из рук. А потом я лежала на земле, кокон разъединился, снова распался на растения, постройки, на угловатые контуры детской площадки, на небо и на землю, но все это продолжало вращаться, сдвигалось вокруг меня, наскакивало, и не было больше ни «ближе», ни «дальше», ни «выше», ни «ниже».
Потом я увидела Виталика. Он спрашивал, не ушиблась ли я.
Я не ушиблась.
После этого случая мы уже не ездили искать дервиша. Когда мы встречались во дворе, мы говорили друг другу «Привет!», и каждый шел себе по своим делам. Да и говорить-то нам было особо не о чем. А летом Виталик с родителями и бабушкой уехали из нашего города. Насовсем. Я узнала об этом после их отъезда, в тот же день. Я тогда пришла домой, а мама сказала мне, что заходил Виталик, попрощаться. Он оставил для меня подарок. Это была шкатулка, я ее у него уже видела. Эту шкатулку ему однажды бабушка купила, когда еще в отпуск ездила, в Евпаторию. В шкатулке был секретный ящик, и, если завести ключик, на крышке крутилась пластмассовая балерина. Виталик этой шкатулкой не пользовался. Он говорил, что балерина – это для девочек, и вообще непонятно, зачем ему бабушка ее привезла. А мне шкатулка очень нравилась.
Я поставила шкатулку на книжную полку. В первый год я хранила в секретном ящичке пистоны и патрон от охотничьего ружья, который мы однажды нашли в парке. Потом я хранила там сигареты и зажигалку – к шкатулке все привыкли, и родителям не приходило в голову ее открывать. Ее, казалось, вообще не замечал никто.
…Однажды я пошла в булочную, за чаем. В кондитерском отделе я заметила на полке желтую картонную коробку. Коробка была покрыта пылью. Видимо, она стояла на этой полке уже много времени, но я почему-то ее не видела. По крышке полукругом шла надпись, стилизованная под арабскую вязь: «Танец дервиша». Под надписью был нарисован человек в длинном белом развевающемся наряде. На нем была шапочка, похожая на поварскую, но не поварская. Его руки были подняты, а голова наклонена к плечу. У него были длинные усы.
Внизу крышки, мелким, обычным шрифтом было напечатано: «Конфеты рахат-лукум. Пр-во Турция».
У меня как раз хватило денег – я купила конфеты и принесла домой. Я открыла коробку – внутри лежали ссохшиеся шарики, похожие на глиняные катыши. На боковой стенке я увидела расплывчатый синий оттиск с датой: срок годности истек три года тому назад. Вечером я оторвала от коробки крышку и аккуратно вырезала оттуда дервиша. Потом я взяла с полки шкатулку, отвинтила от ее крышки балерину и приклеила дервиша на ее место. Клеем «Момент». Балерину я положила в секретный ящичек.
Не сказать, что очень часто, но, бывает, я достаю с полки шкатулку, завожу ее и ставлю на стол. Играет музыка – звенят механические колокольчики, и на крышке крутится дервиш. Я сижу перед ним – он поворачивается ко мне то белым нарядом, то силуэтом из неокрашенного картона. Я всегда жду, пока закончится завод, и только потом возвращаю шкатулку на место. Рядом со столом висит зеркало, но я наблюдаю, как танцует дервиш, и не смотрю на свое отражение.
Чужие вещи
Ночью были фейерверки, днем – воздушные змеи. Воздушных змеев продавали стриженные почти под ноль мальчишки в застиранных свитерах. Как только светофоры переключались на красный, мальчишки появлялись на перекрестках, сновали между машинами, прижимались лбами к автомобильным стеклам, старались встретиться взглядом с шоферами. Змеи были почти в их рост, разноцветный нейлон хлопал на ветру – в тот год змеи были оранжевыми и темно-синими. Потом сигнал светофора менялся, машины трогались с места, так быстро, что все движения за стеклами оставались незавершенными – ладони почти касались бокового стекла и исчезали, оранжевое полотнище застывало в потоке ветра, отражавшееся в окне дома напротив солнце вспыхивало и сворачивалось – окно становилось непрозрачным.
Получается, что я знал его всегда. Но это не так. Я просто помню себя в его квартире: скоро вечер, завтра в школу, я один, я – здесь. Он говорит, что я ошибся, что я зашел не в тот подъезд, и что даже этажи – мой и его – не совпадают, поэтому он не понимает, с чего вдруг я позвонил именно в его дверь. Окно его комнаты выходит на школьный двор, за двором – гаражи, я видел там дохлую ворону, но об этом лучше не вспоминать.
– У меня есть конфеты, – говорит старик, – ты любишь конфеты?
Он встает, тяжело опираясь на спинку стула, идет, шаркая, мелкими шажками, нащупывает в кармане ключ, открывает дверцу буфета – я замечаю царапины вокруг замочной скважины. Он возвращается с тарелкой. У тарелки надколотый ободок, на ней лежат конфеты в красно-желтых фантиках.
– Чего бы тебе еще показать?
Я ем конфету. Он растерян, ему неловко со мной, я это вижу. Старик оглядывает свою комнату, потом, будто на что-то решившись – как если бы он долго смотрел на фотографию реки или ущелья в горах, а потом увидел бы снимок тех же берегов и тех же гор, но с фигуркой путешественника на переднем плане, и вдруг понял бы, насколько они огромны или, наоборот, вполне соизмеримы с человеческим телом – медленно нагибается и достает из под кровати чемодан. Замки чемодана выломаны, образовавшиеся отверстия забиты скомканной бумагой. Старик открывает крышку. Там ворох одежды. Под ним – стопка писем. Бумага такая ветхая, что кажется, если снять со стопки верхний листик и подержать его на весу, бумага осыплется, и это произойдет так быстро, что пересекающие ее чернильные строчки на несколько секунд останутся в воздухе, одни, а потом осыплются тоже. Еще там есть кружевная салфетка, воротник из истертого рыжего меха, резиновый сапог, деревянные счеты, театральный бинокль с выпавшим стеклышком. Он сдвигает вещи к бортику чемодана. На обнажившемся участке шелковой обивки видна прореха. Старик засовывает туда руку, почти по локоть, потом распрямляется, поворачивается ко мне. В руках у него плоская деревянная коробка.