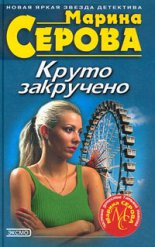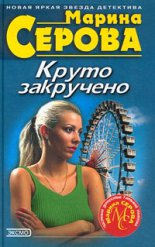Клуб любителей диафильмов (сборник) Хеймец Нина
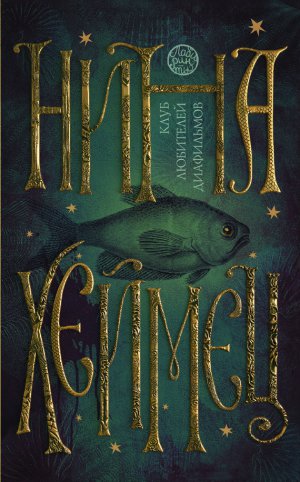
Они оба не были людьми веселыми, но каждый из них не смеялся по-своему.
Дед был жизнелюбив каким-то упрямым, мрачноватым жизнелюбием. Был впечатлителен, вспыльчив и недоверчив. У него было много приятелей, дальних знакомых. Друзей его я не помню.
Он заботился о своем здоровье. Зимой катался на лыжах в Измайловском парке. Вычитывал о каких-то чудодейственных диетах – ложку постного масла натощак и луковицу перед ужином – и увлеченно им следовал. Ездил в санатории. Читал статьи о здоровом образе жизни, подчеркивал в них особо полезные места. Помню книгу с заголовком «Жить до 180». Увидев ее, я и не подумала улыбнуться.
Я пытаюсь вспомнить выражения лица бабушки. Мне вспоминается лишь одно. Такие лица у женщин на картине «Суббота» Андре Дерена, в Пушкинском музее. Лицо человека, который знает, как надо, собран и тяготится собственной привычной собранностью. Лицо кажется невозмутимым. Глаза малоподвижны. Уголки губ опущены.
…Мама рассказывала мне, что однажды, еще до моего рождения, на бабушку напал бык. Это случилось на даче. Она шла с железнодорожной станции в поселок, в руках у нее была красная шерстяная кофта. Бык пасся неподалеку. Цвет кофты ему не понравился. Он решил атаковать бабушку и помчался на нее, выставив рога вперед. Бабушка не пыталась убежать. Когда бык приблизился к ней почти вплотную, она, как заправский тореадор, сделала шаг в сторону и подставила быку сумку. Он ударил рогами по сумке и понесся дальше. «Ты не знаешь нашу бабушку!» – заканчивала свой рассказ мама.
Она была права. Я действительно не знаю бабушку. И деда я тоже не знаю.
Однажды, когда я была уже подростком, бабушка обмолвилась, что очень любит Шуберта. Я удивилась. У них дома не было проигрывателя. На концерты она тоже не ходила. Выражение ее лица на секунду изменилось. Это выглядело так, как если бы застывшая в янтаре бабочка вдруг ожила и попробовала пошевелиться. Шуберт принадлежал к другой ее жизни. Не к той, в которой я ее застала. Там были уроки французского, нарядные платья, подружки… еще там был старший брат Лео, блестящий Лео, пропавший без вести в самом начале войны.
«Наш учитель иврита обожал Лео, – рассказывала мне бабушка, – Он собирался уезжать в Палестину и умолял, упрашивал папу с мамой отпустить брата с ним. Говорил им: «У вас такой замечательный мальчик. Такой талантливый. Отправьте его со мной. Я о нем позабочусь. Он там расцветет!». Родители не согласились. Они боялись. Говорили, что в Палестине опасно. Опасно!» – бабушка качала головой.
…Она хранила несколько писем, которые Лео успел написать с фронта. Фиолетовые строчки легко бежали по ветхим пожелтевшим страничкам. «…спать нам приходится под открытым небом. Мы зарываемся в стога сена. Должен сказать, что эти спартанские условия влияют на меня благотворно. Я уже давно не вспоминал о своем здоровье…» Я не знаю, где теперь эти письма.
Каждый вечер, в семь часов, бабушка включала телевизор и усаживалась в кресле, под торшером. Дед тоже приходил в комнату, садился на стул, ставил локоть на полированный стол, прикладывал полусогнутую ладонь к уху и подавался вперед – он плохо слышал.
Показывали передачу «Сегодня в мире».
«Ужас-ужас!» – потрясенно шептала бабушка.
«А!» – сдавленно восклицал дед.
В комнате царила гармония.
Я не помню, чтобы бабушка с дедом ссорились.
Разговаривали они тоже очень мало. Может быть, они не хотели говорить в моем присутствии. «Мэн дарф ништ рэден![8]» – останавливала бабушка деда, указывая на меня глазами. Эти слова долго сливались для меня в загадочный «мэдафнэшт».
А может, слова были им уже не нужны.
Однажды дед исчез. Ушел за покупками и не вернулся домой. На третий день поисков, почерневшая, осунувшаяся бабушка, подчинившись какому-то наитию, поехала на дачу. Дед полол клубнику. «Понимаешь, Тиля, – сказал он жене, – я шел и вспомнил, что забыл перекрыть в саду воду. Поехал сюда, думал сразу же и вернусь. А тут – столько работы. Пришлось задержаться». Я не знаю, что ответила ему бабушка. Может быть, она не сказал ему вообще ничего. И лицо ее оставалось обреченно-невозмутимым. С таким же лицом она, наверное, подняла пробитую бычьим рогом сумку и продолжила свой путь на дачу в сгущавшихся сумерках.
Бабушка собирала библиотеку из подписных изданий, аккуратно расставляя в шкафу полученные по открыткам из книжного магазина томики. Вальтер Скотт был красным в мелких черных лилиях, Марк Твен – синим, Диккенс – темно-зеленым, Алексей Толстой – светло-желтым, а Конан Дойль – черным с красными буквами. Когда дед шел спать, он брал из шкафа книгу – всегда Стефана Цвейга или Мопассана. Еще он любил читать газету «Факты и аргументы».
У бабушки в шкафу лежала специальная сумочка – чтобы брать с собой в театр сменную обувь. Был у нее и театральный бинокль. Мне разрешали в него смотреть.
Я не помню, чтобы бабушка с дедом ходили в театр или кино. Они выходили вместе из дома только, чтобы пойти в гости к родственникам. Бабушка очень любила своих родственников. Интересовалась их делами. Писала им письма. Сопереживала им. Родственников становилось все меньше.
Бабушка умерла в восемьдесят четыре года. Когда ее не стало, с дедом случился микроинфаркт. До этого он никогда не жаловался на сердце.
После ее смерти дед увлекся банковскими операциями. Отдавался им со страстью диккенсовских героев из собранных бабушкой по подписке томиков в тусклых переплетах. Он распределял свои немногочисленные сбережения по разным банкам, внимательно следя за процентами. Когда случился дефолт, мы боялись, что он этого не переживет. Но все обошлось. Вероятно, умение перелистывать страницу и было истинным секретом его здоровья.
Дед пережил бабушку на десять лет. Он приехал в Израиль, обзавелся новыми костюмами и, прикрепив к ним ордена, ходил на заседания клуба ветеранов Великой Отечественной. У него появилось много знакомых. «Здорово, Арон!» – кричали ему приятели через улицу. «Приветствую!» – отвечал им дед, подняв палку для ходьбы. Как у многих слабослышащих людей, у него был очень громкий голос.
Однажды я слышала, как он звонил кому-то в Москву.
«Михаил, алло! Алло! Михаил, это ты? – кричал в трубку дед – Как дела? Скажи, Майданек умер? Майданек умер? А ты как?»
Мне стало страшно.
Это была фамилия их общего приятеля. Я не сразу это поняла.
Майданек был жив.
День рождения Екатерины Аркадьевны
И обязательно не забыть ключи.
Екатерина Аркадьевна взглянула на себя в зеркало. Брезентовый дождевик, резиновые сапоги. Может быть, не изящно, как некоторые скажут, но зато практично. Для поездки на дачу лучшей одежды еще никто не придумал. И сумка на колесиках – тоже прекрасная идея была. Без нее даже сложно представить, как бы она со всем управилась. Прием гостей – дело нешуточное. И о чтении в электричке Екатерина Аркадьевна тоже позаботилась. По дороге туда – «Аргументы и факты», свежий номер. На обратном пути, когда уже хуже сосредотачиваешься – «Наш сад». Екатерина Аркадьевна еще раз осмотрела квартиру, проверяя, все ли в порядке, взяла сумку и вышла из дому.
Электричка прибыла точно по расписанию. Дорога от железнодорожной станции была безлюдной – будний день, конец октября. Окна в успевших отсыреть домиках были зашторены тюлевыми занавесками. За поселком асфальтовое покрытие обрывалось; дорожка выскальзывала из под него и, оставив позади поляну с заброшенной водонапорной башней, отклонялась в сторону леса. Идти надо было вдоль опушки. Тропинка то почти терялась в подступивших деревьях, то отдалялась от них, будто кокетничая, но лесную кромку так и не пересекала – незачем.
И вот, за поворотом, ее дом. Он громоздился на садовом участке, накрывал его собой, как притаившаяся рябая птица. С северной и южной сторон дом подпирали две веранды. А над ними, под островерхой крышей – второй этаж с фигурным балкончиком. Балкончик придумал папа. Они приехали тогда на дачу, и папа вдруг сказал: «Всем наш дом хорош, но чего-то в нем недостает». И начертил этот самый балкончик, и сам же его и построил, за три дня, буквально. Екатерина Аркадьевна очень хорошо помнила папино лицо. Как будто человек однажды чему-то обрадовался, повеселел, улыбнулся; а потом и обстоятельства менялись, и настроение. Но черты лица оставались неизменными – как забытая побледневшая афиша, из-под которой проглядывают другие афиши. «Надо бы обновить на балконе перила, – подумала Екатерина Аркадьевна, – весной сезжу к строителям, куплю у них несколько досок»
Она достала из сумки ключи. Повозилась с замком у калитки. Дверь дома поддалась легко. Екатерина Аркадьевна поставила сумку у стола, спустилась в погреб – за яблоками и клубничным вареньем. Надо было поторопиться – до наступления сумерек растопить печку, вымыть полы и накрыть на стол, чтобы потом спокойно пообщаться с гостями, ни на что не отвлекаясь. Она вытащила из сумки бутылку вина – сама делала, из черной смородины, по папиному рецепту. Потом настала очередь свертков: блинчики с мясом и творогом, баночка с винегретом, пирожки с капустой – тмин, вот секрет начинки. Тмин, а никакой не укроп!
…От настольной лампы с витражным абажуром, маминой, по стенам и потолку шли разноцветные блики – зеленые, красные, фиолетовые. И папину настольную лампу она включила, направив свет на отштукатуренный простенок. Получилось точно, как надо. Шестой час. Пора. Екатерина Аркадьевна села за стол, откупорила бутылку, положила пробку в специальное блюдечко – чтобы та не скатилась со стола, налила вино в хрустальную рюмку и посмотрела сквозь нее на свет ламп – сначала маминой, потом – папиной.
– Ну, с днем рождения! – сказала она.
Екатерина Аркадьевна отхлебнула вино, тщательно вытерла губы салфеткой и осмотрела стол. Столько еды, не знаешь, с чего и начать.
Это мамина идея была, на самом деле. Отмечать день рождения на даче. Екатерина Аркадьевна тогда училась в шестом классе. Осень в тот год выдалась необыкновенно теплой. Скоро уж снег выпадать должен, а на дворе – бабье лето. Вот мама и сказала, что такой день лучше всего провести за городом на даче. И что всех ее подружек можно пригласить туда. И что будет картошка с грибами. Они условились встретиться на вокзале. Прождали с мамой на перроне почти час, но никто не пришел – чего и следовало ожидать, собственно. Они тогда всё-таки поехали на эту дачу. Мама нажарила сковородку картошки с грибами – у них были, сушеные, висели на веранде. Екатерина Аркадьевна очень любила грибы. Ей тогда было так вкусно, что она почти перестала расстраиваться. Но день рождения они на даче больше не отмечали. А потом, в институте уже, повторилась та же история. Только папы с мамой уже не было. И гости были приглашены в ее городскую квартиру. Но так получилось, что никто не пришел. Совпадение, можно сказать. Будний день, все заняты. А на следующий день рождения Екатерина Аркадьевна отпросилась с работы и уехала на дачу. Решила там его впредь и отмечать. Там спокойно, и проще собраться с мыслями. И с гостями вопрос она тоже решила. Картошку с грибами она, правда, не жарила. Как ни пыталась – всё равно получалось как-то не так.
Екатерина Аркадьевна вынула из сумки папку. Смахнула пыль с выцветшего зеленого коленкора.
– Добрый вечер, Валентина Степановна! – сказала она, доставая из папки первую фигурку. Плотный черный ватман. Почти картон. Девочки в магазине канцтоваров для нее откладывали. Не за просто так, конечно, – Милости просим!
Екатерина Аркадьевна поднесла фигурку к настольной лампе. На простенке образовалась четкая тень. Круглые щеки, прямой острый нос, шиньон. Валентина Степановна просто создана была для силуэта. Силуэтогенична, если есть такое слово, конечно.
– С днем рождения, Екатерина Аркадьевна, – произнесла Валентина Степановна скрипучим голосом, – спасибо за приглашение.
– Не за что, – ответила Екатерина Аркадьевна сухо.
– Вы уж не сердитесь, Екатерина Аркадьевна. Поймите и меня. Я же всегда так поступаю. Покупатель не смотрит на весы – обвешиваю. Смотрит – обсчитываю. Я же не со зла тогда. Я вас очень уважаю. Вот вы заходите, я сразу себе говорю – эта женщина умеет товар выбирать, не лишь бы.
– Ладно, – смягчилась Екатерина Аркадьевна, – не надо так переживать. Все мы люди, как никак.
Потом были Лидочка и Паша, из дома напротив. У Лидочки вот-вот должен был родиться ребенок, и дома, готовясь к поездке, Екатерина Аркадьевна вырезала ей аккуратный круглый живот. Она очень старалась – чтобы линия была точной, без заусенцев. Раньше Екатерина Аркадьевна вырезала как все – держала лист бумаги неподвижно, создавая силуэт движением ножниц. Но потом она обнаружила, что гораздо удобнее держать неподвижно ножницы, поворачивая лист между острыми створками. Как если бы бумага сама знала, что из нее должно получиться. А Екатерина Аркадьевна лишь направляла её, не давала отвлечься.
Екатерина Аркадьевна поднесла Лиду к лампе, но, поколебавшись, положила ее на стол. Чего-то явно не хватало. Екатерина Аркадьевна достала из папки запасной лист – никогда не знаешь, с чем столкнешься. Ножницы она тоже всегда возила с собой, в сумке. Екатерина Аркадьевна вырезала из бумаги запятую и, достав из ящика буфета булавку, приколола запятую к Лидочкиному животу.
– Привет, малыш! – сказала она, осторожно погладив запятую безымянным пальцем. От прикосновения клочок бумаги начал крутиться.
– Жаль, что вы со мной не здороваетесь, – обратилась к Лидочке Екатерина Аркадьевна, вновь поднося ее к лампе, – и муж ваш тоже мог бы быть повежливее. Я же хорошо к вам отношусь. У вас в окнах поздно горит свет, но мне это не мешает.
– Не обижайтесь на нас, Екатерина Аркадьевна, – смутилась Лидочка, – Мы неправильно поступали, чего уж там говорить. Заходите к нам, попьем чаю.
– Как-нибудь зайду, – неопределенно пообещала Екатерина Аркадьевна.
А потом был Иван Викторович из третьего подъезда, с эрдельтерьером на поводке:
– И не спорьте со мной, такую собаку нельзя пускать на самотек! Эрдельтерьеры, конечно, тугодумы, но если уж чему-нибудь научатся, то потом всю жизнь это помнят. Не то, что овчарки! Эти с первого раза все понимают, а со второго – забывают.
– Вы очень точно заметили, Екатерина Аркадьевна, очень точно!
Потом, Клара Алексеевна из аптеки, Варя из домоуправления, продавцы из окрестных магазинов, врачи из районной поликлиники, соседи, чьих имен она даже не знала, случайные попутчики с запомнившимися лицами. Поговорив с последним гостем, Екатерина Аркадьевна сложила бумажные фигурки обратно в папку, завязала тесемки бантиком и поднялась на второй этаж. К стене, той, что напротив балкончика, были привинчены полки с ровными рядами папок. На каждой был указан год. Достав из кармана заранее приготовленный фломастер – синий, синий цвет выцветает медленнее, – Екатерина Аркадьевна вывела на корешке папки цифры: 1988. На полке как раз оставалось место. «Тридцатая, – сказала Екатерина Аркадьевна, – юбилейная».
– До свидания, – произнесла она, немного помедлив. Потом Екатерина Аркадьевна спустилась на первый этаж. Перед возвращением нужно было успеть прибраться.
Вечером заметно похолодало, и Екатерина Аркадьевна жалела, что не взяла с собой второй свитер. Прошел дождь, Екатерина Аркадьевна старалась обходить лужи, едва заметные в свете редких фонарей. «Как много тут листьев, – подумала она вдруг, – И все уже потемнели». Она остановилась, посмотрела по сторонам. Под ногами, на повороте тропинки, выхваченном светом фонаря, и дальше, вокруг, куда ни взгляни – земля была застлана листьями – кленовыми, дубовыми, осиновыми, упавшими с еще каких-то, малознакомых ей деревьев. Листья были уже совсем осенними, одинакового цвета. Или это только вечером так казалось.
«Как будто кто-то силуэты вырезал, множество силуэтов, словно тренировался, а потом всё здесь оставил, зачем-то». Она вдруг услышала негромкий стук – звук железки звякнувшей об камень. Ключи! Екатерина Аркадьевна сунула руку в карман дождевика. Так и есть! Ключей в кармане не было. Она наклонилась и стала шарить руками в листве. Шерстяная шапочка съехала на глаза, спина затекла, Екатерина Аркадьевна попыталась, было, разогнуться, перевести дух, но пластмассовый каблук заскользил вперед, и она упала на спину, навзничь, раскинув руки, глухо ударившись затылком об глинистую тропинку. «Я и сама как лист дерева, в этом наряде, – подумала Екатерина Аркадьевна, – меня и не отличишь». И вдруг она почувствовала, как где-то в глубине грудной клетки, в той ее точке, где так тяжело и так пусто, сформировался бумажный комочек. Он становился все ощутимей, а потом вырвался наружу, и – как тетрадный листок, из которого складывали оригами, но отчаялись, махнули рукой, сдались, распрямили – развернулся в воздухе, разгладился и оказался, по форме, как лист дерева, похожий на кленовый, но все-таки и не кленовый: контур немного другой. Поднявшийся ветер подхватил его, поднял с земли сухие листья, закружил их, увлекая вверх, за кроны деревьев, к облакам, в стынущий воздух, подсвеченный бликами ночных рек, прихваченный светящимися ленточками электричек, в которых возвращающиеся домой пассажиры всматриваются в полустанки за темными стеклами – не задремать бы, не задуматься, не пропустить бы.
Корень одуванчика
И тогда ты сказала: «Давай поиграем в “наоборот”». Было самое начало июля, мы сидели на шпале, за старой водокачкой. Шпала была совсем потемневшей, ты всегда говорила, что, если ее перевернуть, то там окажутся червяки, пауки, улитки – все, кого мы стараемся не видеть, и они и не показываются. Мы увидим их, и шпала развалится от времени. Мы ее не переворачивали, приходили и сидели на ней, каждый год. Я считала, что тут собирались строить железную дорогу, а потом передумали, а шпала осталась лежать. Было утро, солнце висело над правым виском, приходилось щуриться одним глазом. Ты говорила, что один глаз видит, а другой – предполагает. Сначала мы просто играли в антонимы. Я говорила: «колодец», а ты: «озонная дыра»; я: «солдатики», ты: «Гималаи»; я: «кровь», ты: «пустота»; я: «влюбиться», ты: «дура, что ли?!»
Мы замолчали, смотрели, как поднявшийся ветер сдувает с одуванчиков белые парашютики, они дрожат в воздухе, блестят на солнце – целые полки, армии, а потом их сметает, уносит вместе с воздухом, и на месте исчезнувшего воздуха тут же возникает новый, с новыми парашютиками. Потом мы пошли домой, а вечером ты взяла мамину краску и покрасила волосы в черный цвет. И так и пришла ко мне в гости, с черными волосами, и в мамином же белом свитере. Это, конечно, был шаг навстречу, потом что черный свитер у меня был, и очень мне, кстати, нравился, а волосы у меня и так светлые – но я все равно нашла в ящике письменного стола белый мел и их покрасила. Когда мы вышли на улицу, начался дождь. У меня по лицу текла штукатурка, и ты говорила, что еще немного, и я пойду трещинами. А по твоему лицу текли сумерки, и я дразнилась, что у тебя во лбу вот-вот зажгутся звезды, Луна и Юпитер. «И в каждой ноздре – по фонарю», – добавляла ты, и мы чуть не падали от хохота.
Потом была осень, и ты была такая красивая. Ты смеялась и говорила: «Больше легкости, тебе не хватает легкости!». Я тогда закричала тебе что-то обидное, а потом я не оглядывалась, а если бы оглянулась, то, наверное, увидела бы, как твое лицо становится удивленным и там, в этой точке, все начинает меняться, и вот это уже не лицо и не тело, а треугольники, овалы, пересечения линий, которые уже больше ничто не держит, и все разъединяется, разлетается – все эти клочки, листки, обрывки: ветер их уносит, и, когда приходит новый воздух, в нем ничего нет. Я часто думаю, что, обернись я тогда, может быть, все бы было иначе. Бывает же – вроде бы только поворот головы, а уже совсем другие линии напряжения, давление воздуха, направление ветра. Но я не обернулась.
Потом пришла зима. Ты писала про новый город, про мосты, про то, как у тебя на балконе, на десятом этаже, поселился снегирь и жил себе, но однажды исчез. На перилах, где он обычно сидел, ты нашла апельсин – он теперь лежит у тебя на подоконнике, и ты не знаешь, что с ним делать. Мне показывали твои фотографии. Их было много, и на каждой из них ты была немного другая. А потом были все эти разговоры. Мол, кто знает, может, и не несчастный случай. Низкие перила, да, не удержала равновесие, но, вы же сами понимаете – неустроенность, алкоголь, кто ж теперь разберет. Однажды я поняла, что не могу тебя себе представить.
Ты летела над городом, значит, мне нужно было приземлиться в пустыне. Уговор есть уговор. И, прикинь, ехала в пустыню, а оказалось, что весной тут – все зеленое, и цветов каких только нет – красные, синие, фиолетовые. Даже одуванчики цветут, тут их целые поля. Ты бы заценила, мы бы смеялись до упаду, но тебя нет. И, кстати, в правилах пробел. Если тебя нет, получается, я должна все время быть. Я не знаю, как с этим поступить, но я живу, здесь. У меня теперь длинные темные волосы, и я ношу светлые платья. По вечерам тут поднимается ветер, воздух становится оранжевым. Идешь, а вокруг тебя вихрь – сухие растения, обломки, обрывки, скелеты животных и птиц, мелкие камешки, песок, звезды, скалы. У меня уже чемодан камней и перьев, и я никак не решу, что с ними делать.
Клаус и Фрида
Эту игру она придумала еще в детстве. Участников было двое – она и тот игрок.
Правила были простыми. Когда в ее жизни должно было что-нибудь произойти, что-нибудь, что казалось ей важным, она должна была предугадать, что именно случится. Назвать все возможные варианты. Не упустить ни одного поворота событий.
Она расставляла ему ловушки. Плела сеть. Перекрывала возможные ходы.
Тот игрок должен был придумать какой-нибудь другой вариант.
Если он использовал ход, придуманный ею, это было нарушением правил.
Но такое происходило редко.
Она относилась к нему с уважением и верила, что он отвечает ей тем же. Ей не хотелось думать, что он к ней снисходителен.
Иногда она решала дать ему фору. Оставляла какой-нибудь вариант непродуманным. Не замечала какую-нибудь деталь.
Дело ведь было не в выигрыше. Вернее – не только в нем.
А потом, с течением лет, игра их изменилась. Правила остались теми же, но не было уже ни легкости, ни азарта.
Был страх. Страх охватывал ее, сковывал, заставлял смотреть в будущее. Она не могла не смотреть – так привязанный к креслу Алекс в «Заводном апельсине» вынужден был наблюдать происходящее на экране. Она играла, чтобы защититься. Поставить заслон, не допустить.
Обычно ей это удавалось.
Ей было неловко перед ним, тем игроком. Она теперь старалась не обыграть его, а обмануть. В происходящем не было его вины, она это чувствовала. Просто, условия изменились.
С Клаусом во дворе был знаком каждый, а Фриду никто никогда не видел.
Дома у них тоже никто не бывал. Дверь всегда открывал Клаус, но посетителей в квартиру не пускал, выходил к ним на лестничную клетку. И к телефону тоже всегда подходил он. Или – никто не подходил.
Вот и говорили, что никакой Фриды нет, что Клаус живет один, а жену свою он зачем-то выдумал.
Но однажды, позвонив Клаусу по телефону, один из соседей услышал незнакомый голос, женский. Голос был тихим и монотонным: «Клауса нет. Позвоните попозже».
Клаус везет из города книжки – для Фриды. Он познакомился с владельцем книжного магазина. Заговорил с ним случайно. Или, скорее всего, этот человек заговорил с Клаусом. С Клаусом, бывает, заговаривают совершенно незнакомые люди. У его взгляда – три оболочки, как будто одну за другой снимают разноцветные линзы. Поначалу лицо его кажется удивленным. В его удивлении нет настороженности, скорее – доверчивость. Потом – взгляд наблюдателя. Взгляд, от которого ничего не ускользает. Он, бывает, заходит просто так к соседям. Если человек тяжело заболел, или еще какое-нибудь несчастие случилось, или – просто тяжело кому-то, запутался. Клаус заходит вдруг, без приглашения, как бы между прочим, по какому-нибудь незначительному делу. Приносит с собой гостинец – яблоки с рынка или печенье. А затем – третья линза. Жесткость, где-то в самой глубине глаз. Граница, черта. Никто никогда не повышает на него голос. Никто не осмеливается расспрашивать его о Фриде. Фрида – за чертой. И о своем детстве он тоже никогда никому не рассказывает. Если ему задают вопросы о прошлом – кто-нибудь малознакомый, знакомые знают, что Клаус таких разговоров не любит – он просто не отвечает. Молчит и смотрит куда-нибудь в сторону. И молчание его не вызывает неловкости. Кажется, что он просто задумался, что дело не в собеседнике, а в каких-то его, Клауса, мыслях. Иногда он даже чуть улыбается, сам себе.
Клаус владеет ивритом и русским. У него едва заметный акцент. Он говорит, что не знает немецкий язык. «Что? Немецкий? Я его не знаю». Иногда вместо «не знаю» он говорит «забыл».
Клаус приносит Фриде книжки, но она их не читает. Открывает рассеянно, пролистывает несколько страниц, а потом ставит книгу обратно на полку. Там они и стоят. Вот – про Сонечку, а вот – про Франсуазу. Потом книжку достает с полки сам Клаус. Он смотрит на нее чуть удивленно, как будто обнаружил в доме незнакомую вещь и не может вспомнить, как она здесь оказалась. Но незнакомой вещи должно найтись применение. Клаус читает Фридины книжки – перед сном и в автобусе, когда едет на рынок.
Клаус открывает почтовый ящик. Там – счет за воду и письмо из клуба пенсионеров железнодорожной компании. Его приглашают на торжественный обед – клуб отмечает свой юбилей. Он пойдет туда, его посадят за столик в центре зала. Бывшие коллеги будут подходить к нему, пожимать ему руку и спрашивать, как дела. Генеральный директор компании тоже подойдет к их столику – специально, чтобы поздороваться с Клаусом. В шесть часов Клаус скажет, что ему пора домой – к жене. Никто не станет его расспрашивать, никто не будет уговаривать его остаться.
Больше в почтовом ящике ничего нет. Да Клаус и не ждет ни от кого писем. Фриде письма тоже не приходят. Клаус поднимается по лестнице. Из-за их двери слышится радио. Он различает слова песни: «В наших улицах есть особая магия. Если ты один, это не мешает». Он вставляет ключ в замочную скважину.
Клаус всегда возвращается домой под вечер. Приезжает на автобусе и идет вдоль шоссе в скорых иерусалимских сумерках. Фрида не любит бывать вечером одна. Она говорит, что боится за него. Клаус не может ее успокоить. Он приезжает домой. В городе он не ест – Фрида ждет его с ужином. Она варит картошку и жарит куриный шницель. Больше она ничего не готовит. Клаус сидит за столом и смотрит на противоположную стену. Там висит фотография Фриды – семидесятые годы, она только что приехала в Израиль. У нее высокий лоб и длинные черные волосы. Она смотрит на фотографа внимательно, не улыбаясь.
Клаус выходит на балкон. Их дом – длинная пятиэтажка, на бельевых веревках хлопают на ветру разноцветные простыни. Он вытряхивает из целлофанового пакета остатки хлеба – хлеб не должен пропадать. Клаус смотрит вниз, пытаясь разглядеть в траве упавшие желтоватые кусочки.
«Знаешь, – говорит он, обращаясь вглубь комнаты, – я думаю, никто на свете не отдает птицам столько крошек, сколько мы».
Потом он уходит с балкона и захлопывает за собой стеклянную дверь.
Радио
Давай потанцуем; ты проволочный, а я – из оригами. Вальс или, скажем, танго. Будем танцевать так, как ты придумал, под случайную музыку. У нас есть радиола, бабушкино наследство. Проигрыватель давно перестал работать, зато радио хорошо слышно. Нужно медленно поворачивать колесико – по плексигласовому экрану с отметками населенных пунктов будет двигаться никелевый треугольник. Между Лондоном и Буэнос-Айресом нарастающий шум, между Триполи и Бостоном регтаймы, между Шанхаем и Лиссабоном Мариза поет фаду. Когда настраивают радио, в городах, освещенных лампами дневного света, на доли секунды становится еще темнее. Синоптики называют это «переменная облачность». Шаг. Еще шаг. Поворот.
Странно, что дождя так пока и не было. Весь день кричали чайки. Мы откроем окно, только не настежь, иначе это может опять случиться – в наше окно опять влетит чайка. Ее внутренние датчики, учитывающие вращение светил, перемещение циклонов, полюса магнитных полей, собьются, зашкалят в этом футляре с твердой непрозрачной крышкой и щербатыми деревяшками вместо волн, из моря в море повторяющих одно и то же движение – ритмический орнамент, камуфляж морской толщи. Ее глаза, приспособленные фиксировать отблески солнца на рыбьей чешуе – до двадцати метров под поверхностью воды, направят в мозг миллионы сигналов, сотни тысяч взаимоисключающих сводок, а потом застынут, не мигая. Она будет метаться, биться об оконные стекла и, когда ей, наконец, удастся вырваться, она уже будет совсем другой. Она станет летать в дождь, спать днем, бодрствовать ночью и, ныряя за рыбой, выбираться на поверхность с клювом, полным песка. Только не настежь.
Давай потанцуем. Что-нибудь несложное, дело же не в виртуозности – так мы решили. И небыстрое. Быстро у нас не получится. Ты говоришь, что музыкальное сопровождение значения не имеет. Наоборот, чем меньше подходит, тем лучше. В любой музыке можно услышать нужный нам ритм. Мы танцуем между Лиссабоном и Касабланкой. Иногда вместо музыки передают новости. Половину Сахары накрыло пыльной бурей, пираты захватили мирное судно, зима будет засушливой. Твоя ладонь у меня на позвоночнике, чуть ниже лопаток. Интересно, если, пролетая, птица просто заглянет в наше окно, как она нас увидит. Два светящихся красно-желтых контура, скользящих по бесцветному. Ту точку на моем позвоночнике, которой касается твоя рука, она увидит оранжевой или алой. Или не так. Две фигуры, состоящие из шаров и параллелепипедов, насаженных один на другой. Почему-то сцепленные, хотя каждая фигура может двигаться самостоятельно.
Чем меньше подходит, тем лучше. Движение начинается тобою и мною заканчивается. Еще у нас есть метроном. Я завожу его, пока ты настраиваешь радио. Никелевый треугольник перебирается от города к городу, а я поворачиваю оловянный ключ на черном пластмассовом корпусе пирамидальной формы. Сейчас уже трудно сказать, что старше – радиола или этот наш метроном. Ты говоришь, что в нем нет необходимости. Но, когда он работает, мне кажется, что я тоже это слышу. Эту музыку, под которую мы танцуем, обозначенную сигналами радиостанций – как в Помпеях застывшая лава обозначила полости, где раньше были тела. Его маятник месит время. Отсчитывает такт, но время не движется. Отвешивает нам время, как та лиса, к которой медведи пришли поделить головку сыра. Удар – тебе, удар – мне. Иногда мне кажется, что ритм вдруг ускорился. Такого не может быть – надежный прибор, сейчас таких не делают. Но мне кажется, что удары раздаются все чаще и чаще, потом они переходят в дробь.
И тогда я перестаю танцевать и иду к окну. Мой позвоночник еще хранит тепло твоей ладони, но у окна это ощущение вскоре проходит. Я стою, касаясь лбом стекла. Если я вижу птицу, я стараюсь проследить за ее движением, насколько позволит зрение. На такой высоте невозможно понять, кто это – может быть, чайка, а, может, какая-то другая птица. Она кружит над нашим городом, поднимаясь все выше. Под ее лапами – антенны, колокольни, фабричные трубы. Но скоро птица перестает различать их – они остаются далеко внизу, и город под ней сворачивается в розоватую спиральную ракушку, из тех, что лежат на дне моря и по давлению воды знают, что море мелеет и высыхает. Когда море уходит, они остаются и дожидаются его. Однажды море возвращается к ним, и все становится будто как прежде.
Бюро находок
Первым делом они выключали телефон.
«Себе позвоните!» – говорила Кира Анатольевна и выдергивала провод из розетки. От частых отключений розетка повредилась, какие-то контакты – тонкие медные проволочки, клеммы в прозрачном пластике – не срабатывали. В трубке шуршало и пощелкивало, голоса собеседников различались с трудом.
Потом они заваривали чай. Александр Михайлович доставал из железного шкафчика подстаканники и кипятильник. Кира Анатольевна приносила с собой печенье, с фруктовой начинкой. Чай покупал Александр Михайлович. Не «Индийский», в желтой пачке со слоном, легкомысленный. А тот, который «№ 36». Грузинский. Александру Михайловичу нравилось, что вместо названия – номер. «Значит, существует чай «№ 35», – думал он, – а где-то пьют чай «№ 1». Во время чаепития они не разговаривали. Им нужно было сосредоточиться. Подготовиться. Они оба это чувствовали.
Началось все полгода назад, в июне, Александр Михайлович помнил дату. Был вечер, московский вечер после жаркого дня. Александр Михайлович собирался домой. Вот-вот должен был прийти сменщик. Александр Михайлович дремал на диванчике. У них был такой диванчик – жильцы с шестнадцатого этажа, когда переезжали, оставили его на улице, а они со сменщиком подобрали и очень правильно сделали. В дверь постучали. «Наверное, кабина застряла между этажами. Теперь придется забираться на чердак, возиться с мотором». В дверь стучали все требовательнее. «Иду! Иду!» – крикнул Александр Михайлович. Он распахнул дверь. На пороге стояла женщина, лет пятидесяти, в сиреневом шелковом платье с оборками. В правой руке она держала хозяйственную сумку. Левую – протягивала Александру Михайловичу, запястьем вперед. Александр Михайлович попятился. Женщина шагнула в диспетчерскую. «У меня пропали часы, – сказала она, – вы видите, их нет».
– Это – очень важная для меня вещь, – продолжала женщина, – очень важная, понимаете? Золотые часы, редкой формы. Правда, минутная стрелка у них не крутится, но я и по часовой могу точно время определять. Не стоит делать проблему из таких мелочей, я считаю. Это – часы моей бабушки. Она подарила их маме на шестнадцатилетие. Мама – подарила мне, а теперь их нет. Я у всех спрашиваю. Пожалуйста, если услышите что-нибудь, попросите вернуть мне эти часы. За вознаграждение.
– Да вы не волнуйтесь так. Может, еще и найдутся ваши часы. Садитесь, передохните, – Александр Михайлович и сам не знал, зачем он это говорит. Колотит в дверь, врывается. Что он ей, бюро находок? Поскорее бы она ушла. Надо так и сказать ей, мол, ничем я, к сожалению, помочь не могу. Развесьте объявления, может быть, кто-нибудь откликнется. И всё, и до свидания.
– Хотите чаю? – спросил он.
– Спасибо, – сказала женщина, – раз уж я здесь.
В чайнике еще оставалось немного заварки.
– А что это у вас тут? Что это за аппарат, в углу комнаты?
– Это – пульт контроля лифта, – сказал Александр Михайлович, – Когда лифт вызван, зажигается лампочка. А через микрофон можно говорить с пассажирами, если понадобится.
Женщина встала и подошла к пульту.
– И часто вы это делаете?
– Что делаю? – не понял Александр Михайлович.
– Часто вы разговариваете с пассажирами?
– Нет, лифты у нас хорошо работают.
– По-моему, вы упускаете редкую возможность, – сказала женщина, – пока человек едет в лифте, вы можете говорить с ним о чем угодно, и он будет вас слушать, потому что деться ему некуда.
– Да, но по инструкции переговорным устройством можно пользоваться только в экстренных случаях, – сказал Александр Михайлович.
– Инструкции устаревают, – ответила женщина.
– Мне не о чем с ними говорить! Это чужие люди! Я с ними не знаком! Послушайте, что вам нужно?
– Всегда найдется, что сказать друг другу, – спокойно произнесла гостья.
Она подвинула к пульту второй стул и указала на него Александру Михайловичу: «Садитесь!».
На пульте как раз зажглась лампочка: в кабину лифта вошел пассажир.
– Говорите! – приказала женщина и нажала на кнопку микрофона, – говорите, вас слушают!
Александру Михайловичу стало казаться, что в комнате не хватает воздуха. На пульте мигала желтая лампочка. Гостья смотрела на него.
– Товарищи, – произнес Александр Михайлович в микрофон, – дорогие товарищи… – Александр Михайлович закашлялся, его рубашка стала мокрой от пота.
– Дорогие товарищи, – женщина взяла у него микрофон, – вас приветствуют из диспетчерской. Мы желаем вам приятного вечера. Пожалуйста, отходя ко сну, не забудьте выключить телевизор. Никто не знает, что вы увидите там рано утром. Позаботьтесь о своем настроении. И электроэнергию сэкономите.
Гостья вновь нажала на кнопку. Желтая лампочка перестала мигать.
– Ну, вот. Поговорили, – сказала она, – мне пора, я тут у вас сильно задержалась. Я зайду к вам на следующей неделе, узнаю про часы. Кстати, можно узнать, как вас зовут?
– Александр Михайлович.
– Кира Анатольевна.
С каждым днем Александру Михайловичу становилось все яснее, что же он должен был ей сказать. Он находил все более колкие фразы, все более веские аргументы. Он был резок, саркастичен и непреклонен. Он был тверд, и он был великодушен – до слез, во всяком случае, дело не дошло.
Через неделю она пришла.
– Здравствуйте, Кира Анатольевна – сказал Александр Михайлович, распахнув дверь.
– Здравствуйте, Александр Михайлович.
Она принесла печенье. С фруктовой начинкой.
После чая они подошли к пульту. Александр Михайлович пододвинул второй стул.
Они дождались, пока в кабину войдет пассажир. Кира Анатольевна нажала кнопку переговорного устройства.
– Я попробую, – сказал Александр Михайлович.
Кира Анатольевна передала ему микрофон.
– Добрый вечер, товарищи… – произнес Александр Михайлович. Ему показалось, что он больше не вспомнит ни одного слова. Никогда.
Лампочка мигала.
– Добрый вечер, товарищи! – сказал он снова, – Вас приветствуют из диспетчерской. Пожалуйста, не заграждайте балконы и выходы на аварийную лестницу. Отвезите старую мебель на дачу, а доски выбросьте – дались они вам. Будет пожар, вам же и придется со всем этим разбираться.
Александр Михайлович выключил микрофон. Они молчали.
Кира Анатольевна приходила каждую неделю. Они пили чай и приступали к главному.
– Товарищи! Скоро закончится дачный сезон, – говорил в микрофон Александр Михайлович, – не допускайте на свои грядки колорадских жуков, боритесь с ними! Сами они не уйдут. Съедят вашу картошку, примутся за соседскую.
– Не забывайте заботиться о себе, – вступала Кира Анатольевна, – Любите мандарины – источник антиоксидантов!
Потом они придумали подвешивать кабину. Когда в подъезде нажимали кнопку вызова, Александр Михайлович переключал на пульте специальный рычажок, и лифт останавливался. Они ждали – минуты две-три. За это время в подъезде успевало собраться несколько человек – долгое ли дело в восемнадцатиэтажном доме. Так их могло услышать больше народу. Да и время было удачное – конец рабочего дня, час пик. Жильцы приходили в диспетчерскую, стучали в дверь. Им не открывали. Иногда пассажиры отвечали им через переговорное устройство, но как-то неудачно. Кира Анатольевна говорила, что постепенно жильцы привыкнут и смогут участвовать в беседах.
Они выключали микрофон и снова пили чай. Александру Михайловичу очень хотелось проводить Киру Анатольевну домой, узнать, где она живет. Он пытался представить себе, как выглядит ее квартира. Он был уверен, что на лампах там – матерчатые абажуры. Оранжевые. И обязательно с бахромой. Еще у нее наверняка есть кошка, сиамская. Спит себе где-нибудь, не торопится выходить к гостю. Или собака. Болонка, не иначе. Александр Михайлович не любил болонок – от них не знаешь, чего ожидать. Но против болонки Киры Анатольевны он не стал бы возражать. После чая Кира Анатольевна сразу уходила. Александр Михайлович оставался один в опустевшей диспетчерской, ждал сменщика.
В тот вечер Александр Михайлович возвращался с работы, как обычно. Он вспомнил, что дома закончился хлеб, и решил зайти в булочную. Александр Михайлович уже открыл, было, знакомую дверь, но тут, в освещенной витрине булочной, он увидел Киру Анатольевну. Народу в магазине почти не было, Кира Анатольевна разговаривала с продавщицей, в кондитерском отделе. Он стоял на улице, смотрел на Киру Анатольевну, и ему казалось, что, если она сделает какое-то неосторожное движение, случайно махнет рукавом плаща каким-то определенным образом, то все предметы в булочной – все эти разноцветные бумажные кубики, жестянки, фантики, золотые ключики, маски, цукаты, гусиные лапки – приобретут особую легкость, закружатся в вихре, завьются за нею шлейфом. Продавщица слушала Киру Анатольевну, облокотившись на прилавок. Потом она достала с полки плоскую картонную коробку. «Печенье покупает, на завтра», – догадался Александр Михайлович. Он почувствовал себя неловко – как будто со старинных часов зачем-то сняли крышку, обнажив механизм. Или, по чьему-то недосмотру, второе дно в сундуке фокусника вдруг оказалось прозрачным.
Ночью Александр Михайлович заболел. У него поднялась температура, ломило суставы. Он часто просыпался, а когда засыпал снова, ему снилось, будто он управляет огромным кораблем. На пульте зажигались тысячи разноцветных лампочек, датчики показывали глубину воды и удаленность от космических объектов. Айсберги расступались перед ним, лифты распахивали перед ним створки, в кодовых замках плавились реле, стрелки железных дорог поворачивались на юго-запад.
Температура держалась весь следующий день. К вечеру ему стало получше. Александр Михайлович закутался в плед и подошел к окну. Смеркалось, в окнах домов зажигали свет, и на его фоне комнатные растения казались силуэтами из кукольного представления. «Без больничного не обойдешься, – думал он. – А потом поеду в санаторий, мне уже давно путевку предлагали. И вообще, нужно уходить из этой диспетчерской – как сломается лифт, так и поднимайся пешком на восемнадцатый этаж». Александр Михайлович вернулся в кровать и снова уснул. На этот раз он проснулся отдохнувшим, проспав долго, без сновидений.
Космонавты
Так они и спят: Таня лицом к окну, прикрыв ладонью глаза. «Чтобы фонарь не мешал». Фонарь стоит как раз за их окном, зажигается еще засветло. Когда они засыпают, Андрей обнимает ее – кладет ладонь ей на ключицы. Лежать так не очень удобно, Андрей утыкается Тане лбом в спину, между лопаток. Если бы все, что скрывает их: простыня, клетчатое одеяло из колкой шерсти, штукатурка, бетон, черепица – сделалось бы прозрачным, то сверху их можно было бы принять за головастика – если заметить его с берега и провожать взглядом мимо распадающихся фрагментов ряски и водорослей, ко дну, пока он не станет неразличимым.
– Вот арбуз, а вот нож, – говорит бабушка, – режьте и ешьте.
Она ставит тарелку на стол, потом идет к окну. Бабушка сильно сутулится, ходит медленно. Андрею кажется, что, стихая, звук ее шагов продолжается в других звуках – в скрипе половиц, в едва слышном потрескивании в деревянных стенах, в шорохе хлестнувшей по стеклу яблоневой ветки, в шуме мотора машины, свернувшей за угол – так расходятся круги от плоского камешка, только что ушедшего под воду. Бабушка проводит ладонью по запотевшему стеклу, обнажая прижатые ветром к земле стебли травы, мечущиеся кроны деревьев в саду, неожиданно близкое небо, проступившее в разрывах между облаками. Потом стекло снова делается непрозрачным.
С арбузом повезло. Очень красный.
«Пойдем скорее, – говорит Таня, – меня мама только ненадолго отпустила».
Они надевают куртки, выходят на улицу. Дождя уже нет. Нужно успеть пробежать под яблоней так, чтобы вода с листьев не попала за шиворот.
– Он здесь, – говорит Андрей, – я вчера проверял. Его никто не взял.
На велосипедах они, конечно, в такую погоду не поехали – пошли пешком. По дороге им никто не встретился – да и ненужно было. Ненужно было никому знать, куда они идут, и где бывают, и что там есть, если выйти из дачного поселка, сильно толкнув высокую – в два их роста – калитку из чугунных прутьев. Несмазанные петли скрипели и постукивали, калитка медленно открывалась, заставляя их задержаться – всего на несколько мгновений, застыть на месте, когда уже виден лес, и тропинка, считай, уже началась, уже почти у них под ногами, и они, на самом-то деле, уже шагают по ней, уже идут среди деревьев. И потом, после того, как калитка, наконец, выпускала их, это было как будто они спешат за самими собой, только что скрывшимися из виду, всегда бывшими здесь секунды назад, за двумя детьми в осенних куртках: у Андрея – синяя, у Тани – желтая.
Они проходили мимо развалившегося муравейника, в котором прошлым летом снова появились муравьи, но мало; потом шли вдоль просеки; за просекой тропинка разветвлялась, забиралась под мокрую траву, терялась среди луж и глинистых проплешин, как ящерица-хамелеон. Но она им была уже не нужна. Оставалось пройти сквозь еловую рощу, а потом – подняться на железнодорожную насыпь. На насыпи воздух был другим – неподвижным, подрагивающим; и привычное его свойство – обозначать расстояние так, чтобы все происходящее не случалось в одной точке пространства – тут ослабевало, почти что сходило на нет. Казалось, что стоит только приглядеться, и можно будет увидеть, как в тысячах километров от них зажигается сигнал семафора, а мчащийся где-то поезд вот-вот окажется рядом с ними, пронесется мимо. И это происходило – поезд появлялся вдалеке и сразу же настигал их. Они соскальзывали по щебневому склону – но не до земли – и смотрели, как надвинувшиеся вагоны, поравнявшись с ними, теряют объем, превращаются в бесцветную ленту, рассекающую воздух со свистом и грохотом. И там, за этой лентой, было то, что не случилось с ними, но находилось вблизи, всего в нескольких шагах. Именно это они пытались рассмотреть, именно туда взгляд не мог проникнуть. А потом лента вдруг обрывалась, грохот – почти мгновенно – стихал, и ничего такого за насыпью не было. Они пересекали ее; снова оказывались в лесу. Идти оставалось несколько минут.
Это было их место. Они его нашли, и никто о нем не знал. Во всяком случае, они там никого не встречали: ни грибников, ни дачников, никого. Таня говорила, что об этом месте, просто, забыли: знают, вроде бы, что в лесу что-то такое есть, но не добираются туда никогда, потому что никто о нем не думает. Хотя, попасть туда было очень просто – идти от насыпи по прямой, а потом, увидев справа просвет за деревьями, свернуть в ту сторону. Они выходили на пустырь. Лес оставался за их спинами. Перед ними оказывался бетонный забор – высокий, перелезть они бы не смогли. Но перелезать и не надо было. Нужно было идти вдоль забора – кромка леса была слева от них – потом свернуть за угол. Лес за поворотом был точно таким же. Те же кусты с темно-синими ягодами. Те же деревья с шершавыми, пропитавшимися дождевой водой стволами – будто, шагая по пригнутой дождем траве, Андрей с Таней, на самом деле, оставались на месте, а пустырь вращался, и летевшая высоко над ними птица, солнце, луна – всё, что было в небе, вращалось вместе с ним, иначе бы они, конечно, заметили это. Они приближались к воротам. Их створки лежали в траве. В одной из них образовалась брешь; оттуда росло дерево. Таня и Андрей обходили их стороной – будто то, что раньше, может быть, еще до их рождения, делало забор и всё заслоненное им, запретными, неприступными, теперь покинуло пустырь, но не ушло совсем, а переместилось в эти плиты из изъеденного ржавчиной металла.
– Идем на второй этаж, – говорил Андрей, когда они оказывались за воротами. Там было два здания. Ближайшее к ним не считалось – оно было одноэтажным, и от него остались только три стены. Они проходили мимо, по дорожке, покрытой истрескавшимся асфальтом, ко второму, главному зданию. По форме оно было как цилиндр. В нем было этажей пять или больше – точно сказать было трудно – окна были только на первых двух этажах; выше начиналась глухая стена. Андрей и Таня заходили через главный вход, под ногами хрустели осколки стекла, мелкие обломки штукатурки; потом шли по коридору, мимо дверных проемов; перед каждым проемом пол пересекал прямоугольный световой блик, и, когда один из них вступал в эту световую полосу, другой перепрыгивал через нее, становясь – на долю секунды, необходимую для того, чтобы глаза, только что среагировавшие на свет, снова приспособились к темноте – невидимым для того, кто оставался позади. Так они подходили к двери – во внутренней стене – и, толкнув ее, оказывались в небольшой комнате. Проникавший сквозь открытую дверь свет позволял увидеть в центре комнаты железную винтовую лестницу. Надо было успеть подняться по ней, пока дверь внизу не захлопнется. И вот они в главном зале.
Там было много окон, они опоясывали зал, образуя несколько ярусов – от пола до потолка. На полу и стенах лежали квадратные тени. В центре зала стоял железный стол, а на нем – кнопки, датчики с застывшими стрелками, какие-то переключатели. Сбоку в стол были вделаны рычаги; на них висели две телефонные трубки из черной пластмассы. У одной из них был отколот кусочек, и, если присмотреться, внутри можно было заметить обрывок медной проволоки.
Раньше это был зал переговоров с космическими кораблями – так говорила Таня, и так оно и было. Она утверждала, что видела карту, на которой их пустырь был обозначен. «Здания там нарисованы не были, только белый квадрат, заштрихованный. Вокруг все зеленое, железная дорога есть, а дачного поселка нашего еще нет – это очень старая карта. И там было такое название, какое-то такое сокращение, что сразу было понятно, что это – именно такой центр. Но я точно не помню, какое». На новой, современной карте – у Андрея была такая, она лежала на чердаке и отсырела, но ею все равно можно было пользоваться – ничего подобного обозначено не было; просто лес, и всё. А прежняя карта у Тани, к сожалению, не сохранилась: Танин дедушка обернул в нее библиотечную книгу, а потом вернул книгу вместе с обложкой.
Те, кто уезжал из этого здания и забирал всё с собой, почему-то оставили пульт на месте, ничего на нем не тронули. Может быть, была спешка, и они забыли. Может быть, в грузовиках не хватило места. «А может, – так говорила Таня, – пульт с телефоном специально здесь оставили, на всякий случай. Скорее всего, сюда должен был кто-то позвонить – экипаж космического корабля, с которым пропала связь, но, может, они еще найдутся, и позвонят сюда, они ведь именно этот номер знают».
– Но ведь тут обычно никого не бывает, кроме нас – говорил Андрей.
– Возможно, с тех пор что-то изменилось, – отвечала Таня.
Они подходили к пульту, нажимали на кнопки, щелкали рычажками переключателей. Потом Таня снимала трубку:
– Алё, как слышите, приём. Говорит Земля. Внимание всем экипажам космических кораблей – сообщите, где вы находитесь. Повторяю, сообщите, где вы сейчас находитесь. Прилетайте!
Андрей тоже снимал трубку. Поднося ее к уху, он ощущал неловкость – будто вместо тишины, молчания, не нарушаемого шорохом, потрескиванием громкоговорителя, за которым обычно бывают провода, электрические разряды, радиоволны, он вдруг услышал бы голос, оставшийся в ней с тех пор, когда этот телефон еще действовал, либо же вернувшийся сюда вопреки всему, вопреки перерезанным кабелям, застывшим мембранам, пробитой пластмассе. Голос в трубке обращался бы к кому-то, говорил что-то очень важное, что-то понятное адресату с полуслова. Адресату, но больше, может быть, никому. И что Андрей сделал бы тогда; что бы он ему ответил? Андрей держал трубку у уха несколько секунд, потом осторожно возвращал ее на место. Она касалась рычагов с едва слышным, глухим стуком.
А потом они поднимались к телескопу. Таня и Андрей возвращались на спиральную лестницу: она уходила вверх, к люку в потолке. Это был самый сложный момент: нужно было завести в люк руку, нащупать цементный пол и, опираясь на него, повиснуть между этажами, ощущая под ногами лишь пустоту. Так продолжалось несколько секунд, пока не получалось просунуть в люк вторую руку и подтянуться на локтях.
«Здесь был очень мощный телескоп, – объясняла Таня, – всё говорит об этом». Они стояли на последнем, третьем этаже. Потолка над ними не было. Казалось, бетонные стены упираются прямо в небо, касаются его, подобно тому, как биолог дотрагивается тончайшим пинцетом до живой ткани.
«Ты только представь, какой он был громадный, – говорила Таня, – с таким телескопом можно было все что хочешь увидеть в нашей галактике. И даже, наверное, дальше. Если, например, какой-нибудь корабль подавал сигнал SOS, его через этот телескоп сразу обнаруживали и говорили космонавтам, что там нужно починить».
Примерно на середине высоты в стене было отверстие. Но видно его изнутри не было – отверстие закрывал жестяной короб, труба, начинавшаяся там и витками спускавшаяся почти к самому полу. Таня считала, что раньше это была вентиляционная система – чтобы телескоп не перегревался. Это выглядело как огромная резьба, насечка на стенах, и Андрею казалось, что, когда смотришь в небо, взгляд сначала разгоняется по этой круговой резьбе, а потом – ввинчивается в воздушную толщу.
Они всматривались в небо, как если бы чей-то взгляд, усиленный линзами телескопа, мог оставить за собой след, дорожку, которая до сих пор не затянулась. С той стороны к небу примыкали миллиарды километров черного пространства, но происходящее в вышине над ними движение – облака меняли оттенок, соединялись, разрывались, образовывали ярусы, скрывали и снова показывали летящих птиц – казалось, не имеет ничего общего с движением планет и галактик, вращающихся на своих орбитах, пульсирующих, уносящихся прочь – из пустоты в пустоту. Небо над ними оставалось плотным и непрозрачным.
В тот день всё было иначе.
– Раньше его тут точно не было. Мы бы заметили. Как ты думаешь? Я его прямо под насыпью нашел, когда грибы собирал вчера. Я как раз до насыпи и хотел дойти. Смотрю – блестит что-то. Подошел поближе. Мне сначала показалось – огромная рыбина. А потом пригляделся – фонарь. Никогда раньше фонари так близко не видел. Они же, если с земли смотреть, маленькими кажутся.
Таня обошла вокруг фонаря. Он лежал сплошной стороной вверх. Края были вдавлены в мох. К корпусу прилипли опавшие листья. Таня осторожно дотронулась до него носком ботинка.
– Интересно, откуда он здесь взялся, – сказал Андрей.
Они обернулись по сторонам. Запрокинули головы, осмотрели кроны деревьев, словно надеясь увидеть там то, что раньше оставалось незамеченным. Когда раздался гудок поезда, Андрей вздрогнул. Шум усиливался, и, пока поезд мчался над ними, по насыпи, они не обернулись, а смотрели то на фонарь, то друг на друга. Андрей видел, что Таня хочет сказать ему что-то, но грохот уже заполнял собой лес и все, что было в нем, и их тоже заполнял, и, пока было так, они ничего не могли сделать. А потом поезд уехал.
– Железная дорога! Ну конечно, как же я не догадалась. Это, наверное, товарный состав вез фонари. Где-то прокладывают большое шоссе – километров на пятьсот. Там понадобится много фонарей, вот их и везут на поездах. На платформах таких, знаешь? А этот фонарь, видимо, случайно упал оттуда. А потом скатился с насыпи. Видишь, у него даже вмятина на боку осталась.
Она снова коснулась фонаря ботинком. А потом, поддев его, перевернула резким движением.
– А так он на лодку похож, – сказал Андрей, – Только, если в нем плыть, все-таки утонешь, наверное.
– На кабину самолета, – сказала Таня, – В таких полярники летали – над северным полюсом. Вокруг – вьюга, и посадка, если что – только на льдину. Тяжелые летные условия. А самолет был специально такой формы, чтобы в случае экстренной посадки проскользнуть по льдине, как будто на коньках едешь.
Таня наклонилась над фонарем. Потом резко выпрямилась.
– А давай с насыпи на нем съедем. Соскользнем. Как будто мы – полярники, летим на самолете, и он на ледяную гору приземлился.
Но Андрей ничего не ответил. Он обошел вокруг фонаря, а потом сказал:
– На ракету. Он похож на ракету. И летать на нем надо не тут.
– А где?
– В ее естественной среде. Чем ближе к космосу, тем лучше.
Таня и Андрей теперь стояли над ракетой, по разные ее стороны, и смотрели друг на друга.
– Телескоп, – тихо сказала Таня.
– Именно. Там исследовали космос и полетами руководили оттуда. Значит, если уж мы испытываем ракету, делать это надо тоже там.
Вентиляционная труба – будто специально для этого сделана, – продолжал Андрей, – Она широкая, метра полтора, не меньше; верх у нее плоский, и она чуть-чуть к стенке наклонена. Я это давно заметил, сам тогда еще не понимал, зачем. Ракета по ней, знаешь, как разгонится!..
– А как же приземляться? – сказала Таня, – там же бетонный пол.
– Не имеет значения. В самом низу труба от стены отходит. Ракета приземлится на днище и проскользнет на нем, к центру телескопа. Это называется – правильная траектория. Дождь же был. Там теперь не пол – а одна сплошная лужа. Как раз то, что надо!
Пойдем, – сказал он, – испытаем ее.
Андрей наклонился к ракете, щелкнул по ней пальцем: «Алюминий». Потом поднял ее с земли, повесил себе на плечо, наперевес, днищем наружу, повернулся и пошел к железной дороге.
Таня несколько секунд не двигалась с места, смотрела Андрею в спину. Потом она догнала его, они пошли рядом. Когда они пересекали насыпь, из-за туч выглянуло солнце. Его свет отражался от рельсов и от днища ракеты на плече у Андрея. Таня зажмурилась. «Если бы к нам сейчас приближался поезд, и он был бы деревянным, он бы, наверное, загорелся». Через несколько секунд солнце снова скрылось за тучами. Они спустились с насыпи и зашли в лес.