Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия для школ с углубленным изучением литературы. Часть 2 Коллектив авторов
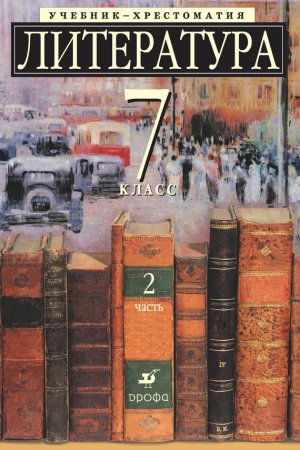
Глава восьмая
Платов ехал очень спешно с церемонией: сам он сидел в коляске, а на козлах два свистовые[77] казака с нагайками по обе стороны ямщика садились и так его и поливали без милосердия, чтобы скакал. А если какой казак задремлет, Платов его сам ногой из коляски ткнет, и еще злее понесутся. Эти меры побуждения действовали до того успешно, что нигде лошадей ни на одной станции нельзя было удержать, а всегда сто скачков мимо остановочного места перескакивали. Тогда опять казак над ямщиком обратно сдействует, и к подъезду возворотятся.
Так они и в Тулу прикатили, – тоже пролетели сначала сто скачков дальше Московской заставы, а потом казак сдействовал над ямщиком нагайкою в обратную сторону, и стали у крыльца новых коней запрягать. Платов же из коляски не вышел, а только велел свистовому как можно скорее привести к себе мастеровых, которым блоху оставил.
Побежал один свистовой, чтобы шли как можно скорее и несли ему работу, которою должны были англичан посрамить, и еще мало этот свистовой отбежал, как Платов вдогонку за ним раз за разом новых шлет, чтобы как можно скорее.
Всех свистовых разогнал и стал уже простых людей из любопытной публики посылать, да даже сам от нетерпения ноги из коляски выставляет и сам от нетерпеливости бежать хочет, а зубами так и скрипит – все ему еще нескоро показывается.
Так в тогдашнее время требовалось очень в аккурате и в скорости, чтобы ни одна минута для русской полезности не пропадала.
Глава девятая
Тульские мастера, которые удивительное дело делали, в это время как раз только свою работу оканчивали. Свистовые прибежали к ним запыхавшись, а простые люди из любопытной публики – те и вовсе не добежали, потому что с непривычки по дороге ноги рассыпали и повалилися, а потом от страха, чтобы не глядеть на Платова, ударились домой да где попало спрятались.
Свистовые же как прискочили, сейчас вскрикнули и как видят, что те не отпирают, сейчас без церемонии рванули болты у ставень, но болты были такие крепкие, что нимало не подались, дернули двери, а двери изнутри заложены на дубовый засов. Тогда свистовые взяли с улицы бревно, поддели им на пожарный манер под кровельную застреху да всю крышу с маленького домика сразу и своротили. Но крышу сняли, да и сами сейчас повалилися, потому что у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе такая потная спираль[78] сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть.
Послы закричали:
– Что же вы, такие-сякие, сволочи, делаете, да еще этакою спиралью ошибать смеете! Или в вас после этого Бога нет!
А те отвечают:
– Мы сейчас, последний гвоздик заколачиваем и, как забьем, тогда нашу работу вынесем.
А послы говорят:
– Он нас до того часу живьем съест и на помин души не оставит.
Но мастера отвечают:
– Не успеет он вас поглотить, потому вот пока вы тут говорили, у нас уже и этот последний гвоздь заколочен. Бегите и скажите, что сейчас несем.
Свистовые побежали, но не с уверкою: думали, что мастера их обманут; а потому бежат, бежат да оглянутся; но мастера за ними шли и так очень скоро поспешали, что даже не вполне как следует для явления важному лицу оделись, а на ходу крючки в кафтанах застегивают. У двух у них в руках ничего не содержалось, а у третьего, у левши, в зеленом чехле царская шкатулка с аглицкой стальной блохой.
Глава десятая
Свистовые подбежали к Платову и говорят:
– Вот они сами здесь! Платов сейчас к мастерам:
– Готово ли?
– Все, – отвечают, – готово.
– Подавай сюда. Подали.
А экипаж уже запряжен, и ямщик и форейтор на месте. Казаки рядом с ямщиком уселись и нагайки над ними подняли и так замахнувши и держат.
Платов сорвал зеленый чехол, открыл шкатулку, вынул из ваты золотую табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, – видит: аглицкая блоха лежит там какая была: а кроме ее ничего больше нет.
Платов говорит:
– Это что же такое? А где же ваша работа, которою вы хотели государя утешить?
Оружейники отвечали:
– Тут и наша работа. Платов спрашивает:
– В чем же она себя заключает? А оружейники отвечают:
– Зачем это объяснять? Все здесь в вашем виду, – и предусматривайте.
Платов плечами вздвигнул и закричал:
– Где ключ от блохи?
– А тут же, – отвечают. – Где блоха, тут и ключ, в одном орехе.
Хотел Платов взять ключ, но пальцы у него куцапые: ловил, ловил, – никак не мог ухватить ни блохи, ни ключика от ее брюшного завода и вдруг рассердился и начал ругаться словами на казацкий манер.
Кричал:
– Что вы, подлецы, ничего не сделали, да еще, пожалуй, всю вещь испортили! Я вам голову сниму!
А туляки ему в ответ:
– Напрасно нас так обижаете, – мы от вас, как от государева посла, все обиды должны стерпеть, но только за то, что вы в нас усумнились и подумали, будто мы даже государево имя обмануть сходственны, – мы вам секрета нашей работы теперь не скажем, а извольте к государю отвезти – он увидит, каковы мы у него люди и есть ли ему за нас постыждение.
А Платов крикнул:
– Ну, так врете же вы, подлецы, я с вами так не расстануся, а один из вас со мною в Петербург поедет, и я его там допытаюся, какие есть ваши хитрости.
И с этим протянул руку, схватил своими куцапыми пальцами косого левшу, так что у него все крючочки от казакина отлетели, и кинул его к себе в коляску в ноги.
– Сиди, – говорит, – здесь до самого Петербурга вроде пубеля[79], – ты мне за всех ответишь. А вы, – говорит свистовым, – теперь гайда! Не зевайте, чтобы послезавтрая у государя в Петербурге был.
Мастера ему только осмелились сказать за товарища, что как же, мол, вы его от нас так без тугамента[80] увозите? Ему нельзя будет назад следовать! А Платов им вместо ответа показал кулак – такой страшный, бугровый и весь изрубленный, кое-как сросся – и, погрозивши, говорит: «Вот вам тугамент!» А казакам говорит:
– Гайда, ребята!
Казаки, ямщики и кони – все враз заработало и умчали левшу без тугамента, а через день, как приказал Платов, так его и подкатили к государеву дворцу и даже, расскакавшись как следует, мимо колонн проехали.
Платов встал, подцепил на себя ордена и пошел к государю, а косого левшу велел свистовым казакам при подъезде караулить.
Глава одиннадцатая
Платов боялся к государю на глаза показаться, потому что Николай Павлович был ужасно какой замечательный[81] и памятный – ничего не забывал. Платов знал, что он его непременно о блохе спросит. И вот он хоть никакого в свете неприятеля не пугался, а тут струсил: вошел во дворец со шкатулочкою да потихонечку ее в зале за печкой и поставил. Спрятавши шкатулку, Платов предстал к государю в кабинет и начал поскорее докладывать, какие у казаков на тихом Дону междоусобные разговоры. Думал он так: чтобы этим государя занять, и тогда, если государь сам вспомнит и заговорит про блоху, надо подать и ответствовать, а если не заговорит, то помолчать; шкатулку кабинетному камердинеру велеть спрятать, а тульского левшу в крепостной казамат[82] без сроку посадить, чтобы посидел там до времени, если понадобится.
Но государь Николай Павлович ни о чем не забывал, и чуть Платов насчет междоусобных разговоров кончил, он его сейчас же спрашивает:
– А что же, мои мастера тульские против аглицкой нимфозории себя оправдали?
Платов отвечал в том роде, как ему дело казалось.
– Нимфозория, – говорит, – ваше величество, все в том же пространстве, и я ее назад привез, а тульские мастера ничего удивительнее сделать не смогли.
Государь ответил:
– Ты – старик мужественный, а этого, что ты мне докладываешь, быть не может.
Платов стал его уверять и рассказал, как все дело было, и как досказал до того, что туляки просили его блоху государю показать, Николай Павлович его по плечу хлопнул и говорит:
– Подавай сюда. Я знаю, что мои меня не могут обманывать. Тут что-нибудь сверх понятия сделано.
Глава двенадцатая
Вынесли из-за печки шкатулку, сняли с нее суконный покров, открыли золотую табакерку и бриллиантовый орех, – а в нем блоха лежит, какая прежде была и как лежала.
Государь посмотрел и сказал:
– Что за лихо! – Но веры своей в русских мастеров не убавил, а велел позвать свою любимую дочь Александру Николаевну и приказал ей:
– У тебя на руках персты тонкие – возьми маленький ключик и заведи поскорее в этой нимфозории брюшную машинку.
Принцесса стала крутить ключиком, и блоха сейчас усиками зашевелила, но ногами не трогает. Александра Николаевна весь завод натянула, а нимфозория все-таки ни дансе не танцует и ни одной верояции, как прежде, не выкидывает.
Платов весь позеленел и закричал:
– Ах, они, шельмы собаческие! Теперь понимаю, зачем они ничего мне там сказать не хотели. Хорошо еще, что я одного ихнего дурака с собою захватил.
С этими словами выбежал на подъезд, словил левшу за волосы и начал туда-сюда трепать так, что клочья полетели. А тот, когда его Платов перестал бить, поправился и говорит:
– У меня и так все волосья при учебе выдраны, а не знаю теперь за какую надобность надо мной такое повторение?
– Это за то, – говорит Платов, – что я на вас надеялся и заручался, а вы редкостную вещь испортили.
Левша отвечает:
– Мы много довольны, что ты за нас ручался, а испортить мы ничего не испортили: возьмите в самый сильный мелкоскоп смотрите.
Платов назад побежал про мелкоскоп сказывать, а левше только погрозился:
– Я тебе, – говорит, – такой-сякой-этакой, еще задам.
И велел свистовым, чтобы левше еще крепче локти назад закрутить, а сам поднимается по ступеням, запыхался и читает молитву: «Благого Царя Благая Мати, пречистая и чистая», и дальше, как надобно. А царедворцы, которые на ступенях стоят, все от него отворачиваются, думают: попался Платов, и сейчас его из дворца вон погонят, – потому что его терпеть не могли за храбрость.
Глава тринадцатая
Как довел Платов левшины слова государю, тот сейчас с радостию говорит:
– Я знаю, что мои русские люди меня не обманут. – И приказал подать мелкоскоп на подушке.
В ту же минуту мелкоскоп был подан, и государь взял блоху и положил ее под стекло сначала кверху спинкою, потом бочком, потом пузичком, – словом сказать, на все стороны ее повернули, а видеть ничего. Но государь и тут своей веры не потерял, а только сказал:
– Привести ко мне сейчас этого оружейника, который внизу находится.
Платов докладывает:
– Его бы приодеть надо – он в чем был взят, и теперь очень в злом виде.
А государь отвечает:
– Ничего – ввести как он есть. Платов говорит:
– Вот иди теперь сам, такой-этакой, перед очами государю отвечай.
А левша отвечает:
– Что ж, такой и пойду, и отвечу.
Идет в чем был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик[83] старенький, крючочки не застегиваются, порастеряны, а шиворот разорван; но ничего, не конфузится.
«Что же такое? – думает. – Если государю угодно меня видеть, я должен идти; а если при мне тугамента нет, так я тому не причинен и скажу, отчего так дело было».
Как взошел левша и поклонился, государь ему сейчас и говорит:
– Что это такое, братец, значит, что мы и так и этак смотрели, и под мелкоскоп клали, а ничего замечательного не усматриваем?
А левша отвечает:
– Так ли вы, ваше величество, изволили смотреть? Вельможи ему кивают: дескать, не так говоришь! а он не понимает, как надо по-придворному, с лестью или с хитростью, а говорит просто. Государь говорит:
– Оставьте над ним мудрить, – пусть его отвечает, как он умеет.
И сейчас ему пояснил:
– Мы, – говорит, – вот как клали. – И положил блоху под мелкоскоп. – Смотри, – говорит, – сам – ничего не видно.
Левша отвечает:
– Этак, ваше величество, ничего и невозможно видеть, потому что наша работа против такого размера гораздо секретнее.
Государь вопросил:
– А как же надо?
– Надо, – говорит, – всего одну ее ножку в подробности под весь мелкоскоп подвести и отдельно смотреть на всякую пяточку, которой она ступает.
– Помилуй, скажи, – говорит государь, – это уже очень сильно мелко!
– А что же делать, – отвечает левша, – если только так нашу работу заметить можно: тогда все и удивление окажется.
Положили, как левша сказал, и государь как только глянул в верхнее стекло, так весь и просиял – взял левшу, какой он был неубранный и в пыли, обнял его и поцеловал, а потом обернулся ко всем придворным и сказал:
– Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь они, шельмы, аглицкую блоху на подковы подковали!
Глава четырнадцатая
Стали все подходить и смотреть: блоха действительно была на все ноги подкована на настоящие подковы, а левша доложил, что это и еще не все удивительное.
– Если бы, – говорит, – был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так вы изволили бы, – говорит, – увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой русский мастер ту подковку делал.
– И твое имя тут есть? – спросил государь.
– Никак нет, – отвечает левша, – моего одного и нет.
– Почему же?
– А потому, – говорит, – что я мельче этих подковок работал: я гвоздики выковывал, которыми подковки забиты. Там уже никакой мелкоскоп взять не может.
Государь спросил:
– Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление?
А левша ответил:
– Мы люди бедные и по бедности своей мелкоскопа не имеем, а у нас так глаз пристрелявши.
Тут и другие придворные, видя, что левши дело выгорело, начали его целовать, а Платов ему сто рублей дал и говорит:
– Прости меня, братец, что я тебя за волосья отодрал. Левша отвечает:
– Бог простит, – это нам не впервые снег такой на голову.
А больше и говорить не стал, да и некогда ему было ни с кем разговаривать, потому что государь приказал сейчас же эту подкованную нимфозорию уложить и отослать назад в Англию – вроде подарка, чтобы там поняли, что нам это не удивительно. И велел государь, чтобы вез блоху особый курьер, который на все языки учен, а при нем чтобы и левша находился и чтобы он сам англичанам мог показать работу и каковые у нас в Туле мастера есть.
Платов его перекрестил.
– Пусть, – говорит, – над тобою будет благословение, а на дорогу я тебе моей собственной кислярки пришлю. Не пей мало, не пей много, а пей средственно.
Так и сделал – прислал.
А граф Кисельвроде[84] велел, чтобы обмыли левшу в Туляковских всенародных банях, остригли в парикмахерской и одели в парадный кафтан с придворного певчего, для того, чтобы похоже было, будто и на нем какой-нибудь жалованный чин есть.
Как его таким манером обформировали, напоили на дорогу чаем с платовскою кисляркою, затянули ременным поясом как можно туже, чтобы кишки не тряслись, и повезли в Лондон. Отсюда с левшой и пошли заграничные виды.
Глава пятнадцатая
Ехали курьер с левшою очень скоро, так что от Петербурга до Лондона нигде отдыхать не останавливались, а только на каждой станции пояса на один значок еще уже перетягивали, чтобы кишки с легкими не перепутались; но как левше после представления государю, по платовскому приказанию, от казны винная порция вволю полагалась, то он, не евши, этим одним себя поддерживал и на всю Европу песни русские пел, только припев делал по-иностранному: «Ай люли – се тре жули»[85].
Курьер как привез его в Лондон, так появился кому надо и отдал шкатулку, а левшу в гостинице в номер посадил, но ему тут скоро скучно стало, да и есть захотелось. Он постучал в дверь и показал услужающему себе на рот, а тот сейчас его и свел в пищеприемную комнату.
Сел тут левша за стол и сидит, а как чего-нибудь по-аглицки спросить – не умеет. Но потом догадался: опять просто по столу перстом постучит да в рот себе покажет, – англичане догадываются и подают, только не всегда того, что надобно, но он что ему не подходящее не принимает. Подали ему ихнего приготовления горячий студинг[86] в огне, – он говорит: «Это я не знаю, чтобы такое можно было есть», – и вкушать не стал; они ему переменили и другого кушанья поставили. Также и водки их пить не стал, потому что она зеленая – вроде как будто купоросом заправлена, а выбрал, что всего натуральнее, и ждет курьера в прохладе за баклажечкой.
А те лица, которым курьер нимфозорию сдал, сию же минуту ее рассмотрели в самый сильный мелкоскоп и сейчас в публицейские[87] ведомости описание, чтобы завтра же на всеобщее известие клеветон[88] вышел.
– А самого этого мастера, – говорят, – мы сейчас хотим видеть.
Курьер их препроводил в номер, а оттуда в пищеприемную залу, где наш левша уже порядочно подрумянился, и говорит: «Вот он!»
Англичане левшу сейчас хлоп-хлоп по плечу и как равного себе – за руки. «Камрад[89], – говорят, – камрад – хороший мастер, – разговаривать с тобой со временем, после будем, а теперь выпьем за твое благополучие».
Спросили много вина, и левше первую чарку, а он с вежливостью первый пить не стал: думает, – может быть, отравить с досады хотите.
– Нет, – говорит, – это не порядок: и в Польше нет хозяина больше, – сами вперед кушайте.
Англичане всех вин перед ним опробовали и тогда ему стали наливать. Он встал, левой рукой перекрестился и за всех их здоровье выпил.
Они заметили, что он левой рукою крестится, и спрашивают у курьера:
– Что он – лютеранец или протестантист? Курьер отвечает:
– Нет, он не лютеранец и не протестантист, а русской веры.
– А зачем же он левой рукой крестится? Курьер сказал.
– Он – левша и все левой рукой делает.
Англичане еще более стали удивляться и начали накачивать вином и левшу и курьера и так целые три дня обходилися, а потом говорят: «Теперь довольно». По симфону[90] воды с ерфиксом[91] приняли и, совсем освежевши, начали расспрашивать левшу: где он и чему учился и до каких пор арифметику знает?
Левша отвечает:
– Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.
Англичане переглянулись и говорят:
– Это удивительно. А левша им отвечает:
– У нас это так повсеместно.
– А что же это, – спрашивают, – за книга в России «Полусонник»?
– Это, – говорит, – книга, к тому относящая, что если в Псалтире что-нибудь насчет гаданья царь Давид неясно открыл, то в Полусоннике угадывают дополнение.
Они говорят:
– Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот вы хоша очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.
Левша согласился.
– Об этом, – говорит, – спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.
А англичане сказывают ему:
– Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет.
Но на это левша не согласился.
– У меня, – говорит, – дома родители есть. Англичане назвались, чтобы его родителям деньги посылать, но левша не взял.
– Мы, – говорит, – к своей родине привержены и тятенька мой уже старичок, а родительница – старушка и привыкши в свой приход в церковь ходить, да и мне тут в одиночестве очень скучно будет, потому что я еще в холостом звании.
– Вы, – говорят, – обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.
– Этого, – ответил левша, – никогда быть не может.
– Почему так?
– Потому, – отвечает, – что наша русская вера самая правильная, и как верили наши праотцы, так же точно должны верить и потомцы.
– Вы, – говорят англичане, – нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое Евангелие содержим.
– Евангелие, – отвечает левша, – действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.
– Почему вы так это можете судить?
– У нас тому, – отвечает, – есть все очевидные доказательства.
– Какие?
– А такие, – говорит, – что у нас есть и боготворные иконы и гроботочивые главы[92] и мощи, а у вас ничего, и даже, кроме одного воскресенья, никаких экстренных праздников нет, а по второй причине – мне с англичанкою, хоть и повенчавшись в законе, жить конфузно будет.
– Отчего же так? – спрашивают. – Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.
А левша говорит:
– Я их не знаю. Англичане отвечают:
– Это не важно суть – узнать можете, мы вам грандеву[93] сделаем.
Левша застыдился:
– Зачем, – говорит, – напрасно девушек морочить. – И отнекался. – Грандеву, – говорит, – это дело господское, а нам нейдет, и если об этом дома, в Туле, узнают, надомною большую насмешку сделают.
Англичане полюбопытствовали:
– А если, – говорят, – у вас без грандеву, то как же у вас в таких случаях поступают, чтобы приятный выбор сделать?
Левша им объяснил наше положение.
– У нас, – говорит, – когда человек хочет насчет девушки обстоятельные намерения обнаружить, посылает разговорную женщину, и как она предлог сделает, тогда вместе в дом идут вежливо и девушку смотрят не таясь, а при всей родственности.
Они поняли, но отвечали, что у них разговорных женщин нет и такого обыкновения не водится, а левша говорит:
– Это тем и приятнее, потому что таким делом если заняться, то надо с обстоятельным намерением, как я сего к чужой нации не чувствую, то зачем девушек морочить?
Он англичанам и в этих своих суждениях понравился, так что они его опять пошли по плечам и по коленям с приятиством ладошками охлопывать, а сами и спрашивают:
– Мы бы, – говорят, – только через одно любопытство знать желали: какие вы порочные приметы в наших девицах приметили и за что их обегаете?
Тут левша им уже откровенно ответил:
– Я их не порочу, а только мне то не нравится, что одежда на них как-то машется, и не разобрать, что такое надето и для какой надобности: тут одно что-нибудь, а ниже еще другое пришпилено, а на руках какие-то ногавочки[94]. Совсем точно обезьяна сапажу[95]– плисовая[96] тальма[97].
Англичане засмеялись и говорят:
– Какое же вам в этом препятствие?
– Препятствия, – отвечает левша, – нет, а только опасаюсь, что стыдно будет смотреть и дожидаться, как она изо всего этого разбираться станет.
– Неужели же, – говорят, – ваш фасон лучше?
– Наш фасон, – отвечает, – в Туле простой: всякая в своих кружевцах, и наши кружева даже и большие дамы носят.
Они его тоже и своим дамам казали, и там ему чай наливали и спрашивали:
– Для чего вы морщитесь?
Он отвечал, что мы, говорит, очень сладко не приучены.
Тогда ему по-русски вприкуску подали.
Им показывается, что этак будто хуже, а он говорит:
– На наш вкус этак вкуснее.
Ничем его англичане не могли сбить, чтобы он на их жизнь прельстился, а только уговорили его на короткое время погостить, и они его в это время по разным заводам водить будут и все свое искусство покажут.
– А потом, – говорят, – мы его на своем корабле привезем и живого в Петербург доставим.
На это он согласился.
Глава шестнадцатая
Взяли англичане левшу на свои руки, а русского курьера назад в Россию отправили. Курьер хотя и чин имел и на разные языки был учен, но они им не интересовались, а левшою интересовались, – и пошли они левшу водить и все ему показывать. Он смотрел все их производство: и металлические фабрики, и мыльно-пильные заводы, и все хозяйственные порядки их ему очень понравились, особенно насчет рабочего содержания. Всякий работник у них в постоянной сытости, одет не в обрывках, а на каждом способный тужурный жилет, обут в толстые щиглеты[98] с железными набалдашниками, чтобы нигде ноги ни на что не напороть; работает не с бойлом[99], а с обучением и имеет себе понятия. Перед каждым на виду висит долбица[100] умножения, а под рукою стирабельная дощечка: все, что который мастер делает, – на долбицу смотрит и с понятием сверяет, а потом на дощечке одно пишет, другое стирает и в аккурат сводит: что на цифирях написано, то и на деле выходит. А придет праздник, соберутся по парочке, возьмут в руки по палочке и идут гулять чинно-благородно, как следует.
Левша на все их житье и на все их работы насмотрелся, но больше всего внимание обращал на такой предмет, что англичане очень удивлялись. Не столь его занимало, как новые ружья делают, сколь то, как старые в каком виде состоят. Все обойдет и хвалит, и говорит:






