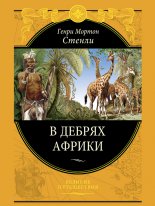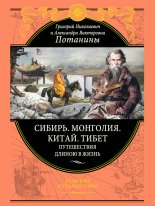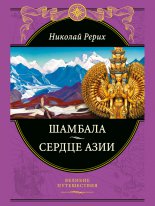Пусть смерть меня полюбит Ренделл Рут

Но было несомненным: он продал душу и сбежал ради того, чтобы найти то, что Эмброуз Энгстранд называл реальностью, и потому решил, что лучше будет начать с визита на Пемброкский рынок. Черноволосой девушки там не оказалось, у нее был выходной, и Алан не решился спросить у продавца, где она живет, зато узнал, что ее зовут Роуз. Завтра он вернется, увидит Роуз и наберется смелости пригласить ее на прогулку вечером в субботу. Вечер субботы был предназначен для прогулок, как считал Алан, еще не осознав, что теперь для него каждый вечер был субботним.
Остаток дня он потратил на посещение Хейвардской галереи, речной круиз до Гринвича, а в кинотеатре в Вест-Энде посмотрел фильм Фасбиндера[36], от которого редкие волосы Уилфреда Саммита встали бы дыбом, хотя фильм был на редкость интеллектуальным и непонятным. В вечерних газетах не было ничего о Джойс, статьи на первой странице были озаглавлены «Новые требования о повышении заработной платы» и «Угон самолета компании “Сабена”». Через десять минут после того, как он вернулся в свою комнату, раздался стук в дверь.
За дверью стоял мужчина лет тридцати, с огненными волосами и очень бледной кожей, какая часто бывает у рыжих.
– Моя фамилия Локсли. Я решил зайти и поздороваться с вами.
Алан едва не сказал, что его фамилия Грумбридж, однако вовремя вспомнил.
– Пол Браунинг. Проходите.
Сосед вошел и огляделся.
– Нам повезло найти такое место, – заметил он. – Кстати, меня зовут Цезарь. Точнее, я сам зову себя Цезарем. Назвали-то меня Сесилом. В школьном спектакле «Юлий Цезарь» я играл заглавную роль и вроде как принял это имя.
– Вы действительно знаете сонеты Шекспира наизусть?
– Вам Уна сказала, да? – Цезарь улыбнулся. – Я не такой уж умник, просто у меня хорошая память. Уна – милая женщина, но сумасбродка. Она сказала мне, что сдала вам эту комнату, потому что вы читали какое-то эссе о кардинале Мэннинге. Не хотите пойти в «Элгин» или «Кенсингтон-парк» и пропустить чего-нибудь слабого?
– Слабого? – переспросил Алан.
– Ну, не крепкого то есть. Нет смысла в иносказаниях. Мы должны смотреть в лицо реальности, как сказал бы Эмброуз. Вы не против, если мы позовем с собой Уну?
Алан ответил, что не против, но если вдруг вернется ее муж? Цезарь посмотрел на него искоса и сообщил, что этого, слава богу, можно не бояться. Однако, вернувшись, он сказал, что Уна не может пойти, потому что ждет телефонного звонка из Джакарты, поэтому они отправились в бар отеля «Кенсингтон-парк» вдвоем.
– Это значит, что у нее нет мужа? – спросил Алан, когда Цезарь купил им по пинте горького пива. Это тоже был новый опыт – Алан в жизни никогда не «кутил в мужской компании» и даже не заходил в пивнушки, кроме как с Пэм по выходным. – Она вдова?
Цезарь покачал головой.
– Красавчик Стюарт жив и ошивается где-то в Вест-Индии со своей новой дамочкой. Я узнал это от Энни, моей девушки. Она когда-то была знакома со Стюартом – в те времена он был главным сердцеедом всего Хемпстеда. Уна – одна из самых одиноких людей, кого я знаю. Она никому не нужна. Но что тут поделаешь? Я предпринял бы что-нибудь сам, но у меня есть Энни.
– Должны же быть одинокие мужчины, – заметил Алан.
– Не так много. Уне тридцать два года. Она милая, но не красавица, верно? Большинство мужчин подходящего возраста либо женаты, либо состоят в отношениях. Она нечасто выходит из дома и ни с кем не встречается. Вы не намерены проявлять к ней интерес, я полагаю?
Алан покраснел, надеясь, что в полумраке бара этого не заметят. Он подумал о Роуз, ее приглашающей улыбке, ее изяществе… девушка из его грез, которые вскоре могут сбыться. Он подобрал слова, которые, как он думал, верно выражают его отношение к Уне:
– Она не кажется мне привлекательной.
– Жаль. На самом деле, ей бы съехать от Эмброуза. Конечно, он спас ее. Вероятно, сохранил ей рассудок и жизнь, но вся эта динамичная натура – это как Трильби и Свенгали[37].
– Почему она живет в его доме?
– Она была замужем за Стюартом Энгстрандом, который внешне просто «ах» и «ох». Я видел фотографии и скажу вам: не будь я гетеросексуален по самую макушку, я бы в него влюбился. У них с Уной была квартира в Хемпстеде, но он всегда шлялся где-то с другими женщинами. Энни говорит, что он не мог им противиться, а они не оставляли его в покое. Уна поняла, что больше не может этого выносить, и они расстались. У них была дочка двух лет, по имени Люси. Стюарт обычно забирал ее на выходные.
– Была? – прервал его Алан. – Вы хотите сказать, она умерла?
– Стюарт забрал ее на выходной на квартиру своей очередной женщины. Не жилье, а настоящие трущобы, скажу я вам. Они с женщиной отправились в пивнушку, а в их отсутствие Люси перевернула керосиновый обогреватель, и ее ночная рубашка загорелась.
– Ужасно.
– Да. Уна болела несколько месяцев. Красавчик Стюарт скрылся после того, как коронер[38] привлек его на дознание. Он заперся в коттедже в Дартмуре, оставшемся ему от матери. Тогда-то и вмешался Эмброуз. Он привез Уну сюда и присматривал за нею. В то время он писал свой главный труд, «Неоэмпирицизм». Так он себя называет – неоэмпирицистом. Но он на много месяцев отложил работу и делал все, чтобы помочь Уне. Это было три года назад. И с тех пор она живет здесь, ведет для него дом. Прежде чем уехать на Яву в январе, Эмброуз оплатил переделку цокольного этажа в жилой, с полной отделкой, и сказал, что Уне следует сдавать там комнаты и жить на вырученные деньги. Он заявил, что это научит ее принимать ответственность и смотреть в лицо реальности.
– Что случилось со Стюартом Энгстрандом?
– Вскоре он оправился и пожелал, чтобы Уна к нему вернулась. Но она не захотела, а Эмброуз сказал, что Стюарт просто убегает в грезы о материнском тепле, тогда как ему нужно тщательно проработать реальность своих индивидуальных воззрений и свою сексуальность. И Стюарт начал их прорабатывать – подцепив новую дамочку, которая оказалась богатой и увезла его в свое поместье на Тринидаде. Еще пива? Или хотите чего-нибудь покрепче?
– Моя очередь, – неловко ответил Алан, не зная, укладывается ли это в рамки этикета, раз уж Цезарь его пригласил. Но, судя по всему, все было правильно, Цезарь не стал протестовать, и Алан понял, что учится вести себя в таких ситуациях, заводить друзей и в целом прорабатывать реальность, которую он выбрал еще в Чилдоне, держа в руках деньги.
В пятницу в антикварном магазине на Пемброкском рынке он увидел Роуз. Она заплела волосы в косы, уложив их вокруг головы, и в длинном черном платье с серебряной отделкой выглядела отстраненно, таинственно и соблазнительно. Алан уже приготовил речь, которую репетировал всю дорогу от Монткальм-гарденс.
– Вы просили зайти и сказать вам, как у меня дела. Я нашел себе жилье по объявлению на том стенде, просто идеальное жилье. Но если бы не вы, я бы не додумался туда взглянуть. Я вам очень признателен. Если вы свободны завтра вечером… если вы не заняты, то нельзя ли… нельзя ли нам куда-нибудь сходить вместе? Вы были очень добры ко мне.
Она удивленно приподняла брови и сказала:
– Вы приглашаете меня только потому, что я была добра?
– Я не это имел в виду. – Ее слова смутили Алана, и голос его задрожал от неловкости. Но он все же продолжил, страшась собственной храбрости: – Никто бы не подумал о вас так, едва вас увидев.
Она улыбнулась и произнесла:
– А, вот так-то лучше.
Ее глаза были неотрывно устремлены на Алана. Он отвел взгляд, стараясь не покраснеть, и спросил самым небрежным тоном, на какой был способен в этот момент:
– Вероятно, ужин и театр? Я все устрою и… позвонить вам тогда?
– Я завтра весь день буду в магазине, – ответила она. – Звоните в любое время.
Это было странно и пленительно – как много могли подразумевать и обещать такие простые слова. Алан предположил, что дело, наверное, в ее голосе, ее изящной позе и в том, как она склоняет голову, подобно лебедю. Роуз издала тихий гортанный смешок.
– Вы ничего не забыли?
– Забыл? – Он все время боялся сделать какой-нибудь промах. В чем он ошибся сейчас?
– Ваше имя, – напомнила она.
Он сказал, что его зовут Пол Браунинг. Прошло несколько часов, прежде чем Алан испугался собственных действий, и к тому времени он уже зарезервировал на завтра столик в ресторане, телефон которого нашел по рекламному объявлению в вечерней газете. Стоя у кассы театра, он собирался с духом, чтобы купить два билета – для себя и для Роуз.
13
Как и Алан Грумбридж, Найджел жил в мире грез. Единственное, что ему нравилось в журнальчиках Марти, – это страницы с рекламой, где молодые люди, ровесники Найджела, выглядевшие ничуть не красивее его, позировали в темных очках на фоне спортивных машин «Лотус» или в кожаных креслах в пентхаусе, с округлыми бокалами с бренди в руках. Он так и видел себя в подобном месте, и Джойс, его рабыня, ожидала бы его. Он заставил бы ее на коленях подавать ему еду, и если бы ему не понравилось блюдо, он пинал бы ее. Она знала бы о каждом совершенном им преступлении – к тому времени он стал бы королем европейской преступности, – но строго хранила бы все его секреты, потому что почитала бы его и принимала от него побои и оскорбления с собачьей преданностью. Они жили бы в Монако, а может быть, и в Риме – Найджел еще не решил, где именно, – и в его жизни были бы другие женщины, модели и кинозвезды, которым он отдавал бы большую часть своего внимания, а Джойс сидела бы дома, и он всегда мог щелчком пальцев отослать ее в другую комнату. Но иногда, когда он мог позволить себе уделить ей время, он разговаривал бы с ней о начале его карьеры, напоминая ей, как некогда она обливала его презрением в маленькой грязной комнате в северном Лондоне, пока он, проявив блестящее предвидение, не снизошел до нее, дабы привязать к себе и сделать своей навсегда. И она ползала бы перед ним на коленях, благодаря его за снисхождение и умоляя о редком касании, о драгоценном поцелуе. Он смеялся бы над ней и пинком отгонял ее прочь. Разве она забыла, как некогда говорила о том, чтобы предать его?
Реальность пробивалась сквозь грезы, принося с собой сомнения. Его сексуальный опыт был весьма ограничен. В частной школе у него бывали соития с другими мальчиками, и эти соития были короткими, грубыми и неприятными, хотя несколько лучше, чем мастурбация. Выйдя из школы, Найджел обнаружил, что очень привлекателен с точки зрения девушек, однако особого успеха с ними не добился. Чем симпатичнее они были, тем сильнее пугали его. Перед лицом красоты и юности он терялся. Отец послал его к психиатру – конечно же, не из-за неудач с девушками, о которых доктор Таксби не знал. Однако почтенный доктор желал понять, почему его сын не может получить диплом или работу, как другие люди. Психиатр не смог обнаружить причину этого, и неудивительно: в основном он расспрашивал Найджела о его чувствах к матери. Найджел сказал, что ненавидит мать, хотя это было неправдой, однако он знал, что психиатрам нравится слышать что-то в этом духе. Но все равно психиатр никогда не рассказывал Найджелу о своих открытиях и не ставил никаких диагнозов, и после пяти сеансов молодой человек перестал к нему ходить. Сам он пришел к заключению, что для успеха ему требуется, чтобы его обучила всему женщина постарше и, лучше всего, непривлекательная. Он понял, что с женщинами в возрасте ему проще, чем с девушками. Они меньше пугали его, потому что он мог презирать их и считать, что они должны быть ему признательны.
Однако Джойс не была женщиной в возрасте – Найджел решил, что она, вероятно, младше его. И все-таки ее внешность не могла напугать его до импотенции. Кассирша из банка была уродлива и вульгарна – с большими круглыми глазами, толстыми губами и носом, похожим на маленький пухлый кекс. И он уже презирал ее. Хотя он демонстрировал показное отвращение к изящной жизни, хрустальным бокалам, столовому серебру, сервированным столам, вечерним трапезам в ресторане, к квалифицированным специалистам и университетским дипломам, все же воспитание оставило на нем неизгладимый след. В душе он был снобом. Джойс была неприятна ему, потому что происходила из рабочего класса. Но он не боялся ее, и когда он думал о том, что обретет: свободу, избавление и ее молчание, – он начинал меньше бояться самого себя.
Утром в субботу Найджел принес из кухни кофе – чашку для нее и чашку для себя. Марти уже перестал пить что-либо, кроме виски и вина.
– Что ты вяжешь, Джойс?
– Джемпер.
– А картинка его есть?
Она перевернула страницу журнала и показала цветную фотографию красивой, но плоскогрудой и тощей девушки в объемистом свитере. Джойс ничего не сказала, только перелистнула страницу обратно секунд через пять.
– Ты будешь выглядеть в этом отлично, – заявил Найджел. – У тебя шикарная фигура.
– Угу, – отозвалась Джойс. Она не была польщена. Любой парень, с которым она знакомилась, говорил ей об этом, да и сама она это знала лет с двенадцати. Мы жаждем, чтобы нас хвалили за достоинства, которых у нас нет, и любовь Джойс к Стивену зародилась тогда, когда он сказал, что у нее красивые глаза.
– Я хочу, чтобы ты сегодня вечером ушел, – сказал Найджел Марти, пока Джойс была в туалете.
– Чего?
– Оставь меня наедине с ней.
– Просто круто, чего уж там, – фыркнул Марти. – Я должен слоняться по холоду, пока ты заигрываешь с девушкой… Ну уж нет. Ни за что.
– Ты так говоришь, как будто что-то в этом понимаешь. Подумай, и поймешь, что это единственный способ вытащить нас отсюда. И тебе вовсе не обязательно слоняться по холоду. Можешь сходить в кино.
Марти подумал и решил, что это имеет смысл. Однако затаил обиду, поскольку считал, что если кто-то и должен подкатывать к Джойс, то это он сам. Не столько из теплых чувств к ней, сколько из мужского самолюбия, хотя сам он в таких терминах не мыслил, но тем не менее это должен был быть он. Не то чтобы у него были какие-то идеи насчет того, как обеспечить молчание Джойс подобными методами. Он был реалистом, чье представление о сексуальной жизни сводилось к забавному времяпрепровождению во время легких романчиков, до тех пор, пока ему не исполнится лет тридцать и он не осядет где-нибудь, обзаведясь семьей и домиком в пригороде. Но если Найджел считает, что таким методом сможет вытащить их, пусть Найджел этим и занимается. Поэтому в шесть часов вечера Марти принес на всех донер-кебаб и долму, выпил половину стакана чистого виски и пошел на фильм «Горячее сексуальное варево» в грязный маленький кинотеатр в Кэмден-таун.
– Куда он ушел? – спросила Джойс.
– Навестить свою мать.
– Ты хочешь сказать, у него есть мать? И где она живет? В обезьяннике в зоопарке?
– Послушай, Джойс, я знаю, что он не похож на тех парней, с которыми ты привыкла общаться. Я это понимаю. Он и не моего круга человек, если честно, я понял это достаточно быстро после знакомства с ним.
– И все же не следует так говорить о нем за глаза. Я считаю, что, если уж ты с кем-то дружишь, будь ему верен. И если хочешь знать мое мнение, из вас двоих я не выбрала бы никого.
Они находились в кухне. Джойс мыла за собой посуду после ужина. Найджел и Марти тарелками не пользовались, зато ели вилками, а Марти наливал виски в один из новых стаканов. Джойс подумывала о том, чтобы оставить вилки и стакан грязными, но они портили вид жилья, поэтому она помыла и их тоже. Впервые в своей жизни Найджел взял в руки посудное полотенце и начал вытирать тарелки. Пистолет он отложил на плиту.
Ложь насчет матери Марти подала ему идею. Не то чтобы матери, которых боятся, резирают, почитают, по которым тоскуют, были для него чем-то несущественным, как бы он ни притворялся. Выдуманная им причина для ухода Марти пришла ему на ум совершенно естественно и неизбежно. Примерно за час до этого Марти принес вечернюю газету, и Найджел просмотрел ее, пока сидел в туалете. «Заложники из самолета “Сабены” рассказывают о пытках» и «Новые шаги к увеличению заработной платы» – гласили заголовки статей на первой странице. На второй же было несколько строк о том, что миссис Калвер находится в больнице после принятия большой дозы снотворных таблеток. Найджел неуклюже вытер стакан и, намереваясь перейти к основной части плана, рассказал Джойс о том, что случилось с ее матерью.
Девушка села на стул.
– Вы маньяки, – выговорила она. – Вам плевать, что вы творите. Если с ней что-нибудь случится, это убьет моего отца.
Постаравшись говорить тем тоном, который, как он знал, Джойс любила, Найджел произнес:
– Мне очень жаль, Джойс. Мы не могли предвидеть, что все так обернется. Но твоя мать не умерла, и она поправится.
– Если и поправится, то не благодаря вам!
Он подошел к ней ближе. Жар от открытой духовки заставил его вспотеть. Джойс готова была заплакать и терла глаза, чтобы загнать слезы внутрь.
– Послушай, – продолжал Найджел. – Если хочешь, напиши ей записку, то есть письмо, и я постараюсь, чтобы она его получила. Я совершенно честно говорю. Просто напиши ей, что ты в порядке, что мы не причинили тебе вреда, и я сам отошлю это письмо.
Джойс неосознанно процитировала любимый ответ своей матери:
– Поешь песенку «Верь, если хочешь»?
– Я обещаю. Ты мне очень нравишься, Джойс. Правда. Я считаю, что ты выглядишь великолепно.
Джойс сглотнула, потом откашлялась, прижимая руки к груди.
– Дай мне бумагу.
Найджел взял пистолет и пошел за бумагой. Кроме туалетной бумаги в сортире, в доме ничего подобного не было, поэтому он оторвал заднюю обложку от зачитанной до дыр «Венеры в мехах»[39], валявшейся на подоконнике. Пистолет вновь вернулся на плиту, а Найджел встал позади Джойс, придав лицу самое заботливое выражение на тот случай, если она обернется.
Девушка написала: «Дорогая мама, ты, конечно, узнаешь мой почерк. Сообщаю, что со мной все в порядке. Не волнуйся. Скоро я буду дома, с тобой. Скажи папе, что я его люблю». Она сжала зубы – сильно, до скрипа. Она поплачет позже, когда эти двое уснут. «Твоя любящая дочь Джойс».
Найджел положил руку ей на плечо. Джойс собиралась крикнуть: «Отстань от меня!» – но пистолет был так близко, его можно было схватить, если вытянуть руку. Тогда «позже» будет временем не для слез, а для радости и встречи с семьей. Надо только не терять сейчас головы. Она наклонилась вперед над столом. Найджел зашел с другой стороны, склонился над нею и положил другую руку на второе плечо девушки, едва ли не обнимая ее, и произнес:
– Джойс, любимая…
Она медленно подняла голову, и лица их оказались совсем рядом. Девушка смотрела в его холодные глаза, на его красивые губы, полуоткрытые в предвкушении. Его поцелуи не должны быть особо отвратительны, он достаточно симпатичен. Если она должна его поцеловать, она это сделает. Не нужно особо придавать этому значения. Что касается дальнейшего… Найджел коснулся губами ее губ, и Джойс быстро протянула руку за пистолетом.
– Ах ты, сука! – заорал он и выбил пистолет у нее из руки.
Оружие полетело на пол через всю кухню. Найджел упал на колени, чтобы схватить его. Отпрянув, Джойс прислонилась к стене, скрестив руки на груди. Найджел направил на нее пистолет и мотнул головой, приказывая ей идти в жилую комнату. Она вошла и устало осела на матрас, держа письмо в руках.
Несколько секунд спустя девушка выдавила хриплым низким голосом:
– Можешь это порвать.
– Тебе не следовало так делать.
– А ты бы не сделал так на моем месте?
Найджел не ответил ей. Он быстро соображал. Это происшествие не должно сорвать его планы. Джойс вполне согласна была поцеловать его, она этого желала, – он понял это по глупо-сентиментальному выражению ее лица, когда обнял ее за плечи. И вполне естественно, что ей пришла в голову мысль схватить пистолет – самосохранение превыше секса. Но в дальнейшем вполне может сложиться ситуация, когда самосохранение не включится – когда они оба меньше всего будут думать об оружии. Эта попытка поцелуя разбудила в нем настоящее желание. То, что Джойс оказалась в его власти, то, что она испытывала покорность и благодарность к нему, заставило Найджела желать ее.
– Я не буду ничего отменять из-за этого, – сказал он. – Твое письмо я все равно отправлю.
Джойс была удивлена, но и не подумала отблагодарить его. Ярость на ее лице снова сменилась мягким расслабленным выражением.
– Дело в том, – продолжил Найджел тоном воспитанного школьника, – что мне кажется, что я тебе и впрямь нравлюсь. Понимаешь, я почувствовал в тебе это с самого начала.
Джойс знала, что должна сделать сейчас – или не сейчас, а завтра, когда брюнет снова уйдет. Ее тошнило при одной мысли об этом, и она представить не могла, как сделает это и что будет при этом чувствовать. Будет ли она сама себе казаться грязной и отвратительной, как проститутка? А что, если она забеременеет? Она уже неделю не имела возможности принимать свои таблетки. Но она сделает все, что от нее потребуется, и доберется до пистолета, а о последствиях подумает позже, когда будет дома с матерью, отцом и Стивеном. Ей никогда и в голову не приходило, что она за всю свою жизнь будет заниматься любовью с кем-либо, кроме Стивена. Они со Стивеном будут заниматься любовью каждую ночь, как и прежде, пока им не стукнет лет сорок и они не станут слишком старыми для этого. Но если черт гонит, приходится ехать. Она посмотрела на светловолосого негодяя с пистолетом. Вот он, черт, который гонит…
– Я не против того, что ты собирался сделать только что в кухне, – сказала она. – Но только не сейчас. Я себя плохо чувствую, это было как шок.
– Джойс, – вымолвил он и сделал шаг к ней.
– Нет. Я сказала – не сейчас. Он может в любую минуту вернуться.
– Завтра я избавлюсь от него на весь вечер.
– Не завтра, – возразила Джойс, стараясь оттянуть неприятные события. – В понедельник.
14
В театре, который выбрал Алан, шла постановка комедии Бернарда Шоу, собравшая много хвалебных отзывов. Он решил пойти сюда потому, что здесь не будет постельных сцен, разговоров о сексе или матерных слов, которые заставили бы его покраснеть в обществе Роуз. Но, оказавшись у кассы, он узнал, что остались только билеты на галерку, а он не мог повести на галерку такую девушку, как Роуз. Все остальные театры в округе, похоже, давали либо такие пьесы, которых Алан старался избегать (из-за чего и выбрал «Поживем – увидим»), либо Шекспира, который для такого случая казался слишком серьезным, или же мюзиклы, которые могли не нравиться Роз.
А потом неожиданно Алан понял, что вообще не может выдержать этого. От испуга у него заледенели ноги. Он не мог ужинать с нею наедине в ресторане, не зная, что заказать, и как это сделать, или какое вино выбрать. Он не мог провожать ее домой поздним вечером, сидеть рядом с нею на заднем сиденье такси, после того, как они вместе посмотрели пьесу, где люди появлялись обнаженными, говорили о сексе или, хуже того, занимались им. И посреди этих сомнений ему пришла в голову удачная мысль. Когда Алан поднимался наверх, чтобы спросить Уну Энгстранд о нагревателе воды, он подумывал пригласить ее и Цезаря Локсли что-нибудь выпить вечером в субботу. Почему бы не сделать именно так? Почему бы не позвать Уну, Цезаря и эту его Энни на стаканчик чего-нибудь легкого в его комнату и пригласить также и Роуз? Эта идея нравилась ему куда больше. Роуз увидит дом, который он нашел благодаря ее доброте, он не будет оставаться наедине с ней, пока не пойдет провожать ее домой, – а может быть, у нее есть машина? И к тому же он с радостью устроит вечеринку, столь не похожую на визиты в гости к Китсонам и Хейшемам, на этой вечеринке будет настоящее общение между людьми, которые тепло друг к другу относятся и хотят провести время вместе. И это должно сломать лед между ним и Роуз, сделав их следующую встречу куда проще и приятней для него.
Достаточно ли будет одних напитков, или нужно взять еще и еды? Он не умеет готовить. Алан подумал о салате-латуке, сардинах и кексе «Мадейра», о печенке, беконе и сосисках. Это было безнадежно. Пусть уж будут одни напитки, с орешками на закуску. Рядом с винным магазином, где он купил «Бристоль-крим» и вермут, располагался киоск с прессой. Вечерняя газета поведала Алану – на двадцать четыре часа раньше, чем Найджелу, – что лайнер «Сабены» приземлился в Каире, что переговоры о повышении заработной платы зашли в тупик и что мать Джойс Калвер доставлена в больницу в состоянии комы. Над ним словно прошло облако, омрачая его счастье и заслоняя бледное зимнее солнце. Если миссис Калвер умрет, вправе ли кто-либо сказать, что это вина Алана? Нет. Если бы он поднял тревогу и полиция преследовала похитителей Джойс, кто знает, что могло бы с ней случиться? Грабители могли бы разбить машину или пристрелить девушку. Множество случаев доказывает, что в отношении подобных людей лучше не предпринимать поспешных действий. Он сам только что прочитал об исходе дела с угоном самолета. Никаких угроз или вооруженных атак, в отличие, скажем, от операции «Энтеббе»[40], когда была убита женщина. А сейчас все спокойно сдались угонщикам, и за этим последовали мирные переговоры.
Он встретил Уну в холле. Ему и Цезарю приходилось пользоваться парадным входом, потому что когда-то, давным-давно, Эмброуз приказал замуровать дверь в цокольный этаж, опасаясь воров. Очевидно, даже этот неоэмпирицист испытывал некоторые опасения в отношении реальности. Уна, неутомимая домохозяйка, чистила латунную лампу. Ее пальцы были испачканы средством для полировки металла.
– Я с радостью приду, – промолвила она, когда Алан рассказал ей о планах на вечеринку. – Как мило с вашей стороны пригласить меня. Цезарь уехал к Энни на выходные, он чаще всего именно так и делает. Но я уверена, что он придет вместе с нею.
– Значит, она живет не в Лондоне? – Алан только один раз ездил в гости на выходные, к двоюродному брату Пэм в Скегнесс, и этому визиту предшествовали несколько дней лихорадочных приготовлений.
– В Хэрроу или примерно где-то там, – ответила Уна. – Не очень далеко. Я сообщу ему, когда он позвонит сегодня вечером, хорошо? – И добавила в своей странной рассеянной манере: – Он собирается звонить, чтобы узнать, не получал ли он звонка от кого-то, кто знает его телефон и с кем он желал бы побеседовать, но не знает номера их телефона. Я сообщу ему, однако знаю, что он будет рад прийти.
Она была одной из тех людей, чьи лица преображаются от улыбки. Сейчас она улыбнулась, и Алан с внезапным приступом сострадания к ней подумал, что на самом деле Уна полна радости жизни, веселья и энергии, но эти качества давно уже подавлены и пригашены неверностью Стюарта, смертью ребенка и, возможно, суровостью неоэмпирициста Эмброуза.
– Вообще-то, – произнесла она, – было бы неплохо снова отведать спиртного. Эмброуз этого не одобряет, потому что оно искажает и затуманивает сознание, понимаете? О боже, по-моему, в доме даже бокалов для вина нет!
– Я куплю бокалы, – сказал Алан. Он спустился в свою комнату и включил радио. В новостях не было ничего о миссис Калвер. Какой-то представитель авиакомпании «Сабена» и какой-то тип из правительства заявляли, что не сделают ничего, способного поставить под угрозу жизни заложников из угнанного самолета.
В ту ночь ему снился сон о Джойс. Цезарь Локсли спрашивал его, находит ли он ее привлекательной, и скрытый смысл этого вопроса испугал Алана, поэтому он спрятался от нее в чулан, где стоял нагреватель для воды, десятки бутылок хереса и стопки книг Эмброуза Энгстранда. Здесь было тепло и безопасно, и даже когда Алан услышал крик Джойс, он не вышел. Но потом он увидел, что чулан на самом деле был огромной залой – или превратился в эту залу. Множество лестниц вели отсюда вверх и вниз, направо и налево. Алан поднялся по одному из пролетов до самого верха и оказался в пышных покоях средневекового замка, где его ожидали четырнадцать рыцарей с обнаженными мечами.
Этот сон заставил его пробудиться и долгое время не давал уснуть, поэтому утром Алан проспал. Его разбудил женский голос, зовущий кого-то по имени Пол. «Пол, Пол!» Только через несколько минут он сообразил, что Пол – это его новое имя, и осознал, что это, должно быть, Уна Энгстранд зовет его, стоя за дверью его комнаты. Алан решил, что она, должно быть, стучала, прежде чем произнести это чужое для него имя, но когда он отпер дверь, Уны уже не было в коридоре.
Уже миновала половина десятого. Одеваясь, Алан услышал, как наверху открылась и закрылась дверь парадного входа. Уна ушла. Не будет ли она против, если он воспользуется телефоном? Похоже, Цезарь по этому телефону звонил. Алан сделал себе чай, съел кусок хлеба с маслом и поднялся наверх, чтобы позвонить Роуз в магазинчик на Пемброкском рынке.
– О, алло! – ответила по телефону сама Роуз. Последний слог прозвучал соблазнительно, плавно и протяжно переходя в выдох. Алан рассказал ей о своем альтернативном плане вечеринки.
– Я думала, вы собираетесь пригласить меня на ужин, – отозвалась Роуз, и голос ее теперь был холодным и отчужденным. Алан продолжил, запинаясь:
– Я… я приглашаю и вас, и других людей. Они вам понравятся. Это мой сосед по дому и моя… моя домовладелица. Вы сможете сами увидеть, какое это чудесное место.
Она произнесла очень медленно, словно поверить не могла тому, что услышала:
– Вы, должно быть, с ума сошли. Или издеваетесь. Я должна прийти к вам, чтобы выпить с вашей домовладелицей? Спасибо, но в субботний вечер у меня есть куда более приятные занятия.
В телефоне щелкнуло, пошли короткие гудки. Алан в замешательстве посмотрел на гудящую трубку и положил ее на рычаг. В этот момент дверь дома открылась, и вошла Уна Энгстранд.
– Извините, – сказал Алан. – Мне не следовало звонить, не спросив у вас. Я заплачу за звонок.
– Вы звонили в Австралию?
– Нет, зачем бы мне? Это был местный звонок.
– Тогда, пожалуйста, не беспокойтесь об оплате. Я сказала «Австралия», потому что вы вряд ли могли звонить в Америку, там еще все спят.
Алан смотрел на нее в отчаянии, так же не понимая ее, как не понимал и Роуз, но сожалея, что Роуз не наделена подобной теплой и чуть простоватой открытостью.
– Цезарь позвонил только сегодня утром, – продолжала Уна. – Я стучала в вашу дверь и звала вас, но вы спали. Он не сможет прийти на вашу вечеринку, он уже идет на ужин с Энни в другое место. Но, я думаю, к вам придут и другие люди, верно?
– Только вы, – ответил он, – теперь только вы.
– Вы не захотите пить только со мной.
Алан не хотел. Он думал о том, чтобы перезвонить Роуз и заново пригласить ее на ужин, но боялся ее недовольства. Он потерял ее и никогда не увидит снова. Какую неразбериху он устроил из первой своей попытки наладить жизнь! Все потому, что у него не было опыта, не было представления о том, как эти люди организуют свою жизнь, чего они ожидают. И из-за этого ему предстоит провести вечер наедине с этой смешной маленькой женщиной, придавленной трагической судьбой. Его мечты о свободе и фантазии о любви свелись вот к этому – к долгим часам, которые предстояло провести в компании женщины, не более привлекательной и соблазнительной, нежели Венди Хейшем.
Уна Энгстранд задумчиво смотрела на него, покорно ожидая отказа. Он ответил, зная, что ничего не может с этим поделать:
– Конечно, захочу.
День до вечера тянулся невыносимо тоскливо. Алан прогулялся по парку, теперь отчетливо понимая причину негодования Роуз и гадая: как он мог быть таким дураком, что не предвидел это заранее. Он подумывал завести с нею роман, но ему не хватило отваги сделать даже первые шаги. Его настигло возмездие за одни только мысли о любви на стороне, в то время как он по-прежнему был женат на Пэм. Вечерняя газета слегка развеяла его уныние: в ней говорилось, что миссис Калвер стало лучше и что выполнение всех требований похитителя самолета обеспечило освобождение всех заложников живыми и невредимыми – за исключением одного мужчины, который заявил, будто ему прижигали шею горящими сигаретами. Алан пообедал и сходил на дневной спектакль – давали комедию о приключении нескольких человек на необитаемом острове. Его свобода, по которой он так долго тосковал, обернулась одинокими прогулками под дождем и сидением в театре среди ворчливых старых тетушек.
Уна Энгстранд спустилась в его комнату в половине девятого, когда он уже решил, что она вообще не собирается приходить, что ее не более привлекает этот тоскливый тет-а-тет, чем его самого. Она переоделась в юбку и стянула волосы на затылке лентой, но в остальном ее внешность не претерпела никаких изменений.
– Я хотела бы водки, если можно, – сказала она, чопорно усевшись посередине его дивана.
– Я забыл купить бокалы!
– Ничего страшного, мы можем пить из стаканов.
Алан разлил водку, разбавил ее тоником и стал лихорадочно подыскивать тему для разговора. Машины, работа, цены – инстинктивно он знал, что все это нелепица. Ни один свободный настоящий человек ни за что не будет говорить о подобных вещах. Он отрывисто произнес:
– В книжном магазине я видел несколько книг вашего свекра. – Для нее это, вероятно, была не новость. – Что он делает на Яве?
– Наверное, это Цезарь сказал вам, что Эмброуз на Яве? Он очень милый, Цезарь, но ужасный сплетник. Я предполагаю, что он рассказал вам и о других вещах. – Она вопросительно улыбнулась Алану. Он заметил, что у нее очень красивые зубы, очень ровные и белые.
Она пожала плечами, подняла свой стакан и произнесла в старомодной вычурной манере:
– Выпьем же за вас. Я надеюсь, что вы здесь будете счастливы. – Неожиданно она хихикнула. – Эмброуз услышал о каком-то племени в Индонезии, у которого нет фольклора, каких-либо легенд или мифологии и которое не читает книги. Я предполагаю, что они просто не умеют читать. Он хочет встретиться с ними и узнать, не наделены ли они тем прекрасным свободным мышлением и пониманием подлинного значения реальности, которое он повсюду ищет. По возвращении он намеревается написать о них книгу. Он уже придумал название – «Нагой разум», и я буду печатать для него этот труд.
Алан сел напротив нее. От водки или от чего-то еще он почувствовал себя лучше.
– Так вы машинистка?
– Нет, о нет. Боже, я должна была обучаться за время его отсутствия; предполагалось, что я пройду курс машинописи. И я даже начала, но они заставили меня закрывать клавиши, а от этого у меня приступы клаустрофобии. Цезарь говорит, это сумасшествие. Вы можете представить такое?
Выражение ее лица представляло собой столь забавную смесь веселья и раскаяния, что Алан не выдержал и рассмеялся. Это заставило ее засмеяться тоже. Он осознал, что не смеялся вслух с тех пор, как сбежал из Чилдона, а может быть, и задолго до того. Почему у него возникло такое странное ощущение, что и для нее смех давно стал чем-то непривычным? Потому что ему известна ее история? Или есть другая, телепатического свойства причина? Эта мысль оборвала его смех, и Уна вслед за ним перестала смеяться, но ее маленькое, словно у летучей мыши, личико осталось радостным.
– Это не имеет особого значения, – сказала она. – Эмброуз все равно считает, что я безнадежна. Он просто скажет, что очень разочарован, вот и все. Но мне не следовало бы так часто упоминать о нем – Эмброуз сказал то, Эмброуз сказал это… Просто я очень много времени общаюсь с ним. Расскажите мне о себе.
До того момента, как ни странно, ему довольно редко приходилось лгать. Ни Роуз, ни Цезарь не расспрашивали Алана о нем самом, а больше он почти ни с кем не разговаривал. Он солгал только о своем имени и адресе. Вкратце и слегка неуверенно он поведал Уне, что был бухгалтером, но ушел с этой работы. Следующая часть рассказа была правдивой или почти правдивой:
– Я покинул свою жену. Просто ушел в прошлые выходные.
– Необратимый разрыв?
– Я ни за что не вернусь обратно!
– И это всё, что вы забрали с собой? Один чемодан?
– Это всё. – Он невольно оглянулся на бюро, где лежали деньги.
– Прямо как я, – вздохнула она. – У меня тоже нет ничего своего, только несколько предметов одежды и книги. Но здесь мне ничего больше и не нужно. В этом доме есть все, что только можно вообразить, и даже вдвое больше того. Назовите что-нибудь, самую невероятную вещь, какую можете придумать. Держу пари, у Эмброуза она есть.
– Бокалы для вина.
Уна рассмеялась:
– Мне следовало предположить.
– Прежде чем вы переехали сюда, – осторожно сказал Алан, – у вас должны были быть какие-то вещи.
Черты ее лица неожиданно заострились, словно от боли, и это повергло Алана в смятение. Он так наслаждался ее обществом – столь неожиданно и чудесно, – что испугался разрушить эту связь, возникшую между ними. Но Уна быстро пришла в себя и беззаботно ответила:
– Стюарт, мой муж, оставил себе большую часть имущества. Бедняжка, ему надо знать, что у него много вещей, даже если он не может ими пользоваться. Эмброуз говорит, что это внешний признак неуверенности и что Стюарту нужно это проработать.
Алан выпалил, хотя знал, что не должен это говорить:
– Ваш свекор еще хуже, чем мой тесть! Он просто монстр.
И она снова засмеялась, став невероятно обаятельной. Потом протянула свой стакан.
– Налейте еще, пожалуйста. Это вкусно. Я так хорошо провожу время! Да, надо полагать, что Эмброуз ужасен, но если я это скажу вслух, люди подумают, что ужасна я сама, – ведь все считают его замечательным человеком. Кроме вас. – Она глубокомысленно кивнула. – Мне это нравится.
В этот момент Алан влюбился в нее, хотя прошло еще немало часов, прежде чем он это осознал.
15
Уна сидела в комнате Алана до одиннадцати часов – «времени Золушки» в Наделе Фиттона. Но она не спрашивала у него, который час, и не восклицала: «О боже, я и не знала, что уже так поздно!» После того как она ушла, Алан прибрал со стола и помыл стаканы, думая о том, как он рад, что Цезарь и его девушка не пришли. Еще больше он был рад тому, что здесь не было Роуз. Уна говорила о книгах, которые она прочитала, – во многом этот перечень совпадал с тем, что читал и сам Алан. Никогда раньше он ни с кем не говорил на эту тему. Нечто головокружительное, более опьяняющее, чем выпитая ими водка, было в том, чтобы находиться рядом с человеком, который рассказывает о персонаже книги или об авторском стиле с такой страстью. Подобные чувства в прежней жизни Алана его собеседники вкладывали только в рассуждения об экономии денег или о ценах. О чем бы говорила Роуз? За время, проведенное с Уной, она снова стала воображаемым образом, каким была прежде, слилась с этим образом. Алан едва мог поверить в то, что когда-либо встречал ее во плоти и что она вообще существовала в реальности. Он снова и снова прокручивал в памяти то, что сказала ему Уна, и то, что сказал ей он, и думал о том, что хотел бы ей сказать. Но это неважно, ведь еще будут встречи, будут разговоры. Он встретил друга, с которым можно говорить.
Прежде чем лечь спать, Алан внимательно изучил себя в зеркале. Он хотел понять, какого человека видела перед собой Уна. Он перестал гладко прилизывать волосы, так, что теперь они больше походили на шевелюру, чем на кожаную шапку, а лицо было… ну, не то чтобы смуглым, но вполне здорового цвета. Пока он жил в деревне, ему никогда не удавалось загореть, а вот теперь он получил загар за неделю прогулок по Лондону. Живот уже не так выпирал над ремнем. Алан подумал, что выглядит на тридцать восемь лет, а не на пятьдесят без малого. Вот что видела Уна. А он? Алан так ярко вообразил ее, словно она по-прежнему сидела возле стола: ее личико невероятно оживлялось, когда она смеялась, глаза ярко блестели. Кудрявые волосы выбились из-под ленты и к моменту ее ухода снова пышной массой обрамляли ее худые щеки. Завтра он поднимется наверх, встретит ее и пригласит на обед. Идея повести ее в ресторан, заказать еду и вино ничуть не пугала Алана. Но сейчас он слишком устал. Он лег в постель и немеденно уснул.
Около трех часов ночи он проснулся. Водка оставила у него ощущение страшной жажды, поэтому он направился в кухню и выпил пинту воды. После этого было бы естественным снова лечь в постель и проспать, скажем, часов до семи, но Алан чувствовал себя совершенно проснувшимся, бодрым и невероятно счастливым. Столько лет прошло с тех пор, как он ощущал такое счастье? Да и ощущал ли вообще? Да – когда был маленьким и еще когда родилась Джиллиан, потому что она была желанным ребенком. И еще он был счастлив на какой-то странный манер, когда уезжал прочь из Чилдона с деньгами. Но все это было совершенно иначе. Нынешнее чувство было совсем новым для него. Алану хотелось выбежать из дома и носиться взад-вперед по Монткальм-гарденс, крича о том, что он свободен, счастлив и нашел смысл жизни. Огромная радость охватила его. Энергия словно струилась через его тело, стекая с кончиков пальцев. Он хотел рассказать об этом кому-то, кто это поймет, и знал, что хочет рассказать именно Уне.
Так вот что такое «влюбиться», вот на что это похоже! Алан рассмеялся вслух. Он открыл холодный кран, набрал полные горсти воды и плеснул в лицо. Комната уже почти выстыла, потому что отопление выключали в одиннадцать, но ему было жарко, он весь словно пылал и по-настоящему вспотел. Упав на кровать, Алан накрылся простыней и стал думать об Уне, которая сейчас спит где-то наверху в доме. Или, может быть, она тоже бодрствует и думает о нем? Примерно с час он вспоминал прошедший вечер, в мыслях воспроизводя дословно свои диалоги с Уной, а после фантазируя о том, как они жили бы вдвоем в таком же доме, как этот, и были бы счастливы непрерывно, каждую минуту дня и ночи. Фантазии плавно перешли в сон об этом счастье, длинный красочный сон, – но потом этот сон оборвался и начался заново, уже в новом виде, и завершился кошмаром. В этом кошмаре Алан слышал крик Уны. Он бежал по бесконечным лестницам и бесчисленным комнатам, пытаясь понять, откуда доносится крик, и найти Уну. Наконец он наткнулся на нее – точнее, на ее тело. Она лежала мертвой, обгоревшей до смерти, среди обугленных банкнот. Но когда он поднял ее на руки и заглянул ей в лицо, то понял, что держит в объятиях вовсе не Уну. Это была Джойс.
Утренний холод проник через тонкую простыню, и Алан проснулся дрожа, с онемевшими ногами. Ночная эйфория прошла. Он понятия не имел, как нужно ухаживать за женщиной. Заговорить с Уной о любви было бы так же трудно, как и с Роуз, даже еще труднее, потому что в Уну он действительно был влюблен – это осталось неизменным, – в то время как к Роуз его влекло лишь ее сходство с воображаемой любовницей и порожденное этим сходством желание. Должно быть, сейчас он и Уна были одни во всем доме, и это ужасало Алана. Пригласить ее на обед было невозможно, невообразимо было вообще проявить какую-либо инициативу по отношению к ней. Он был женат, и она это знала. У него было представление, почерпнутое скорее из разглагольствований Пэм, чем из литературы: мол, если ты скажешь женщине, что любишь ее, и окажется, что она тебя не любит, она даст тебе пощечину. Особенно если ты женат, а она замужем. Это было очевидно – хотя логичной причины этому он придумать не мог, – что в некоторых обстоятельствах сказать женщине о своей любви к ней будет оскорблением. Алан оделся и вышел, думая, что если встретится с Уной в прихожей, то упадет в обморок или разрыдается. Но он ее не встретил.
Воскресные газеты гласили: «Бывший священник женится на стриптизерше» и «Сообщения о пытках опровергаются». Еще было сообщение о том, что в карстовых ямах в Дербишире ищут тела его и Джойс. Серебристо-синий «Форд Эскорт», ранее замеченный в Дувре, обнаружен в Турции, его пассажиры держат путь в индийский монастырь и ни в каких преступлениях не замешаны. Алан выпил чашку кофе и съел сэндвич, хотя его и мутило от вида и запаха еды. Довольно не скоро он заметил, что день славный. Вернулась такая же погода, какая стояла в неделю, предшествовавшую его бегству, – совсем как весной, сказала тогда Джойс. Теплые солнечные лучи ласкали лицо Алана. Если пойти в Кенсингтонский парк, можно встретить там Роуз, поэтому он дошел до ближайшей станции подземки, «Ноттинг-хилл», и купил билет до Хемпстеда.
Когда-то Уна жила в Хемпстеде. Алан вспомнил об этом лишь тогда, когда прибыл туда. Он шел по Хемпстеду, гадая, жила ли она на этой улице или вон на той, и гуляла ли она здесь каждый день, как сейчас гулял он. Он добрел до холмистой пустоши Хемпстед-Хит, просто следуя по Хит-стрит до ее конца. Весь Лондон лежал перед ним, и, стоя на холме близ Спаниардс-роуд, Алан смотрел на город сверху вниз, так же, как некогда смотрел Дик Уиттингтон[41], видя в солнечном сиянии вызолоченные крыши и улицы.
Его золото тоже лежало там, внизу, но оно было для него ничем, ведь оно не поможет ему получить Уну. Алан резко повернулся и зашагал в противоположном направлении, через лес, отделявший Спаниардс-роуд от Норт-Энда. Этот лес был совсем не похож на Чилдонский Выгон. В лесах, примыкающих к большим городам, деревья такие же, как в сельской глубинке, однако у их подножия вся поросль и большая часть травы вытаптывается почти начисто. Под ногами лежала бурая бесплодная пыль. В воздухе не чувствовалось влажного и свежего запаха зелени. Однако в это солнечное воскресное утро – было все еще утро, он ушел из дома очень рано – лес для Алана был наделен нежной ранимой красотой, которую весна возродила только для новых страданий. Теперь он знал, что авторы книг были правы относительно того, что делает с человеком любовь, как она преображает и возвышает, как вымывает из глаз соринки, мешающие видеть мир.
Выйдя из леса, Алан обнаружил, что понятия не имеет, где находится, однако продолжал шагать приблизительно в западном направлении, пока не набрел на широкую проезжую дорогу. «Финчли-роуд, СЗ2», – прочел он и осознал, что находится в тех краях, где проживает настоящий Пол Браунинг. Странно. Паддингтон располагался в районе Запад-2, так что Алан предполагал, будто Северо-Запад-2 находится поблизости. Теперь ему стало ясно, что Пол Браунинг был клиентом банка в Паддингтоне не потому, что жил поблизости, а потому, что там работал. Алан вынул атлас Лондона, потому что хотя он, наверное, больше никогда не заговорит с Уной и никогда не останется наедине с нею, он должен знать местоположение его прежнего дома.
План улиц показывал, что Эксмур-гарденс является частью жилого массива, где дороги были проложены весьма причудливо – концентрическими кругами или, точнее, концентрическими овалами. Каждая из них была названа в честь цепи гор или холмов на Британских островах. Похоже, идти туда пешком было неблизко, но Алан не знал, можно ли попасть туда как-то еще, и ощущал странный позыв увидеть дом Пола Браунинга. На самом деле путь оказался не столь уж далеким.
Большинство домов на Эксмур-гарденс были выстроены в псевдотюдоровском стиле, но некоторые отличались более новым и простым дизайном, и номер пятнадцать был одним из них. Он был больше, чем дом Алана в Наделе Фиттона, но в остальном очень похож: красный кирпич, большие окна, камин, сделанный не для тепла, а для вида, и клумба пампасовой травы в садике перед домом. Алан стоял и смотрел на дом, дивясь тому, что по случайности выбрал для своего выдуманного прошлого нечто столь похожее на прошлое подлинное.
Сам Пол Браунинг мыл машину на подъездной дорожке у гаража. Дверь в дом была открыта, и мальчик лет восьми бегал через нее туда-сюда, волоча за собой на поводке щенка, которому это, похоже, очень не нравилось. На противоположной стороне дороги стояла скамья. Она располагалась у входа на дорожку, видимо соединявшую один овал с другим. Алан сел на скамью и притворился, что читает газету. Мальчик продолжал таскать щенка вверх и вниз по ступенькам крыльца. Пол Браунинг издал сердитый возглас, отбросил мыльную тряпку, подошел к двери и крикнул в сторону прихожей:
– Элисон! Не позволяй ему мучить собаку!
Ответа не было. Пол Браунинг поймал мальчика и стал его журить, однако негромко и мягко. Тот подхватил с земли щенка и прижал к груди. Из дома вышла женщина, высокая, светловолосая,лет тридцати пяти. Алан не слышал, что она сказала, но, судя по тону, она защищала мальчика. По тому, как она обняла сына, улыбнулась мужу и погладила собачку, у Алана сложилось впечатление, что женщина была неистовым, но нежным защитником для них всех. Он сложил газету, поднялся со скамьи и пошел по дорожке прочь.
Эта маленькая сцена заставила его почувствовать себя обделенным. У него должно было быть все это – но никогда не было, и теперь было поздно пытаться обзавестись этим всем с кем бы то ни было. А еще он чувствовал себя до смешного виноватым за то, что присвоил имя и прошлое этого человека. К тому же это воровство оказалось совершенно бессмысленным, и вдобавок этим Алан возвел напраслину на настоящего Пола Браунинга, который ни за что не бросил бы жену. «Не была ли и другая кража, совершенная мною, столь же бессмысленной?» – задавал себе вопрос Алан.
Оказалось, что тропинка заканчивается на стороне овала, противоположной той, с которой Алан сюда вошел, и атлас подсказал ему, что он находится неподалеку от Криклвуд-Бродвея, который, похоже, был частью Эджвер-роуд в ее северной оконечности. Алан зашагал в ту сторону через район, быстро приходящий в упадок, опасаясь, что вскоре выйдет к каким-нибудь развалинам или трущобам. Однако этого так и не произошло. Вместо развалин он оказался в районе, который поддерживали в относительно хорошем – для этих неприглядных и пользующихся дурной репутацией мест – состоянии. Улица была широкой, вдоль нее тянулись вывески автосалонов и букмекерских контор, в витринах супермаркетов и лавок были выставлены сари и отрезы восточных шелков. На черной доске перед пивнушкой «Роза Килларни» было мелом выведено меню, где предлагались пироги с рубленым мясом и двумя овощными начинками на выбор, салат с ветчиной и некое блюдо, именуемое «Обед лепрекона». Оно оказалось хлебом с сыром и пикулями, но Алана смущала мысль о том, чтобы заказать нечто с таким странным названием, поэтому он попросил салат, а чтобы скоротать ожидание блюда – полпинты горького пива.
У девушки за стойкой бара было бледное одутловатое лицо и черные круги под глазами, как у человека, вскормленного в предместьях Дублина на одной картошке. Она нацедила Алану горького пива, потом пинту – для ирландца, говорившего с таким же сильным акцентом, как и она сама, а потом начала наливать двойной виски тощему парню с изможденным лицом, чей пакет, полный продуктов, был втиснут между его стулом и стулом Алана. Алан не знал, что заставило его посмотреть вниз. Возможно, то, что он все еще никак не мог привыкнуть бродить по Лондону воскресным днем и совершать покупки. А может быть, таким образом он просто выражал возмущение (на респектабельный манер среднего класса) тем, что кто-то вторгается посредством этого пакета в его личное пространство, причиняя ему неудобства. Как бы то ни было, он опустил взгляд, слегка отодвинул свой стул и заметил, как рука парня нырнула вниз, чтобы достать из сумки сигарету и коробку спичек. Это была правая рука. Указательный палец был искалечен, и ноготь был кривым, словно ядро грецкого ореха.
Увидев это, Алан ощутил, как его желудок судорожно сжимается. Он резко отвел взгляд и начал есть свой салат. Дым от сигареты парня плыл над тарелкой с крутыми яйцами и маринованным латуком. В зеркале позади барной стойки отражалось гладко выбритое мрачное лицо, рот с тонкими губами, широкий нос. Бороду можно сбрить, волосы – подстричь… Алан решил, что мог бы узнать наверняка, если бы парень заговорил. Должно быть, он говорил, когда заказывал виски, но это было до того, как Алан вошел. Он смотрел, как парень берет свой пакет, и на этот раз палец показался Алану менее изуродованным – вовсе не тем же самым. Тот палец, что нырнул под металлическую решетку и прижал к ладони пакетик с монетами, был, насколько запомнил Алан, гротескно перекручен и увенчан наростом, больше похожим на коготь или раковину моллюска, нежели на человеческий ноготь.
Он испытал облегчение, осознав, что это не тот палец и что по этому поводу не нужно ничего предпринимать. Что именно? Он не мог пойти в полицию – только не он. Парень вышел из пивнушки, и через несколько минут Алан тоже покинул заведение, однако не последовал за молодым человеком, решив больше никогда о нем не думать. Неожиданно Алан понял, что устал: он, должно быть, прошагал немало миль, – и сейчас с радостью сел в автобус, идущий на юг. Из окна автобуса он в последний раз заметил парня, идущего по переулку, – тот двигался неспешно, помахивая пакетом с покупками, как будто у него было полным-полно времени и совершенно незачем было возвращаться домой.
Алан чувствовал, что находится точно в такой же ситуации. Остаток дня и большую часть дня следующего он избегал встреч с Уной. Почти все время он старался проводить подальше от Монткальм-гарденс. А еще он уезжал как можно дальше от северного Лондона, от дальних подступов к Эджвер-роуд, где придуманное им прошлое так точно совпало с прошлым другого человека. Было весьма неразумным шататься по подозрительным трущобным районам и второсортным пивнушкам – все это для него было слишком тесно связано с преступлением и преступниками, и там логическое мышление поневоле могло уступить воображению, как в прошлый раз. Алан сидел на скамейках в парках, ездил в двухэтажных автобусах на верхнем ярусе, посетил Музей мадам Тюссо. Но ему приходилось возвращаться обратно в снятую комнату – иначе его могли арестовать за бродяжничество. Следовало ли ему переехать в другое место? Может быть, покинуть Лондон и отправиться в какой-нибудь провинциальный город? Годами он тосковал по любви, а теперь, когда нашел ее, желал вернуться в прежнее состояние. Придя в свою комнату вечером в понедельник, он сел на кровать и решил, что через минуту, когда достаточно соберется с духом, он поднимется наверх и скажет Уне, что уезжает, возвращается к своей жене Элисон.
За стеной, в комнате Цезаря Локсли, послышался ее голос.
Слов было не разобрать – только голос. Алана охватила ревность. Первой мыслью было то, что Цезарь обманывает его, и Уна тоже обманывает, и что сейчас она лежит в постели с Цезарем. В ярости Алан заметался по комнате. Должно быть, они услышали его шаги, потому что кто-то подошел к его двери и постучал. Он не собирался открывать. Он стоял у окна, зажмурив глаза и стиснув кулаки. Снова послышался стук, и Цезарь позвал:
– Пол, с вами там все в порядке?
Пришлось подойти и открыть дверь.
– Мы с Энни собираемся пойти на фильм «Шаброль» в «Гейт», – сказал Цезарь. – Уна тоже идет. – Он подмигнул Алану. Это означало «уведи ее из этого дома, не дай замыкаться в себе». – Не хотите пойти с нами?
– Ладно, – ответил Алан.
Он согласился потому, что облегчение было слишком велико. Через полминуты он осознал, на что согласился, после чего оказался рядом с Уной и уже больше ни о чем не мог думать. Не мог он также ни поглядеть на нее, ни заговорить. Он слышал, как она произнесла:
– Рада вас видеть. Я стучала в вашу дверь раз пятнадцать с того субботнего вечера, чтобы поблагодарить и сказать, как славно это было.
– Меня не было дома, – пробормотал он и только тогда нашел в себе силы взглянуть на нее. Что-то внутри его – должно быть, весь сложный лабиринт пищеварительной системы, а также сердце и легкие – кувыркнулось, описав полный круг, и хлопнулось обратно на свои законные места.
– Это Энни, – представил свою подругу Цезарь.
Легче не стало: девушка была очень похожа на Пэм и Джиллиан. Те же самые аккуратные, правильные, очень английские черты лица, персиковая кожа, маленькие голубые глаза. Цезарь сказал, что она работает медсестрой, и это вполне можно было предположить по ее слегка нарочито-подбадривающей манере держаться, однако она все равно напомнила Алану о Пэм, о ее периодах спокойствия и ярости. Он ощутил себя больным и загнанным в ловушку.
Они отправились в кино. Алан и Уна шли вместе, впереди другой пары. Уна заметила:
– Говорят, что если две четы идут на прогулку вместе, можно определить их социальный статус по тому, как они делятся по парам. Если они принадлежат к рабочему классу, девушки идут вместе, если к среднему классу – вместе идут мж и жена, а если к высшему обществу – то каждый из мужей идет вместе с женой другого.