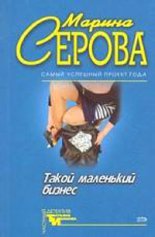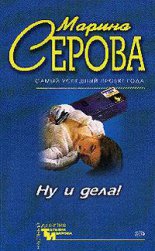Гончаров без глянца Фокин Павел

Сигизмунд Феликсович Либрович:
Кто бывал в конце семидесятых годов по вечерам в петербургском Летнем саду, тому нетрудно было заметить двух пожилых уже мужчин, которые с замечательною аккуратностью являлись ежедневно Под вечер, почти одновременно, в сад и в оживленной беседе проводили время до десяти-одиннадцати часов.
В саду в то время существовал, закрытый впоследствии, «знаменитый» в своем роде ресторан Балашева, и вся публика толпилась обыкновенно перед беседкою, в которой играл оркестр музыки, и поблизости. Все же другие, особенно более отдаленные, аллеи сада почти совершенно пустовали.
В одной из таких пустующих аллей имели обыкновение гулять два названные выше господина: один — роста ниже среднего, старичок, другой — мужчина еще не особенно старый, высокий и весьма представительный.
Между этими двумя «отшельниками» Летнего сада, как их называли тогда некоторые из завсегдатаев его, был резкий контраст во внешности. Высокий господин, с гордо поднятою головою, тщательно причесанными большими баками, одетый изящно, даже щегольски, имел вид важного сановника; низенький же старичок, с небрежно расчесанными маленькими седыми баками, опущенною книзу головою, руками, заложенными за спину, в расстегнутом старом, поношенном пальто серого цвета, скорее походил на какого-нибудь мелкого чиновника. Высокий господин относился, однако, к своему собеседнику с явным уважением, не садился даже раньше на скамью — словом, видимо выказывал ему всяческое предпочтение.
Оба «отшельника», довольно бойко шагая взад и вперед по отдаленной аллее, очевидно, просто даже не замечали, что происходит около них, — так они всегда были увлечены беседой. <…>
Низенький старичок был необычайно скромен. Он почти во всем уступал своему сотоварищу, оговариваясь, что того-то он «не знает», о другом ему «уже трудно судить»…
— Мне трудно что-либо сказать вам на это, — запомнилась мне фраза. — Россию, к несчастью, я знаю очень мало, больше понаслышке, по книгам… Как вы знаете, я живу почти безвыездно в столице… Если же и бывал кое-где в провинции, то так лишь, случайно и мимоездом, и жизни народа мне наблюдать не приходилось…
Заинтересовываясь более и более собеседниками, я только к концу лета узнал, что высокий господин представительной наружности — Дмитрий Васильевич Григорович, а собеседник его — Иван Александрович Гончаров.
Вера Михайловна Спасская:
Он любил Рижское взморье, часто проводил здесь лето и, перебывав на всевозможных заграничных морских купаниях, все-таки находил, что нигде нет тянущегося на такое далекое пространство пляжа, как здесь, такого мелкого, устланного тонким песком дна, такой целебной по своему составу воды. Некоторую досаду возбуждала в нем здесь строгая регламентация дамских и мужских часов для купанья. Ему случалось иногда забыть, что в такой-то час мужчинам запрещается ходить по берегу; он шел гулять, и вдруг его прогонял грозный окрик: «Jetzt ist es Damenstunde!»[4]
Серафима Васильевна Павлова (урожд. Корчевская; 18591947), жена физиолога академика И. П. Павлова:
Он [сказал]:
— Я всегда рано встаю и рано ложусь.
Взгляды и убеждения
Александра Яковлвна Колодкина:
Он особенно часто развивал мысль о том, что молодости дается даром то, к чему как к окончательному итогу стремится наука и искусство… но молодость не умеет ценить своих благ. Эту мысль он обыкновенно закреплял соответствующими выдержками из «Фауста»:
- Отдай же годы мне златые,
- Когда я сам вперед летел,
- Когда я песни молодые
- Еще свободной грудью пел…
Он считал Гете великим сердцеведом. Из «Фауста» ему особенно нравилось то место, где Мефистофель спрашивает Фауста: «Каких ты желаешь благ?»… А Фауст отвечает: «Я желаю их всех, потому что желаю молодости»…
Иван Александрович Гончаров. Из письма Евг. П. и Н. А. Майковым. 20 ноября (2 декабря) 1852. Из Портсмута:
Дружба, как бы сильна ни была, не могла бы удержать меня, да истинная, чистая дружба никого не удержит и не должна удерживать от путешествий. Влюбленным только позволительно рваться и плакать, потому что там кровь и нервы — главное, как Вы там себе, Евгения Петровна, ни говорите противное, а известно, что, когда происходит разладица в музыке нерв да нарушается кровообращение, тогда телу или больно, или приятно, смотря по причине волнения. Дружба же чувство покойное: оно вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании и, царствуя там, оттуда уже разливает приятное успокоительное чувство на организм. Вы можете страстно влюбиться в мерзавца, а я в мерзавку, мучиться, страдать этим, а все-таки любить; но вы отнимете непременно дружбу у человека, как скоро он окажется негодяем, и не будете даже жалеть. — Дружбу называют обыкновенно чувством бескорыстным, но настоящее понятие о дружбе до того затерялось в людском обществе, что это сделалось общим местом, пошлой фразой, и в самом-то деле бескорыстную чистую дружбу еще реже можно встретить, нежели бескорыстную, или истинную что ли, любовь, в которой одна сторона всегда живет на счет другой. Так и в дружбе у нас постоянно ведут какой-то арифметический расчет, вроде памятной или приходно-расходной книжки, и своим заслугам, и заслугам друга, справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птоломеевой астрономии и географии или Квинтилиановой риторики, всё еще ищут, нет ли чего вроде Пиладова подвига, и когда захотят похвалить друга или похвалиться им (эдакой дружбой хвастаются, как китайским сервизом или собольей шубой), то говорят — это испытанный друг, даже иногда вставят цифру XV–XX, даже ХХХ-летний друг, и таким образом дают другу знак отличия и составляют ему очень аккуратный формуляр. Остается только положить жалованье — и затем прибить вывеску: здесь нанимаются друзья. Напротив, про неиспытанного друга часто говорят — этот только приходит есть да пить, а чуть что, так и того… и даже ведь не знаешь его, каков он на деле. Им нужны дела в дружбе — и они между тем называют дружбу бескорыстной, — что это? проклятие в дружбе, такое же непонимание и непризнавание прав и обязанностей ее, как и в любви? Нет, я только хочу сказать, что, по-моему, истинная, бескорыстная и испытанная дружба та, когда порядочные люди, не одолжив друг друга ни разу, разве как-нибудь ненарочно, и не ожидая ничего один от другого, живут целые годы, хоть полстолетия вместе, не неся тягости уз, которые несет одолженный перед одолжившим, и наслаждаясь дружбою, как прекрасным небом, чудесным климатом без всякой за это кому-нибудь платы. В такой дружбе отраднее всего уверенность, что ничто не возмутит и не отнимет этого блага, потому что основание ее — порядочность обеих сторон. Вот Вам моя теория дружбы, да полно, теория ли только?.. Проследите мысленно все 17 лет (а Вы, Юнинька, 19) нашего знакомства, и Вы скажете, что я всегда был одинаков, пройдет еще 17 лет, и будет то же самое. Я никогда и ни у кого не просил ни рыданий, ни восторгов, а только прошу — не изменитесь.
Иван Александрович Гончаров. Из письма Е. А. и М. А. Языковым. Портсмут, 8 (20) декабря 1852 года:
Терпимость — великое достоинство или, лучше сказать, совокупность достоинств, обозначающих в человеке характер, стало быть, все.
Иван Александрович Гончаров. Из письма Н. А. Гончарову. Петербург, 25 мая (6 июня) 1857 года:
Если ты продашь дом, то придержись моего совета деньги прятать, и притом на свое имя, чтобы они перешли к детям, а не на имя жены. Я не насчет одной только жены твоей говорю, а вообще о всех женщинах: разумею так, что чем меньше им доверяешь, тем лучше. Особенно деньги проходят у них сквозь пальцы и быстро обращаются в тряпки. Иная мать или жена и любит мужа и детей, а деньги не убережет, по легкомыслию и незнанию им цены и в надежде на какие-то будущие, несуществующие блага. Поэтому деньги прячь и в руки женщинам отнюдь не давай: благоразумных из них, например, таких, как наша покойная мать, сыщешь немного.
Иван Александрович Гончаров. Из письма к Е. П. Левенштейн. Петербург, конец 1860-х годов:
Родства я близкой связью не считаю, если оно не укреплено симпатией и согласием.
Иван Александрович Гончаров. Из письма Е. А. и С. А. Никитенко. Булонь, 16 (28) августа 1860 года:
Говорят, надо довольствоваться миром и людьми, как они есть: с этим я согласиться но могу. Можно снисходить ко всему этому, пожалуй, с христианской и гуманной точки зрения, даже любить все-таки, несмотря ни на что, но быть покойным и принимать, что это так и должно быть, довольствоваться — я не могу, по тем самым причинам, кои и Вы благоволили заметить во мне. Если нечего уважать или некого, то все-таки во мне этим не уничтожается способность уважения, и если эта способность в человеке есть, если она врожденна, нужна ему, значит есть что-нибудь, что должно быть уважаемо. Но если я не лезу на стену оттого, что все так жалко на сем свете, то, по крайней мере, считаю себя вправе чувствовать ту невольную тоску, холод и немые страдания, переходящие в равнодушие.
Иван Александрович Гончаров. Из письма С. А. Никитенко. Булонь, 21 августа (2 сентября) 1866 года:
Можно ли любить одну внутреннюю красоту, одну идею ее? Мы и любим совершенство нравственное — на этом основана наша любовь к Богу, как к идеалу этого совершенства. Но это уже любовь нечеловеческая, это — благоговение — и такою любовью христианину только и позволительно любить одного Бога, даже этой любви надо принести в жертву все другие. Да и сам Бог воплотился — и только с появлением спасителя и явилась заповедь любви — к Богу.
Мыслящий, наблюдательный ум и человек с глубокой душой, даже не будучи христианином, непременно должен прийти вследствие жизненного опыта к этой мысли и убеждению, то есть к непрочности всех земных привязанностей, в их призрачности, и непременно воспитает в себе сильное подозрение, что в нас есть что-то, что нас привязывает и призывает к чему-то невидимому, что мы, несмотря ни на какой разврат мысли и сердца, не потеряем никогда этого таинственного влечения, связующего нас с мировой силой.
Иван Александрович Гончаров. Из письма Ек. П. Майковой. Петербург, 16 (28) мая 1866 года:
Я не стану говорить Вам о нигилизме, т. е. о крайнем воплощении юношеского увлечения: Вы и сами с неуважением отозвались об этом. Но нужна ли вообще — не говорю насильственная, а усиленная и нетерпеливая порывистость к водворению и общественных, и нравственных начал, которых не подтвердил опыт, которых не успела оправдать еще ничья жизнь? <…> Хорошо в мечте устроить человеческое общество из каких-то автоматов без страстей, водворить в нем отправление жизненной машинации, уравнять все социальные и нравственные неровности, — можно даже писать об этом статьи и книги — но делаться сейчас же Исааками остроумной и блистательной доктрины, в практической состоятельности которой не убеждены и сами творцы ее, — это уже и — малодушие и малоумие. Сегодня Сеченов скажет, что только мясная пища питательна, а через пять лет другой Сеченов докажет, что питательное начало — только в молоке, а там следующие Сеченовы опровергнут и это, между тем я навалюсь на мясо (что я, сознаюсь Вам, немного и попробовал, да и нажил было себе беду) — и потом не знаю, какими водами отпиться от тяжести и удушья. <…>
Да я во многом стою за новое поколение. Ужели, Вы думаете, меня миновал прогресс? Нет — не я ли печатно уличал старое общество в дремоте? Не я ли еще в 40-х годах, в первой моей книжке, с сочувствием, в лице одного дяди, ругал его племянника за крепостные воззрения и указывал на необходимость труда, не я ли гнал со света другого, живого, племянника, Виктора Мих<айловича>, за гнусную лень и деревенски-барскую избалованность, за стремление пожить на чужой счет, сложа руки, получать жалованье, служить, а не работать, не я ли давно терпеть не могу стихов и проповедую, что у нас нет реального и утилитарного воспитания? <…>
Словесное и классическое направление охватило нас и разнежило, нужна здоровая струя охладительной пользы — я опять-таки за это. Но уже никак я не соглашусь, что стыдно заниматься музыкой, или не стану сокрушаться, зачем Пушкин был таков, а не иной, зачем он не писал, как Гоголь или как Антонович <…>.
Ужели во Франции и Англии — фабрики, машины, химия и промышленность, физиология и поэзия, физика и социализм, музыка и живопись — все это враждует, мешает друг другу — и одно отказывает в праве гражданства другому? Утилитарность и реализм — не есть жизнь, а только средство жизни или одно из ее основных и могучих средств: зачем же реализм хотят возвести в такой же утрированный идеал, как прежде возводили искусство?
Молоды мы и, как молодой народ, до глупости впечатлительны и увлекаемся до самопожертвования.
Необходимость серьезного труда, трезвость начал и местность в стремлении к ним. Да кто ж отказывается от этого? Нужно ли для Александра Македонского ломать стулья? Ей-богу нет: нужно кое-что изменить, переставить, но тихо, не ломая ничего, не жертвуя ни своими убеждениями, которыми жил всю жизнь, ни даже не изменяя чувствам, которые так или иначе делали нас счастливыми.
Ведь ломать понятия, как это делают юноши, не пожив, стараться втискать жизнь в придуманные правила — это все равно, что играть по-детски в войну. «Ты будь, говорит мальчик другому, генералом, ты офицером, вы все солдатами, я пойду против тебя, вот у этого дивана произойдет сражение, ты умри, упади, а ты получи крест». <…>
Так непозволительно играть серьезными интересами и вопросами жизни, даже своими, не только чужими, ломать их в дугу и притом ужасно важничать, коситься на все подозрительное. Да поддается ли жизнь этому? Не предъявляет ли она свои требования — и что потом опыт сделает с этими карточными домиками этих мечтателей, которые не лучше старых романтиков, писавших стихи и прятавших ленточки любимой женщины и всю жизнь проводивших в нежных страстях и голубином воркованьи. Я думал, что Вы все это видите и знаете, и оттого удивился, что Вы нашли что-то новое и неожиданное.
Я только — против умничанья, против хлестаковского предрешения жизненных, не испытанных на себе еще вопросов, против этой мнимой простоты, мнимой потому, что жизнь кажется проста не ведающим ее, которые еще не озадачены опытом и потому так бесцеремонно и распоряжаются ею.
Сигизмунд Феликсович Либрович:
Когда заходил разговор о печальных событиях современной русской действительности, о притеснениях, которые переживали и печать и общество, Гончаров всегда вмешивался в разговор и старался доказать, что жизнь вовсе не так плоха, как ее стараются изобразить, и что, во всяком случае, не сегодня-завтра все будет лучше. В его речах ясно сказывался гончаровский герой Райский, который «все чего-то ждал впереди — не знал чего, но вздрагивал страстно, как будто предчувствуя какие-то исполинские, роскошные наслаждения, видя картины, где плещет, играет, бьется другая, заманчивая жизнь, а не та, которая окружает его». В этом отношении мнения и взгляды Гончарова резко расходились с мнениями Лескова и других, которые все видели в мрачных красках и которым даже будущая Россия представлялась сплошным, беспросветным, мрачным туманом…
Николай Иванович Барсов:
С Путятиным Гончаров, сколько мне известно, был очень близок и дружен. Этим, может быть, объясняется его всегдашняя любовь ко всему английскому. Графиня, женщина высокообразованная, была природная англичанка, и сам граф долго жил в Англии. В этом прекрасном семействе Гончаров и приобрел, вероятно, свое некоторое англофильство.
Иван Александрович Гончаров. Из письма А. С. Норову. 1853. С фрегата «Паллада»:
Но всего занимательнее было, по крайней мере для меня, видеть победу англичан над природой, невежеством, зверями, людьми всех цветов, и между прочим над голландцами. Оценив, что сделали англичане в короткое время своего господства над Капской колонией (в Южной Африке. — Сост.) и что могли бы сделать и не сделали в двухсотлетнее пребывание там голландцы, не пожалеешь о последних. Девиз их, кажется, везде, куда они ни пробрались: делать мало для себя и ничего для других; девиз англичан, напротив: большую часть для себя, а все вместе для других. Я не англоман, но не могу, иногда даже нехотя, не отдать им справедливости. Теперь на Капе (сейчас Кейптаун. — Сост.) кипит торговля, мануфактурная деятельность, по портам ходят пароходы, сквозь утесы проведены превосходные дороги, над пропастями висят великолепные мосты. Это не фразы: я сам проехал по прекрасному, едва конченному шоссе, идущему по горам, в две тысячи футов над уровнем моря, сквозь такие ущелья, куда разве могли только заходить дикие козы, и там смотрел в пропасти с мостов, построенных на каменных основаниях в 70 фут. высоты. Поговаривают, что скоро проложат железные дороги в места, где до сих пор водились только львы да тигры.
Николай Иванович Барсов:
По своим убеждениям, в некоторых отношениях, Иван Александрович был скорее космополит, чем патриот.
«Народ наш приходится больше жалеть, чем любить, — были его слова. — В целом мире на всем пространстве истории трудно указать другой пример, где бы было большее расстояние между простым народом и культурными классами». <…>
Затем западничество свое Гончаров выражал и в том, что, желая «отдохнуть от зимнего безделья», как он выражался, в дачном времяпровождении, он любил посещать Балтийское побережье — Ревель, Меррикюль, Дуббельн и другие тамошние дачные места; несколько раз, если не ошибаюсь, уже после своего кругосветного путешествия, он ездил и за границу.
«Там порядки лучше, спокойнее и свободнее живется, — не то что у нас, где всякий норовит запустить свою грязную лапу не только в твою домашнюю обстановку, но и в твою душу, в твой внутренний мир».
Вера Михайловна Спасская:
Некультурность русской жизни сравнительно с заграничной глубоко огорчала его. «У нас не посторонятся перед женщиной, находящейся в почтенном положении, — говорил он, — перед женщиной, которой в древнем Риме это положение давало право на особенное внимание и почет. У нас ребенка, который упал и плачет, не поторопятся поднять».
Иван Александрович Гончаров. Из письма Н. М. Каткову. Петербург, 5(17) июня 1857 года:
<…> В моих правилах никогда не давать слова или, обещав что-нибудь, сделать вдвое…
Федор Андреевич Кудринский. Со слов А. Я. Колодкиной:
Говоря о бесспорных преимуществах ума, писатель не без иронии прибавлял всегда со вздохом:
— Конечно, ум… это хорошо… но в ум не поцелуешь…
Вера Михайловна Спасская:
И. А. Гончаров был искренно и глубоко религиозен. Помню, с какой задушевностью передавал он нам содержание своей беседы с священником православной церкви в Дуббельне (своим внешним обликом напоминавшим Николая-чудотворца, как его обыкновенно изображают) на тему одной из его проповедей.
Художественные вкусы
Михаил Викторович Кирмалов:
Иван Александрович, по-видимому, не любил музыки. Такое впечатление осталось у отца после того, как они с Иваном Александровичем слушали «Русалку» Даргомыжского. Отец уговорил Ивана Александровича сходить послушать в «Русалке» певца-тенора Комиссаржевского, восхищавшего тогда, в начале семидесятых годов, весь Петербург. Особенно хорошо у него выходила каватина: «Невольно к этим грустным берегам…» Иван Александрович не сразу согласился пойти послушать оперу, равнодушно просидел третий акт и, нисколько не восхитившись каватиной, ушел до конца оперы домой…
Иван Александрович Гончаров. Из письма к А. Я. Колодкиной. Август 1866 года:
Один раз я, увлеченный известным вам бароном, пошел в концерт, в котором участвовала Carlotta Патти, но, прослушав пропетую арию из Верди, ушел, не дождавшись другой.
Вера Михайловна Спасская:
Музыку Иван Александрович слушал с удовольствием, но не всякую. Сладкие звуки Россини легко и свободно вливались в его душу, нежа и лаская ее. Но музыка более серьезного, трагического, так сказать, характера в эти годы уже утомляла, порой даже раздражала его нервы.
Чуть не с отчаянием говорил он о петербургских квартирах, где нет возможности спастись от фортепианных упражнений консерваторок. Что было бы с ним теперь, в эпоху царства граммофонов!
Иногда в разговоре с нами Иван Александрович переносился мыслью к своей жизни за границей, особенно в Париже, к парижским театрам со всем их своеобразным строем, с продажей апельсинов и мороженого в антрактах, с нарядными и учтивыми уврезами.
Александра Яковлевна Колодкина:
[В Париже] в театре Гончаров ни разу не был за все это время. Только раз удалось затащить его на концерт в Елисейские поля… Но концерт, по-видимому, не производил на него никакого впечатления: он зевал и скучал. <…>
Однажды мы гуляли по rue de Rivoli с Иваном Александровичем. Пошел дождь. Нужно было куда-нибудь скрыться.
— Пойдем в Лувр, — предложил Иван Александрович.
Хотя мы бывали в Лувре не однажды, но этот музей не наскучит, сколько бы раз его ни посещать. Дошли до комнаты, где на пьедестале высится Венера Милосская. Иван Александрович, хотя и не раз ее видел, пришел в необычный для него восторг и, глядя на классическую статую, продекламировал:
- Цветет божественное тело
- Неувядаемой красой
- Ты вся полна пафосской страстью,
- Ты веешь негою морской,
- И, вея всеподобной властью,
- Ты смотришь в вечность пред собой.
Иван Александрович знал наизусть много стихотворений, но декламировал их не особенно охотно. Он был большой эстетик, любил все изящное, цветущее, жизнерадостное и, как выражение жизнерадостности, — молодость.
Александр Николаевич Гончаров:
Он чрезвычайно высоко ставил Пушкина, Белинского и Л. Толстого. О Белинском он всегда вспоминал с большим уважением. Маска знаменитого критика висела у него в кабинете. <…> В Толстом его особенно поражала наблюдательность. Я помню, например, как восторгался он описанием зрительной залы Большого театра в романе «Анна Каренина». Его поражали в этом описании детали. «Ведь десятки раз бывал я в этом театре, — говорил он, — а ничего подобного не замечал. Толстой же, при своей колоссальной наблюдательности, описал все это превосходно, ярко, картинно». <…>
К молодым писателям того времени Гончаров относился крайне враждебно. Он с раздражением говорил о «каких-то Помяловских, Якушкиных, Успенских, которых он не читал и не знал».
Вера Михайловна Спасская:
Из своих современников он более всего восхищался могучим талантом Писемского, хотя и сожалел о недостаточной художественности его формы, и особенно горячими похвалами осыпал его «Плотничью артель». У Достоевского выдвигал на первый план «Записки из мертвого дома».
Сигизмунд Феликсович Либрович:
Гончаров очень интересовался в то время (1870-е. — Сост.) также французскою беллетристикою, часто брал у Вольфа французские романы для чтения. Особенно же он увлекался Флобером, зачитывался произведениями этого писателя, предпочитая их всем другим.
— Вот это писатель!.. Вот это я понимаю! — иногда говорил он, возвращая прочитанный роман Флобера, и при этом лицо его сияло таким искренним удовольствием.
Собеседник
Алексей Петрович Плетнев:
Гончаров мог очаровать своей беседой, так мягко и приятно лилась его речь.
Николай Иванович Барсов:
Я никогда не слыхал такого прекрасного рассказчика, он рисовал ряд живых картин, то смешных и забавных, то серьезных и важных, пересыпая их то шутками и каламбурами, то совместными с собеседниками рассуждениями…
Александра Яковлевна Колодкина:
Он обладал способностью одним выражением метко охарактеризовать человека и что угодно.
Петр Дмитриевич Боборыкин:
Профессиональным писателем он совсем не смотрел, и только его разговор, даже касаясь предметов обыденных, мелких подробностей заграничной жизни, облекался в очень литературную форму, полон был замечаний, тонко продуманных и хорошо выраженных; но и тогда уже для того, кто ищет в крупных литературных деятелях подъема высших интересов, отзывчивости на жгучие вопросы времени, Гончаров не мог быть человеком, способным увлекать строем своей беседы.
Николай Иванович Барсов:
Вообще говоря, заниматься публицистикой и рассуждать о политике, внешней ли или внутренней, Гончаров не любил. <…> Но при рассуждении о некоторых вопросах он обнаруживал иногда горячность и даже партийность.
Петр Дмитриевич Боборыкин:
Нежелание первому задевать вопросы литературы и общественной жизни, осторожность и чувство такта препятствовали Гончарову сразу придавать разговору чисто писательский оттенок. Но если вы наводили его на такие темы, он высказывался всегда своеобразно, говорил много и без всякого неприятного личного оттенка, за исключением щекотливых пунктов, которые рискованно было задевать с ним.
Анатолий Федорович Кони:
Не менее милым собеседником бывал Гончаров за своими обычными обедами вдвоем в Hotel de France у Полицейского моста, и в кружке сотрудников «Вестника Европы» за еженедельными обедами у покойного Стасюлевича. Здесь, ничем не стесняемый и согреваемый атмосферой искренней приязни, он иногда подолгу вызывал особое внимание слушателей своими экскурсиями в область литературы и искусства. Скрестив перед собой пальцы красивых рук, приветливо смотря на окружающих, он оживлялся, и в глазах его появлялся давно уже, казалось, потухший блеск.
Петр Дмитриевич Боборыкин:
Хотя Гончаров не любил ничем щеголять в разговоре: ни остроумием, ни глубокомыслием, ни блестящей образованностью, но когда он был в духе, его беседа стояла совершенно на уровне такого писателя, каким он считался. Несмотря на щепетильность и осторожность его натуры, он цельно, искренно и своеобразно высказывался обо всем, что составляло его человеческое и писательское profession de foi[5]. Ни малейшей уступки красному словцу, превосходный, как художник сказал бы, сочный тон в рассказе, в описании, в диалектике, с тем оттенком приятного резонерства, какой проник и в лучшие его произведения. <…>
С этим литературным сановником всякому, и самому молодому литератору — повторяю опять: когда он был в духе, — говорилось легко. Вы не слышали ни покровительственного тона, ни генеральских советов; вы не чувствовали и большого расстояния между собой и этим знаменитым представителем старого поколения. Вы стояли с ним на одной и той же почве — на почве общечеловеческой и культурной любви к образованию, науке и нравственным идеалам. Вы вперед видели, что если бы к этой знаменитости, знающей себе цену, обратились вы в разговоре или письме как писатель, он ответил бы вам как равный равному, говорил бы или написал бы письмо содержательно и приятно, без сладости и рисовки.
Леонид Николаевич Витвицкий:
Любил говорить о прошлом, давно пережитом и охотно вспоминал различные эпизоды из своего пребывания в дальних странах. Речь его отличалась приятною мягкостью выражений и тонким юмором. В суждениях своих о людях, особенно же о писателях, Иван Александрович отличался крайнею благожелательностью и снисходительностью и, если не мог при всем желании приписать бездарности таланта, то старался, по крайней мере, отметить трудолюбие и добрые намерения. Эта прекрасная черта, редко встречающаяся, не оставляла его и тогда, когда ему приходилось говорить о писателях, которые далеко не отвечали ему такою же доброжелательностью.
Дела сердечные
Иван Александрович Гончаров. Из письма А. Ф. Кони. Дуббельн, 11<–17> июля 1888 года:
Пустяками я, между прочим, назову те драмы, героинями которых являются в жизни мужчин — женщины. Женщины, конечно, играют огромную роль, но это тогда весело, удобно, приятно, когда сношения с ними имеют значение комедий. Тогда это придает air fixe[6] жизни, бодрость, игру, живется легко, не мешает делу и делам. Но беда, когда мужчина примет любовь au serieux[7] и начнет любить «горестно и трудно»…
Такие драмы уносят лучшие наши силы, можно сказать, обрывают цвет сил и отводят от дела, от долга, от призвания.
Последнее все я говорю про себя: по своей крайней нервной раздражительности, поклонник, по художественной природе своей, всякой красоты, особенно женской, я пережил несколько таких драм и выходил из них, правда, «небритый, бледный и худой», победителем, благодаря своей наблюдательности, острому анализу и юмору. Корчась в судорогах страсти, я не мог в то же время не замечать, как это все вместе взятое глупо и комично. Словом, мучаясь субъективно, я смотрел на весь ход такой драмы и объективно — и, разложив на составные части, находил, что тут смесь самолюбия, скуки, плотской нечистоты — и отрезвлялся, с меня сходило все, как с гуся вода.
Но обидно то, что в этом глупом рабстве утопали иногда годы, проходили лучшие дни для свежего прекрасного дела, творческою труда — словом, для нормальной человеческой жизни. Я и печатно где-то назвал такие драмы — болезнями. Да, это в своем роде сифилис, который извращает ум, душу и ослабляет нервы надолго! Это вовсе не любовь, которая (т. е. не страсть, а истинное доброе чувство) так же тиха и прекрасна, как дружба.
Анатолий Федорович Кони:
Гончаров не любил вспоминать о своей внутренней жизни в прошлом, но из того, что он всегда описывал свою жизнь и то, что к ней прирастало, можно заключить, что он в полной мере испытал то чувство, которое возбуждали его Ольга и Вера, эти превосходные олицетворения того, что Гете назвал das ewig Weibliche[8]. Едва ли он был мучеником своей любви, как Тургенев, или пережил какую-либо тяжелую в этом отношении драму <…>. Но бури в этой жизни, без сомнения, были. Он называл не раз жизнь тяжелым испытанием и часто цитировал по этому поводу слова Пушкина о «мучительных снах», повторяя: «И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет». Во всяком случае, когда я узнал его ближе, в начале семидесятых годов, его сердечная жизнь была в застое. Но сердце у него было нежное и любящее.
Иван Александрович Гончаров. Из мемуарного очерка «На родине»:
Зимний сезон (1834–1835. — Сост.) был в полном разгаре. Город (Симбирск. — Сост.) наполнился приезжими из уездов. Начались балы в собрании, у губернатора, у дворян, вечеринки почти во всех семейных домах. Я, как и все тогдашние молодые люди, катался как сыр в масле — с бала на бал, с вечера на вечер. Как я ни увертывался, но мне не раз приходилось играть роль, в которую прочила меня губернаторша. Как я был подставной секретарь у ее мужа, так если не был, то числился подставным ее кавалером. Танцевать с ней мне случалось очень редко: все наперерыв старались ангажировать ее до бала. Мне доставалась эта честь иногда на вечерах у нее самой, когда, уступая арену гостям, она сама оставалась без кавалера.
Я чувствовал, что стал врастать в губернскую почву. Меня тянуло самого то в тот, то в другой дом, где было поживее, повеселее, где меня больше ласкали. <…>
В городе ни библиотеки, ни театра. Приходилось плыть по течению местной жизни. В карты я не играл и не обнаруживал наклонности к ним: за это многие «солидные» люди почти презирали меня. Но зато я, как все молодые, развлекался на балах кадрильным ухаживаньем, с робкими комплиментами, за губернскими девицами или «барышнями», как их тогда называли. И все это под строгим контролем маменек или тетушек, которые, пуще всякой полиции, с материнским расчетом, следили за каждым взглядом и движением танцующих пар. Протанцуешь, бывало, с какой-нибудь «барышней», которая приглянется, мазурку на двух вечерах сряду, начнешь заезжать в дом — губернаторша уже посматривает насмешливо.
— Вам нравится Лиза Р-вая? — бесцеремонно, по-начальнически спросит.
— Да, она хорошенькая.
— А еще что?
— Еще?.. умна, любезна, держит себя просто…
— Прибавьте еще, не скупитесь… — И смеется.
<…> Войдет губернатор.
— Правда ли, что вы влюблены в Р-ую? — хватит вдруг при всех.
— Я! помилуйте!
— Уж признайтесь лучше! — шутит губернаторша.
И три дня город говорит, что я влюблен в Р-ую. И дома пытают меня, шутят надо мной. Мать моя принимает это серьезно, шепотом предупреждает, чтобы я остерегался ухаживать за красавицей, что мать у нее — ехидная, «и притом гордая, прочит дочь за какого-нибудь графа или князя, за богача и за тебя не отдаст».
— Вон куда пошло! Да разве я жених кому бы ни было! — Я готов был <…> приложить ладони к вискам и бежать к себе вверх, на «вышку», прятаться за книгу.
Это повторялось раза три в зиму, и я не знал, как бы мне выбраться на свободу.
Михаил Викторович Кирмалов:
По нашим семейным воспоминаниям завязка романа Ивана Александровича и Варвары Лукиничны (Лукьянова, в замужестве Лебедева. — Сост.) относится ко времени приезда Ивана Александровича в Симбирск. Авдотья Матвеевна (мать Ивана Александровича) поместила его в комнате верхнего этажа близко от комнаты, занимаемой Варварой Лукиничной. В этой обстановке, очевидно, произошло сближение. При отъезде Ивана Александровича, когда он прощался с домашними, Варвара Лукинична, не выдержав горя разлуки с любимым человеком, с воплем: «Ваня, Ваня!..» бросилась в присутствии всех ему на шею.
Не знаю, продолжалась ли связь по приезде Варвары Лукиничны в Петербург. Она впоследствии вышла замуж, и муж ее терпеть не мог Ивана Александровича; часто со злобой спрашивал отца: «Ну, что ваш действительный статский советник, как поживает?..»
Вера Михайловна Чегодаева (урожд. Дмитриева; (1844-?)), княгиня — внучка московского поэта М. А. Дмитриева и родственница поэта и баснописца XVIII в. И. И. Дмитриева:
По смерти моего дедушки бабушка Елизавета Ивановна Рудольф, поместив своих сыновей в корпус и младшую дочь Екатерину в институт, сама с двумя старшими дочерьми Аделаидой и Эмилией переселилась в Петербург.
По сохранившимся семейным преданиям, Елизавета, Аделаида и Эмилия были теми лицами, портреты которых вошли в роман И. А. Гончарова «Обрыв».
Елизавета Ивановна Рудольф зиму проводила в Петербурге, а на лето уезжала на дачу, в Стрельну или в Ораниенбаум. Как в городе, так и на даче у них постоянно бывал И. А. Гончаров, проводивший у них целые дни, ухаживавший за Аделаидой и Эмилией, кажется, увлекаясь то той, то другой. <…>
В Петербурге Иван Александрович в семье Рудольф был всегда желанным гостем и относился к девицам Рудольф весьма внимательно. Читал свои и чужие произведения, доставал им билеты в оперу, показывал достопримечательности столицы и ее окрестностей (возил их, между прочим, на фарфоровый и стеклянный заводы), вообще, что называется, нянчился с ними. Он часто говорил их матери, которую называл то Елизаветой Ивановной, то, как называли ее дочери, «маменькой»: «Нет, Елизавета Ивановна, это необходимо показать кузинам», или: «Нет, маменька, с кузинами непременно надо съездить туда-то» и т. п. Вообще он покровительствовал им, часто говоря, особенно Эмилии: «Ах, как вы еще молоды и неопытны, кузиночка…» Особенно он увлечен был старшею из них, Аделаидой Карловной, привлекавшею его как своим развитием, начитанностью, так и исканиями «пылкой девичьей души». Это прототип Веры из «Обрыва», тогда как простодушная Эмилия послужила ему натурой для Марфиньки. Первая была выдающаяся красавица, а вторая уже в тринадцать-четырнадцать лет имела вид совершеннолетней.
В семье Рудольф познакомился Иван Александрович и с красавицей, их кузиной, Е. И. Э., которая с своей семьей приезжала на зиму в Петербург из Смоленской губернии. Она, как и Аделаида Карловна, обращала на себя внимание на балах своей красотой, но это была бессловесная красавица. Первым браком она была замужем за кн. Др. С-м, с которым, однако, разошлась, и вышла за своего двоюродного брата, по фамилии тоже Э. Ее черты — в Софье Беловодовой.
В Петербурге семья Рудольф жила в доме Каменецкого, у которого была дочь Марфинька. Она была влюблена в Ивана Александровича, не пользуясь с его стороны взаимностью. Это была некрасивая девушка, слабого здоровья, постоянно кашлявшая, заика, но очень умная и интересная собеседница. Летом, на даче, из окна своей комнаты она целыми вечерами смотрела на освещенные окна дачи Рудольф, где засиживался до поздней ночи Иван Александрович. Только имя ее попало в «Обрыв», так же как и мое имя: когда в 1844 году, в Симбирске, в Троицкой церкви, его брат Николай крестил меня, Иван Александрович сказал ему: «Ты дай это имя своей крестнице, а я назову им героиню своего будущего романа, если не поленюсь его написать». По сведениям, которые до меня дошли, Иван Александрович вообще пользовался большим успехом у женщин, но чем объясняется этот успех — для меня неясно. Несомненно, что он умел настоятельно и усиленно ухаживать, быть интересным, увлекать своими разговорами, прекрасным чтением и т. п. Но обычно он не доводил своих ухаживаний до конца, какая-то осторожность, недоверчивость к себе и другим удерживала его от того, чтобы сойтись с женщиной или жениться на девушке. Если же предмет его выходил замуж, то у него вспыхивала какая-то неосновательная ревность к сопернику. Имел место, между прочим, такой случай. В него была влюблена молодая девушка, гордость которой делала ее сдержанной, но есть основания полагать, что Иван Александрович знал об этой любви. Для нее он был идеалом.
Выйдя замуж за другого, она вошла было в колею семейной жизни, свыклась с мужем и была хорошей женой. Через четыре-пять лет после этого она вновь встретилась с Иваном Александровичем, и это смутило ее покой: снова вспыхнула прежняя страсть, которой она не могла преодолеть. Она уже не могла больше жить с мужем и оставила последнего, предполагая, вероятно, что Иван Александрович догадается, что с ее стороны — это жертва ради него. Но он не догадался или сделал вид, что не догадывается, и молодая женщина бросилась в воду. Когда ее спасли, то на ее груди нашли связку писем Гончарова. Говорят, до конца жизни она была верна этой любви… Я думаю, что если бы она, преодолев свою гордость, сама первая призналась ему в любви, то, вероятно, получила бы такой же ответ, как Татьяна от Онегина. Так же безрезультатными были его ухаживания за «кузиночками».
Иван Александрович Гончаров. Из письма Е. В. Толстой. Петербург, 3(15) ноября 1855 года:
Мне — любить? Вдруг сказать ей я люблю? Что так хорошо звучит в устах молодости, то в моем голосе задребезжало бы дико. Нет, нет, я не люблю, прочь, прочь эта мысль! Это лукавый искушает меня. Исчезни, исчезни, окаянный! — Чур меня, чур меня, Господи, Господи! Да воскреснет Бог и расточатся врази его!!!
Иван Александрович Гончаров. Из письма С. А. Никитенко. Булонь, 21 августа (2 сентября) 1866 года:
Бывают в любви моменты такого лирического настроения, которые в романах называются немым обожанием, но это очень в ранней молодости или в зародыше страсти, на ее заре. Это первые лучи, предвещающие жаркий полдень и грозы. Вы думаете, что это чувство, или, лучше сказать, такая мечта выходит из сердца, а не из воображения: нет, из воображения, и притом юного и неопытного. Все это разлетится вдребезги, лишь только такое немое обожание уверится во взаимности и перейдет в дальнейший фазис, то есть в любовь, в тихое, мирное, глубокое и прочное счастье, если обе натуры неиспорчены и симпатичны — и тогда это разрешается в постоянный покой, в дружбу, в согласие, в совет и любовь — и все заснет. Поэзия и иллюзии в самых поэтических натурах не могут продлить обаяния первых минут этой зари, лучей немого обожания — навсегда; воображение самый неугомонный деятель: он или будет дразнить новизной, или надо обманывать, усыплять его, сдерживая умеренно себя, то есть гомеопатически лакомясь этим счастьем, иначе оно заснет и утонет в ежедневной, безразличной жизни и смешается с ежедневными явлениями. Настает привычка и скука. (Я здесь, однако, делаю оговорку. У меня впечатлительная натура и много поэзии: может быть, холодные, рассудочные натуры подлежат другим законам.) Если же немое обожание (как бывает большею частию) обманется и, вступив в борьбу, бросится в пучину, сначала облопается счастьем, и чем больше облопается, тем сильнее потом страдает от разочарования и иногда даже гибнет. Страсть только тогда наступает, когда она разделена, или когда польщена надеждой на взаимность и обманута, или когда она опять-таки разделена и встречает препятствия к удовлетворению, ибо борьба тогда и возникает, когда у Вас отнимают то, что Вам принадлежало, что Вам дали, что Вы считали своим. А без борьбы — страсти нет.
Вы говорите, что я не знал страстей, а играл в любовь, а если б не знал любовь, то знал бы, что она проста и истинна без приудариваний и прихорашиваний.
Так-с. Почему ж Вы знаете мои страсти? Почему Вы знаете, что именно отчаяние не найти истины и простоты, а все ложь и ложь — и не заставляет меня с гримасой смотреть на все и вся? <…>
Да, в любви обман невозможен, и оттого влечение друг к другу и сближение редко доходит до любви, а оканчивается — у кого страстью (у людей серьезных), у кого страстишкой (у пустых людей), или, наконец, капризом, прихотью, польдекоковским романчиком или так называемой интрижкой, в которой много виноватых и из того и из другого разряда благодаря распущенному воспитанию и развращению нравов. «Зачем не идти прямо к истине, а неосторожно, на каждом шагу попадать в ложь? Надо искать добра, честного, умного» и т. д., говорите Вы часто.
В любви ничего не ищут, если не разуметь под любовью какую-нибудь абстрактную идею, а не человеческое, живое, органическое чувство и отправление этого чувства, совершающееся в нашем организме, а не превыше облаков.
Как скоро Вы допустите, что мы люди и носим тела, имеем пять чувств и что этими чувствами формируйся и передается душе впечатление, так Вы должны тотчас же допустить, что всякое представление, идея — должны быть воплощены в какой-нибудь форме. Отсюда идея о красоте — и потребность красоты: эта потребность высокая, свойственная только человеческой природе и которой у животных нет. А допустивши это — позвольте спросить — как Вы перейдете к Вашему страстному настроению иначе, как не через воображение, которое одно заведывает и управляет всеми впечатлениями? Стало быть, только одним холодным сознанием, что вот, мол, это хорошо, честно, умно, следовательно и надо любить это! Нет, извините: это честное, умное является Вам в образах, которые Вы и любите в их плоти, а идей любить нельзя, их можно сознавать. Оно же, то есть воображение, и виновато, что обматывает красотой внешней на каждом шагу, заставляя нас, слепцов, предположить за нею и внутреннюю красоту. От этого разлада и — страсти, обман, разочарования.
Иван Александрович Гончаров. Из письма И. И. Льховскому. Варшава, 13 (25) июня 1857 года:
Ну, что Вы? Все любите горестно и трудно? Одно практическое замечание, весьма полезное для Вас: когда мучения ревности и вообще любовной тоски дойдут до нестерпимости, наешьтесь хорошенько (не напейтесь, нет, это скверно), и вдруг почувствуете в верхнем слое организма большое облегчение. Это совсем не грубая шутка, это так. По крайней мере, бывало, я испытывал это.
Холостяк
Петр Дмитриевич Боборыкин:
Через несколько дней, на вечернем чае <…>, он очень долго рассказывал нам о своей собачке, оставленной им в Петербурге, и в этой исключительной заботе о ней видна была уже складка старого холостяка, привыкшего уходить в свою домашнюю обстановку.
Иван Александрович Гончаров. Из письма А. А. Кирмаловой. Петербург, 5(17) февраля 1863 года:
Мимишка здравствует и каждый день гуляет со мной по саду, а когда не возьму, то воет на всю квартиру. <…> Я ей купил золотой с бархатом ошейник.
Иван Александрович Гончаров. Из письма В. М. Кирмалову. Петербург, 26 апреля (8 мая) 1863 года:
Если Мимишка сильно захворает, я думаю, в тот день и газета не выйдет («Северная почта», редактором которой был в это время Гончаров. — Сост.), а если бы она околела, я все продам и уеду за границу.
Ростислав Иванович Сементковский (1846–1918):
Гончаров приводил к Льховским неизменно свою собачку. Это был не то мохнатый пинчер, не то шпиц (я плохо тогда различал породы собак), во всяком случае, собака небольшая, мохнатая, чистенькая, с умными глазами. Она ни на шаг не отходила от своего хозяина, стояла около него, когда он стоял, ложилась, когда он садился, свертывалась калачиком, когда он вел продолжительную беседу; в кабинете у Льховского, когда дверь открывалась, я видел ее всегда мирно спавшую у ног своего хозяина, в гостиной она всегда была начеку, хотя признаков какого-нибудь беспокойства никогда не проявляла.
Когда Гончаров в одно воскресенье вошел в гостиную, Елизавета Тимофеевна, лукаво взглянув на него исподлобья, спросила:
— Ой, не пора ли? Ведь и опоздать можно.
Разговор, очевидно, касался темы, уже раньше между ними затронутой.
Улыбка, игравшая на подбородке Гончарова, исчезла, красивые его глаза стали печальными.
— Давно опоздал, Елизавета Тимофеевна, — ответил он.
— Мне, как женщине, виднее, — возразила Льховская, — но терять времени не следует.
По лицу Гончарова пробежала такая густая тень, что Елизавета Тимофеевна была озадачена — я это ясно видел, — а мне стало как-то жутко. Тень быстро сменилась печальною улыбкою, и Гончаров сказал, указывая на свою собачку:
— Вот верный друг! Он не изменит… не обидит.
И, словно устыдясь чего-то, он быстрее обыкновенного поклонился Елизавете Тимофеевне и исчез вместе с своей собачкой за дверью кабинета.
Леонид Николаевич Витвицкий:
Иван Александрович прожил всю жизнь свою холостяком; во время его пребывания в Дуббельне при нем находились обыкновенно дети, о которых он говаривал, что они приняты им на воспитание. Относился он к ним с необычайною теплотой, и они составляли немалую усладу его тихой жизни на закате дней.
Серафима Васильевна Павлова:
При организации курсового литературного вечера мы стремились собрать всех наших литераторов. Хотелось, чтобы было чем вспомнить веселые годы учения, когда мы разъедемся в отдаленные углы обширного отечества.
Были мы у Щедрина. <…>
От него мы поехали к Гончарову, который жил на Моховой, в первом этаже. Нас ввели в большой уютный кабинет. Вышел старичок, очень чистенько одетый, с ласковой улыбкой, и сказал:
— Здравствуйте, деточки! Прежде всего позвольте вас угостить конфетками.
Когда мы отрекомендовались как депутатки от курсов, он схватил себя за голову обеими руками.
— Пожалуйста, не пугайте меня! Мы лучше поговорим с вами попросту, по-семейному. Сядем, закусим конфетками, — сказал он, кладя себе одну конфетку в рот, — и поговорим. Вы хотите, чтобы я публично читал на вашем литературном вечере? Я совсем не умею читать, и никогда не выступал публично. Я могу испугаться так, что убегу с эстрады, и выйдет скандал. А я не скандальник. Лучше мы сделаем так: я на вечер возьму билет (он выложил при этом 25 рублей), а приеду к вам позже, когда вы успокоитесь после своего вечера, приеду в гости к вашему курсу, который так ласково меня вспомнил. Вы угостите меня чаем, а я вам почитаю.
Действительно, вскоре после литературного вечера Иван Александрович написал нашей начальнице письмо, в котором просил собрать наш курс в аудитории в известный день и час и напомнил, что мы обещали угостить его чаем.
Он был точен и приехал со своим личным секретарем. Прошелся по нашим курсам, осмотрел аудитории, вошел в зал, где был сервирован чай, и сказал:
— Вот отлично! Лучше всего беседовать за чайком.
Он стал спрашивать, кто и откуда приехал, какие мысли и желания привлекли нас сюда и нашли ли мы здесь удовлетворение. Прочел нам отрывок из «Литературного вечера». Читал он действительно неважно.
Вера Михайловна Спасская:
Не могу, с другой стороны, вспомнить без улыбки один маленький инцидент, очень характерный для Ивана Александровича. К нашей компании (летом 1881-го в Дуббельне. — Сост.) нередко присоединялась одна молодая дама из Майоренгофа. Мы познакомились с ней случайно, в дороге. С очень эффектной наружностью, высокая и стройная, она, отчасти вследствие своего полунемецкого происхождения, отчасти как провинциалка, была несколько эксцентрична в своих туалетах и немножко жеманна и манерна. Однажды мы сидели в парке с Иваном Александровичем, слушая музыку; с нами была и эта дама, сидевшая немного поодаль. Вдруг, в антракте, изящно перегнувшись к писателю, она громко спрашивает его: «Monsieur Гончаров, вы женаты?» Надо было видеть, какой испуг отразился на лице милого старичка! Он поднял обе руки и, как бы отмахиваясь от какого-то страшного призрака, энергично запротестовал: «Нет, нет! Никого! Никогда!»
Иван Александрович Гончаров. Из письма Ю. Д. Ефремовой. 1(13) июля 1859. Из Мариенбада:
Между прочим, у меня явилось занятие — здесь водятся змеи, и я с палкой откапываю их гнезда и уже двух казнил, и это развлечение!
С детьми
Гавриил Никитич Потанин:
Даже с дворовой мелюзгой он находил удовольствие играть. Подхватит с полу какую-нибудь четырехлетнюю Машутку-соплюшку, усадит на колени, даст играть часы, кошелек, насыплет перед ней кучу конфет, поставит банку варенья и начинает угощать. Машутка ест до того, что начинает пыхтеть и наконец объявляет решительно: «Будет, барин, больше не хочу». — «Еще хоть ложечку! Да кланяйтесь, Гаврила Никитич, хоть вы, — у меня нет жены». Машутка отворачивается от варенья. — «Ну, ну, Маша, утешь меня, понатужься еще». — «Мама! Что барин пристает!» — ревет наконец гостья. Барин бросает ложку, вскидывает Машутку на плечо, садит на шею и мчится по всем комнатам. Машутка вместо слез начинает хохотать, а барин очень доволен, что утешил Машутку. В это время он казался мне самым нежным отцом, да, верно, то же он чувствовал и в себе.
Михаил Викторович Кирмалов:
Первые мои воспоминания об Иване Александровиче относятся к 1870–1871 годам, ко времени моего детства.
Дедушка часто брал меня и сестру с собой при посещении Ивана Александровича. Звать его надо было дядей, ибо звание дедушка он не любил. <…>
Иван Александрович иногда читал нам басни (Крылова. — Сост.) и показывал «картинки», иногда дарил нам безделушки; так, я получил от него перочинный ножичек-брелок и трость из его большой коллекции тростей, собранной со всех стран земного шара. Коллекция эта в виде объемистой пачки покоилась на двух кронштейнах над его кроватью.
В это же время его посещала и Варвара Лукинична, служившая в институте, с своими двумя детьми. Мальчика за его тонкую и высокую фигуру он шутя называл «макароной». Но внимания он заметно больше оказывал девочкам.
На рождество он устроил у себя для нас елку. <…> В кабинете на круглом столе стояла маленькая елка, а под ней подарки детям, и среди них — хрустальная сахарница в виде сердца.
Иван Александрович был оживлен, ласков и шутлив с детьми. Усадив нас и Мимишку вместе на диване, он стал вызывать всех по очереди и вручать подарки. Первая была вызвана Мимишка, получившая сахарницу, и тут же, стоя на задних лапках, съела из рук Ивана Александровича кусочек сахару. Всех детей Иван Александрович оделил дорогими и интересными подарками: игрушками, книгами и прочим.
Александр Николаевич Гончаров:
В конце 1868 года я случайно встретил его в Петербурге, в пять часов вечера, и он пригласил меня пройтись вместе. Пройдя Литейную, мы пошли по Невскому, по направлению к адмиралтейству. В окне магазина Avanzo была выставлена картина, и возле витрины стояли два мальчика. Я засмотрелся на картину, но вдруг слышу шипение дяди: «Пойдем, пойдем, пойдем скорее…» Дорогой он объяснил мне свою поспешность тем, что мальчики, быть может, были подосланы и могли заговорить с нами, а затем донести, что мы приглашали и совращали их… Всю дорогу он говорил мне об этом, рассказывал, что в Петербурге этот порок распространен, и что один крупный чиновник был даже изловлен градоначальником Треповым.
Благодетель
Анатолий Федорович Кони:
В течение многих лет у него служил камердинером и заведовал его домашним хозяйством честный и усердный курляндский уроженец. В конце шестидесятых годов он умер скоропостижно, и Иван Александрович, соболезнуя положению его вдовы с тремя малолетними детьми, оставил ее служить у себя, предоставив ей маленькое помещение через площадку лестницы своей квартиры, и заменил ею умершего ее мужа в домашних заботах о своем маленьком хозяйстве старого холостяка. С годами, когда стали подрастать дети, сердце Ивана Александровича откликнулось на их чистую ласку, и он привязался к ним, и особливо к старшей девочке, глубоко и трогательно. Его заботам, просьбам, материальным жертвам, ходатайствам, письменным и словесным, эти дети были обязаны своим воспитанием и образованием в средних учебных заведениях, за чем он следил с исключительным вниманием. Возможность дать им средства, чтобы подышать чистым воздухом и укрепить свои силы где-нибудь на даче или на берегу моря, сердечно радовала старика, которому в этом нередко помогали дочери его старого друга А. В. Никитенко. И в этой вполне бескорыстной привязанности Гончаров дошел до крайних пределов. Заботы о детях, их мысли, чувства, привычки, складывавшиеся особенности характера, шутливые и нежные прозвища, им даваемые, наполняли его жизнь, вплетались в его беседу. Внимание их, ласка Сани (так звали старшую из них) вызывали горячую благодарность с его стороны. Мало-помалу их жизнь пустила в его существование крепкие, неразрывные корни.