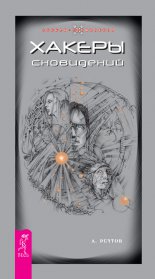Воспитать ребенка как? Ушинский Константин

Предметы, размещенные в пространстве один возле другого, в таком же порядке оставляют и следы в нашей памяти. Припоминая предмет, мы припоминаем и соседний с ним. Эти ассоциации, конечно, схватываются более всего органом зрения и отчасти только органом осязания. Такие ассоциации, основанные на единстве места, весьма сильны у людей, у которых природою и упражнением тонко развит орган зрения, и особенно сильны у живописцев. Но вообще у детей почти всегда преимущественно развита память зрения, и часто целые уроки укореняются в памяти дитяти такими ассоциациями места. Отвечая урок, дитя видит перед собою развернутую книгу или развернутую тетрадь и переходит со строчки на строчку, со страницы на страницу. Вот почему полезно печатать в детских книгах крупными буквами собственные имена и подчеркивать в тетрадях те слова или названия, которые должны быть твердо замечены.
Ассоциации по месту всего более способствуют установлению в нас уже не рядов, а целых групп представлений, в которых с одним срединным звеном связано множество других, идущих в разные стороны. Конечно, описывая в словах такую группу и даже наблюдая ее внимательно в своем воображении, мы не можем разом идти и в разные стороны; но тем не менее это не мешает нам, идя в одну сторону, помнить, что есть другие, и, рассмотревши или описавши все, что стоит налево, приняться потом за такое же рассмотрение или описание того, что стоит направо.
Вот почему ученик, заметивший хорошо, например, карту страны, группу красок и очертаний, на ней изображенных, может потом свободно описывать эту карту, начиная с какого угодно конца; и, конечно, такое изучение географии несравненно полезнее и тверже изучения ее по книге. Можно только тогда назвать географическое изучение основательным и прочным, когда ученик, у которого вы потребуете, например, описания Волги, немедленно может представить в своей зрительной памяти всю эту реку, как она изображается на карте, с ее извилинами, притоками и городами, и достаточно оторвал свои познания от книги и привязал к карте, чтобы начать описывать Волгу от истока к устью или от устья к истоку. Словом, надобно заботиться, чтоб географические познания ученика, через рассматривание и черчение карты, из ассоциаций по времени изучения в книге перешли в ассоциации по месту, связанные не нитью рассказа, но картой, оставившею глубокий след в памяти и без труда вызываемой воображением ученика в его зрительном органе.
Неккер-де-Соссюр рекомендует не только изучение географии по картам и черчение таблиц, синоптических и синхронистических, но и рисовку планов комнаты, здания, улицы. Мы же находим, кроме того, очень полезным вообще черчение схем всякого рода, как только приходится дать заметить детям соотношение частей какого-нибудь предмета, нескольких предметов, составляющих одну группу, и т. д.
Так, например, весьма полезно при изучении с детьми человеческого тела, семейств, родов и видов животных и т. п. чертить на доске соответствующие таблички, по которым дитя вело бы свой рассказ.
На основании того же самого психического закона полезно изучать исторические происшествия, имея перед собою карту местности, в которой эти происшествия совершались, чертить походы, о которых рассказывается, чертить постепенное расширение какого-нибудь государства, родословные таблицы – словом, все, что может быть начерчено. Посредством таких чертежей учитель приобретает в зрительной памяти дитяти самого могущественного союзника.
О логических связях
В рассудочные ассоциации следы связываются нами по внутренней логической необходимости: как причина и следствие, как средство и цель, как целое и необходимая его часть, как положение и вывод и т. д.
Всякая механическая ассоциация может быть превращена в рассудочную, как только я сознал логическую необходимость связи. Так, например, два последовательные явления: появление весенней теплоты и появление травы – могут связаться сначала в чисто механическую ассоциацию, по единству времени обоих этих явлений, а потом эту же самую механическую ассоциацию я могу превратить в рассудочную, признав в одном явлении причину, а в другом следствие этой причины. Заметим при этом, что лучшим началом для ученья будет превращение (вопросами) механических ассоциаций, готовых уже в душе дитяти, в ассоциации рассудочные. Для этого стоит только обратить внимание дитяти на те ассоциации, которые механически уже в нем установились, и показать логическую связь между теми явлениями, которые уже связаны в его душе единством времени, места, по частному сходству и т. д.
Мы часто встречаем глупейших резонеров, у которых что ни слово – то рассудочная истина; а вместе с тем, что ни слово – то ложь и доказательство невежества и тупости. Вот почему, хотя и необходимо с самого же начала учения развивать в детях рассудочные ассоциации, но должно остерегаться, чтоб не впасть при этом в односторонность и не сообщить детям страсти к резонерству, которая могла бы увлечь их далее того, чем идут их знания и точные наблюдения. Рассудочные ассоциации должны развиваться и усложняться вместе с развитием способности к точным наблюдениям и увеличением запаса знаний. Даже надо сообщить детям опасение преждевременных рассудочных ассоциаций, показывая им, как часто эти ассоциации бывают ошибочны.
Глава 6
Зубрить или не зубрить?
Известно, как в школе относятся к отличникам: их считают зубрилками. Получит ребенок свою пятерку, а те, кто «схватил» двойку, смотрят с презрением (хотя так они маскируют зависть) и кричат в спину: зубрилка, зубрилка. Особенно в первых классах так донимают девочек, которые трудолюбивы и прилежны. В школе моего времени имелся даже своего рода фоторобот зубрилки: девочка с косой и зачесанными назад волосами, то есть с «гладкой» головкой, увенчанной бантом, вся сияющая чистотой и прилежанием, с набитым книгами и тетрадками портфелем и в очках. Очки были обязательным элементом портрета зубрилки и все объясняли: все знали, что постоянное чтение вредит зрению, вот вам и очки.
Не думаю, что портрет современной «зубрилки» чем-то отличается от портрета моего времени. Может, только форма одежды изменилась. Ну а уж отношение троечников и двоечников к таким успешным ученицам неизменно. Их не любят. И все успехи в учебе объясняют только зубрежкой. Иногдаих обвиняют совершенно напрасно. Но чаще связь зубрежки с успеваемостью существует. Школа требует точного воспроизведения того, что написано в учебниках. Так что причина точного, дословного запоминания ясна. Хочешь хорошо учиться, то есть получать хорошие оценки, запоминай не по смыслу, а по тексту.
Зубрить или не зубрить – вопрос не такой простой. Конечно, приятно, когда память у ребенка превосходная и проблем запомнить материал у него нет. Но не всякий урок можно запомнить сразу, особенно если в нем слишком много фактического материала и его нужно попросту заучить.
Заучить – это и есть синоним слова «зазубрить». Помню с университетских времен страшные таблицы показателей развития сельского хозяйства, которые нам вменялось запоминать по годам. Вряд ли эти цифры можно было запомнить иначе чем заучиванием, то есть зубрежкой. Детям, к великому счастью, подобные таблицы не дают, но даты, ход событий, факты из естественных наук, отрывки из прозаических текстов и стихи им приходится заучивать. Благо что в наших школах не нужно учить главы из Библии, как приходилось это делать детям в позапрошлом веке. Говорят, это замечательно развивало способность к запоминанию. Ушинский же считал, что столько мусора в ученической голове никому не нужно. И достаточно пересказать библейские тексты своими словами, а не зазубривать их, чтобы осели в мозгу навсегда.
Но какие-то вещи все равно запоминать приходится. И не всегда это можно сделать «естественным» путем, оперируя логикой и ассоциативными связями. Иногда приходится прибегать и к механическому запоминанию, то есть зубрежке. Так что, пока жива школа, нам от зазубривания, наверно, никуда не деться.
О памяти плохой и памяти хорошей
Конечно, более или менее хорошая память не есть только прирожденное качество. Но все же крепость первых усвоений, ложащихся в основу душевных работ, и потом крепость последующих усвоений, не находящихся в связи с начатыми работами, условливаются прирожденною степенью большей или меньшей памятливости. Можно легко заметить, что один ребенок усваивает быстро и прочно; другой усваивает также быстро, но скоро забывает; третий усваивает медленно, но прочно; четвертый, наконец, самый несчастный, и медленно усваивает, и быстро забывает. Это явление часто не находится в связи с умственным развитием, так как встречаются положительные идиоты, которые в то же время необыкновенно быстро усваивают громадные ряды следов ощущений и прочно их сохраняют, как тот, который, не понимая ни слова по латыни, мог от слова до слова повторить прочитанную им раз медицинскую диссертацию на латинском языке.
Память, без сомнения, есть необходимое условие всякого душевного развития. Не имея памяти, человек положительно не мог бы ни на волос развиться: он всегда вращался бы в одной и той же тесной сфере мгновенной душевной деятельности. Но сильная память не есть еще сама по себе ручательство возможности сильного душевного развития, если ее не поддерживают, с одной стороны, столь же сильные душевные работы, а с другой – иные свойства нервной системы, и именно особенная подвижность ее частиц. В таком положении сильная памятливость может оказать даже вредное влияние, загромождая человека бесчисленным числом твердо усвоенных следов, которые только мешают его слабой душевной деятельности. Отсюда вред бестолкового зубрения наизусть, которое погубило не одну молодую, еще слабую душу, заваливая ее никуда не годным материалом, с которым душа не может еще справиться.
Но вредное влияние сильной и прочной памятливости не ограничивается только детским возрастом: часто, пересматривая труды какого-нибудь ученого, приходится только жалеть, что у него была такая сильная память, при малом развитии других качеств душевной деятельности. Из сказанного здесь, конечно, ни один благоразумный человек не выведет, что сильная памятливость вообще вредна. Напротив, она есть необходимое условие гениального ума; но она же часто бывает причиною и слабого развития умственных способностей. Все дело здесь в гармонии различных качеств нервной системы и в силе душевных работ. Некоторые психологи в особой слабости усвоения хотят найти корень различия психической деятельности мужчин и женщин; но это грубая ошибка: кто учил девочек, тот знает, что они точно так же часто, как и мальчики, отличаются быстрою и сильною памятью. Скорее уже можно упрекнуть девочек в том, что они заучивают слишком твердо.
О мнемонических приемах запоминания
Вспоминая собственное имя, год, число жителей и т. п., мы не можем опираться на рассудок, и запоминание основывается здесь чисто на механической, рефлективной связи одной нервной механической привычки с другою. Так, например, заучивая первые иностранные слова, дитя инстинктивно повторяет десятки раз вслух: стол – der Tisch, земля – die Erde, отчего в голосовых и слуховых органах дитяти образуется привычная ассоциация, в которой слуховой орган и голосовой взаимно поверяют друг друга. Так же заучиваются нами, большей частью, члены новых иностранных языков: der, die, das, le, la, les и т. п. Тут уже рассудком ничего не возьмешь, а все приобретается механизмом привычки; напротив, если в такое припоминание замешается рассудок, то может только испортить дело. Заучив, например, твердо и верно употребление членов немецкого языка, мы употребляем их кстати; но стоит только нам задаться вопросом: действительно ли при таком слове стоит der или das, как придется прибегнуть к помощи лексикона. Вот почему в детстве, когда рассудок не вступил еще в полные права свои, а нервная система еще свежа и впечатлительна, иностранные языки изучаются легче, чем в зрелые годы.
Точно так же механически заучиваются нами и собственные имена. При заучивании годов событий рассудок может быть призван отчасти на помощь механической памяти; но мы назовем ту память хорошей, которая не нуждается в такой помощи рассудка. Так, например, если для того, чтобы вспомнить год основания Петербурга, мы должны будем перебрать в голове своей всю историю Петра и припомним, и то приблизительно, требуемый год, то это уже плохая память и очень неудобная, потому что замедляет и затрудняет нашу умственную деятельность. Следовательно, сколько бы мы ни старались внести рассудочный элемент во все учение дитяти, всегда останется много и очень много такого, что может быть взято только механической памятью. Вот почему ученье никак не должно пренебрегать этой памятью, хотя и не должно, с другой стороны, на ней одной только основываться, как это часто было в старинных схоластических школах. Так, например, желая затвердить, что Карл Великий умер в 814 году, я замечаю, что цифра 8 похожа на песочные часы – эмблему смерти, 1 – на копье, а 4 – на плуг, и запоминаю, что в этот год умер человек великий на войне и в мире. Иногда такое искусственное запоминание остается тем прочнее, чем нелепее сближение. Так, например, желая запомнить адрес г. Сырникова, живущего, положим, в Сокольниках, в Ельницкой улице, на даче Буркиной, я представляю себе нелепую картину сокола, сидящего на ели, в бурке, с сыром во рту. И это нелепое сближение, в котором мой зрительный орган принял сильное участие, спасает от забвения необходимый для меня адрес.
Употреблять такие уродливые сравнения для облегчения детям акта запоминания следует очень осторожно, и г-жа Неккер-де-Соссюр совершенно права, когда говорит: «Правда, что самая уродливость этих образов навсегда запечатлевает их в памяти, но именно этого-то и следует опасаться. Иногда эти уродливые образы преследуют нас до старости, и от этого, естественно, чистое выражение некоторых идей так портится, что нельзя возвратить им их настоящего цвета». На этом искусственном запоминании основана так называемая мнемоника, наука памяти. К мнемонике прибегали еще в классической древности, а потом в особенности занимались ею арабы: были изобретены мнемонические азбуки и разные хитрости, необходимость которых в настоящее время значительно ослабела выработкой обширных научных рассудочных систем. Все эти мнемонические подставки памяти, которыми и теперь пользоваться бывает не всегда бесполезно, основаны на том психическом законе, что всякое отдельное представление, оторванное от других, с трудом укореняется в памяти и быстро из нее изглаживается; мнемоника же показывает возможность связать это отдельно стоящее представление с другим, искусственно придуманным, и два представления, поддерживая друг друга, укореняются в памяти прочнее, остаются дольше и возобновляются легче. Особенно же мнемоническое припоминание действительно, если посредством его призывается к участию в акте памяти значительный орган нервной системы.
Так, например, в первом случае, замечая год смерти Карла Великого, я всматриваюсь в начертание цифр и представляю в своем зрительном воображении песочные часы, копье и плуг. Следовательно, лучшим мнемоническим правилом будет то, которое мы высказали выше, а именно: призывание к участию в акте памяти возможно большего числа органов нервной системы. Конечно, лучше, если это сближение будет совершенно естественное, как, например, между историческим событием и картой местности, где совершалось это событие. Но, где такого естественного сближения установить нельзя, можно прибегнуть и к искусственному.
Так, например, при изучении наизусть какого-нибудь отрывка, можно заметить 5–6 главных характеристических слов, ведущих за собой другие, или при изучении каких-нибудь грамматических исключений, основанных чисто на употреблении, можно прибегать к известным грамматическим виршам.
Стихи заучиваются нами легче прозы по тому же мнемоническому закону. Но зато нет ничего легче, как бессмысленно твердить стихи, и педагог должен заботиться, чтобы это бессмысленное твержение стихов не перешло в привычку.
О логическом методе запоминания
Лучшим способом перевода механических комбинаций в рассудочные мы считаем для всех возрастов, и в особенности для детского, метод, употреблявшийся Сократом и названный по его имени сократическим.
Сократ не навязывал своих мыслей слушателям; но, зная, какие противоречащие ряды мыслей и фактов лежат друг подле друга в их слабо освещенных сознанием головах, вызывал вопросами эти противоречащие ряды в светлый круг сознания и, таким образом, заставлял их, сталкиваясь, или разрушать друг друга, или примиряться в третьей, их соединяющей и уясняющей, мысли.
При сократическом методе, собственно говоря, не дается никаких новых рядов и групп представлений, но уже существующие ряды и группы приводятся в новую рассудочную систему. Наставник своими вопросами только обращает внимание ученика на сходство или различие тех представлений, которые уже были в его голове, но никогда не сходились вместе. Сократический метод, внеся вопросами свет в темную голову, сводит мало-помалу в рассудочную систему, ясную для сознания, все, что хранилось во мраке этой головы, и тем самым отдает во власть разумного сознания материалы, случайно и отрывочно накопленные памятью. Из этого уже ясна сама собою великая польза сократического метода при учении детей.
Если наставник хочет, чтобы дитя ясно поняло и действительно усвоило какую-нибудь новую для него мысль, то лучше всего достигает этого сократическим способом. Вызывая из дитяти два или многие уже существующие в его душе представления, обращая его внимание на противоречие или сходство этих представлений, наставник открывает самому ученику возможность совершенно самостоятельно или с необходимой помощью (чем меньше помощи, тем лучше) преодолеть противоречия и вывести новую истину.
Конечно, приложение сократического метода не во всех науках одинаково возможно. Так, например, он более приложим в науках математических или философских, чем в истории.
Каждая математическая или философская истина может быть выведена сократическим способом, тогда как факты исторические, географические, статистические должны быть непосредственно сообщаемы памяти ученика. Однако же и в этих последних науках, как только дело коснется оценки факта, понимания его настоящего значения, так сократический метод может и должен быть применяем. Конечно, дело идет гораздо быстрее, когда учитель сам прямо высказывает оценку факта или навязывает ученику свою, уже готовую, мысль; но при этом всегда является опасность, что ученик примет мысль учителя (не факты) бессознательно, на веру, то есть примет ее ложно, примет за факт, когда она только мысль. Таким образом, вместо того чтобы в голове ученика две механические ассоциации связались в третью – рассудочную, прибавится к ним еще новая, такая же механическая.
Сократический способ преподавания имеет, кроме других своих преимуществ, то еще хорошее свойство, что удерживает самого наставника от преждевременного сообщения детям иных рассудочных комбинаций: дети поймут при сократическом способе в этих комбинациях настолько, насколько станет у них действительной силы в данное время, т. е. станет их знаний и их ума. Но если даже предположить, что ученик поймет мысль, объясненную ему учителем, то и в таком случае мысль эта никогда не уляжется в голове его так прочно и сознательно, никогда не сделается такою полною собственностью ученика, как тогда, когда он сам ее выработает, только обратив внимание на сходство или различие уже укоренившихся в нем представлений.
Глава 7
Как дочка королевы стала дочкой швеи-мотористки
Когда-то шестилетняя девочка из квартиры ниже этажом открыла мне страшную тайну. Я ради этой тайны даже съела горсть сырой земли из горшка с пальмой.
Обычно эта девочка гуляла только за ручку с мамой. На этот раз она сидела одиноко у квартирной двери. Оказалось: выглянула посмотреть, где их кошка, а дверь захлопнулась. И дома никого нет. Пришлось пригласить соседку в гости.
Гостья уселась тут же под моим единственным домашним растением – пальмой и, видимо, испытывала ко мне благодарность (холодно на лестнице, был октябрь). А когда я ее еще и чаем с конфетами угостила, благодарности не было предела. Тут она мне и открылась, взяв страшную клятву, что не расскажу ее маме. Маме я не рассказала, но вам расскажу, благо вы эту девочку не знаете и маму ее тоже.
Тайна была такова: давным-давно на одном острове в море у королевы и короля родилась дочь. Нозлые дядя и тетя хотели ребенка утопить, а королевскую чету казнить. Они бросили короля с королевой в темницу, но дочку-принцессу найти так и не смогли. А ее увез с острова добрый волшебник и спрятал тут, в нашем городе, в семье, в которой ее точно не будут искать. Прямо так в кроватку и подложил. А эта тетенька из нашего города как раз ждала, когда ей ребенка принесут. И очень обрадовалась. Но она чувствует, наверно, что это не ее родной ребенок. Поэтому с девочкой обращается строго, в чулане запирает, шлепает, сластей не дает.
Девочка сначала не знала, что она не родная, а потом узнала. Ей тетя с маминой работы так и сказала, что она прежде была в доме для сирот. А потом к ней пришел волшебник и сказал, что ее настоящие мама и папа так до сих пор и сидят на острове в тюрьме, а злые дядя и тетя не могут их казнить, пока не узнают, где их дочка, наследница престола. Она теперь все знает, но своей приемной маме рассказать не может, потому что тогда волшебник опять ее спрячет, и, может быть, там ей будет еще хуже.
Конечно, этот рассказ соседской девочки заставил меня задуматься. Понятно, что дома ей было не слишком комфортно. Мама много работала, часто бросала ее одну, сердилась, могла наговорить обидных слов – весь подъезд эти ее крики слышал. Все знали, что отец девочки бросил ее мать, как только узнал о прибавлении в семействе. Словом, семья не самая удачная. Но только ребенок мог сделать из этой тривиальной ситуации драму с похищениями и превращениями. Причем у этого ребенка не было никакого комплекса принцессы, она не была избалована, ее приучили к труду, скорее – она была в родной семье Золушкой, только Золушкой, у которой нет сестер. Но вот сплела рассказ и так в него поверила, что даже стала стесняться своей мамы. Видимо, пока эта история приобрела форму, девочка многократно проигрывала весь сценарий и выбрала наилучший и все объясняющий.
И холодность матери, и шлепки, и наказания, и брошенное подругой с маминой работы откровение, что она приемная дочка. Так вот детское сознание переработало сны, чужие слова и реальность. И из дочки швеи-мотористки третьего разряда получилась спрятанная принцесса. Произошла, как принято говорить, подмена реального мира выдуманным. Если думаете, что это явление редкое, то глубоко заблуждаетесь.
Ушинский совершенно справедливо замечал, что все люди теряют иногда нить реальности и создают ложные воспоминания. Мы склонны «забывать» неприятные события и подменять их выдуманными, потому что иначе испытываем сильный стресс. Стирая негатив, мы просто избавляемся от того, что нам неприятно. Но если, как эта девочка, мы «перезаписываем» свое прошлое, то каково же тогда наше настоящее? И когда ваш ребенок делает что-то подобное, не обвинять его во лживости нужно, а как можно быстрее разбираться, что же в его настоящем вызывает выдумки. От хорошей жизни ребенок не ищет убежища в выдуманном мире. И не уходит в виртуальную реальность.
О детской выдумке, происходящей из забывчивости
Что многое и очень многое ускользает из нашей памяти, в этом мы можем убедиться, рассказывая даже вчерашнее происшествие и поверив наш рассказ рассказами других очевидцев. При этом мы увидим, как обманывает нас наше воображение, вставляя свои кольца в разорванные цепи памяти, так что, желая связать какую-нибудь цепь следов, разорвавшуюся в нашей памяти, мы связываем ее кольцом, которое только что вновь сковано нашим рассудком, или нашим воображением, или выхвачено нами из совсем другого ряда звеньев. Надобно особенное усилие воли, чтобы с полной точностью рассказать происшествие, виденное нами, не вковавши в этот рассказ ни малейшего кольца своего собственного производства. При потворстве же себе это обращается в привычку очень неблаговидную, так что мы лжем, сами того не сознавая.
У детей, у которых особенно сильно развито воображение, а усилие воли восстановлять объективную истину еще слабо, такая невольная ложь встречается очень часто. Бывает даже, что дети смешивают с действительностью то, что видели во сне, припутывая еще к этому какие-нибудь ассоциации своего собственного воображения, которые, по особой впечатлительности детской нервной системы, отразились в ней с такой силой, глубиною и яркостью, что дитя, встречаясь потом в своей памяти со следами этих ассоциаций воображения, принимает их за следы действительных событий и впечатлений внешнего мира.
Взрослых спасет от этих невольных ошибок или рассудок, показывающий невозможность события, или сильное напряжение внимания, причем следы внешних впечатлений отличаются своей особою яркостью от следов внутри создаваемых ассоциаций: у детей же воля и рассудок еще слабы, психический анализ почти не существует, поэтому неудивительно, что такая невольная ложь встречается беспрестанно, и ее надобно старательно отличать ото лжи преднамеренной, которую сам ребенок сознает как ложь.
Эти явления указывают педагогу на необходимость приучать детей к верной передаче событий или созерцаний и предупреждать тем возможность образования, особенно у детей с развитым воображением, привычки полуневольной лжи, которая может потом остаться и в зрелом возрасте. Для этого следует заставлять детей описывать предмет, который они видели, рассказывать событие, в котором они принимали участие или которого были свидетелями.
Так, например, весьма полезно, если ученики в конце уроков расскажут весь ход уроков или в конце недели расскажут занятия своей недели. При этих рассказах сейчас выскажутся дети с особенно сильным воображением и у которых ход внутренних концепций так силен и оставляет такие яркие следы в памяти, что верный рассказ событий становится для них чрезвычайно затруднительным. Наставник будет внимателен к таким детям, но вместе с тем снисходителен, если сам на себе испытал, как трудно с объективною верностью передать самое простое событие, и замечал, как разнообразно передается одно и то же событие разными людьми безо всякого желания лгать.
Это вмешательство наших внутренних концепций в ход наших непосредственных наблюдений бывает причиною множества невольных ошибок и ложных взглядов, а потому приучение детей к точному наблюдению и точной передаче наблюдаемого есть одна из важнейших задач воспитания.
На этой же причине забывчивости основано отчасти то явление, что дети с сильно возбужденным воображением оказываются очень забывчивыми. Они забывают не потому, что у них память слаба, но потому, что, при беспрестанной постройке воображением новых и новых ассоциаций, они берут материал из прежних, беспрестанно их разрывая. Кроме того, внутренняя работа воображения отвлекает внимание дитяти от уроков и вообще не занимающих его предметов. Вот на каком основании раннее развитие воображения может считаться опасным соперником памяти, хотя в сущности это вовсе не противоположные способности, и вот почему педагог должен избегать всего, что слишком сильно возбуждает ни к чему не ведущие бесполезные ассоциации в душе дитяти, как, например, чтения романов, против которого вооружался еще Кант.
Но чтение не одних романов, а вообще всякое чтение, не имеющее отношения к учению ребенка и потому остающееся без повторения, действует ослабляющим образом на память, разрывая прежние ассоциации и составляя новые, которые, не будучи потом повторяемы, ослабляются сами, ослабив, в свою очередь, другие. Конечно, из этого не выходит, что ребенку не надобно давать читать ничего, не относящегося к урокам; но воспитатель должен знать действие чтения на душу детей и ослаблять его дурные влияния, оставляя хорошие.
Не только чтение, но и бесполезное учение ослабляет память: так, если мы выучим дитя чему-нибудь, что оно потом забудет, то это действует ослабляющим образом на его память. Если мы слишком рано, например, начали учить ребенка географии или истории, а потом бросили, то можем знать, что подействовали дурно на его память вообще.
Глава 8
Как и что застревает в детской памяти
С какого времени мы себя помним и что помним?
Вот Лев Толстой помнил, как его купали в ванночке. Даже детально всю сцену купания описывал. И по тому, как описывал, сразу ясно, что не по чужим рассказам. Некоторые люди даже в чем-то переплевывают русского классика: они помнят, как лежали в материнской утробе. И тоже это пребывание там описывают. Правда, большей частью из них эти воспоминания извлечены на сеансах гипноза.
Но у большинства людей память так далеко не простирается. Память младенческого периода живет в нас вспышками, крохотными эпизодами. И мы даже сказать не можем точно, к какому времени эти эпизоды относятся. Гораздо важнее, что мы понимаем, почему они застряли в нас.
Я вот точно помню, как в три года попала под машину. Ту машину помню, черную «Волгу», и свой трехколесный (большое – красное) велосипед, и огромное колесо этой «Волги», и последующие сны, когда мой плюшевый медведь полез вверх по фикусу. Вот такие события в нас живут вечно, во всей их первозданности, вне зависимости от возраста.
И чем мы старше становимся в детстве, тем больше таких картинок в нас попадает. Хороших и плохих. Они, собственно, вроде как ответы на вопросы: а что будет, если разбить бутылку о кирпичную стенку (доктор выковыривает осколок стекла из вашего тела); а что будет, если перейти речку вброд (вас реанимируют на берегу); а что будет, если пластмассовую игрушку сунуть в газовую горелку (вид пожара запечатлевается навсегда), а что будет… Таких «что будет» огромное количество. Есть картинки другого свойства, не столько из серии «что будет», сколько из серии «что чувствуешь». Вы не сможете стереть из памяти картины смерти вашего дяди, не забудете вашей собачки, которую пришлось усыпить, в вас навсегда сохранится картинка первой разлуки с домом и родителями, первой драки в восстановление справедливости, победы в ней или поражении, то есть это уже картинки с моральным окрасом. Конечно, если они сохраняются в нас через десятилетия, понятно, какое воздействие они оказывали, когда мы были совсем юными.
Мам, говорил своей маме сын моей подруги, мне снилось, что мы отдыхали у дедушки. И им не нужно друг другу ничего пояснять: тем летом мальчик совершил плохой поступок и его дедушка попал в больницу с инфарктом. Сейчас у него сходные проблемы: получил четвертную двойку. Понятно, что одно сходное переживание тянет за собой другое, с картинкой. И понятно, что он сожалеет, что все так нехорошо вышло.
Зато и счастливые моменты тоже хранятся в памяти. И чем больше там будет побед и радостей, тем счастливее будет человек себя ощущать. А хуже всего, если таких картинок почти нет или все плохие. Не буду объяснять, как это отразится на будущем человека, вашего, между прочим, ребенка.
О памяти в период младенчества
Дитя родится без всяких следов в своей памяти и в этом отношении действительно представляет «чистую таблицу» (tabula rasa) Аристотеля, на которой еще ничего не написано. Однако же от самого свойства таблицы зависит уже, легко или трудно на ней писать, а также большая или меньшая степень прочности в сохранении ею того, что на ней будет написано. Младенец, не имея еще никаких следов воспоминаний, имеет уже возможность быстрее или медленнее принимать их, ярче или тусклее отражать, сохранять более или менее прочно, комбинировать и воспроизводить живее или медленнее.
Первые ощущения младенцем внешнего мира должны быть самые общие: света в противоположность темноте, звука в противоположность тишине, холода в противоположность теплоте, движения в противоположность неподвижности. Вместе с укреплением следов этих общих ощущений, которое высказывается в том, что ребенок, например, беспокоится от света или плачет в темноте, – усиливается в ребенке внимание к этим ощущениям, и, вследствие этого усиления внимания, общие ощущения начинают яснеть и разлагаться на частные: общее ощущение света на ощущения различных цветов, общее ощущение звука на ощущения различных звуков и т. д.
Все эти внешние ощущения, из которых многие вызываются произвольными движениями младенца (поворачивая голову, младенец видит то, чего не видел; протягивая руку, испытывает холод тела, к которому прикасается, и т. п.), комбинируются с ощущениями внутренними, с ощущениями и измерениями собственных произвольных движений, а вместе с тем начинают мало-помалу ориентироваться, приурочиваться к определенному месту и времени, помещаться в точку, определенную координатами пространства и времени.
Младенческий глаз становится детским: он не только смотрит, как открытое окно, но и видит; видит же он не потому, чтоб он изменился, но потому, что к нему прилило внимание, или, по выражению великого славянского поэта, «душа уже прилетела к глазам». Уже большие успехи сделает младенец в то время, когда начнет брать ручонками подаваемую ему вещь. Если же мы видим, что ребенок начинает узнавать мать, отличать ее от других людей и тянуться к ней, то мы можем сказать, что уже много следов ощущений накопилось в его душе.
Потом эти усвоения идут все быстрее и быстрее; но однако же беспамятность младенчества, зависящая именно от малочисленности следов, накопляемых только постепенно, замечается еще очень долго.
О памяти в возрасте от 3 до 6 лет
Трехлетний ребенок скоро забывает человека, которого не видал несколько времени, перемешивает лица, имена, с трудом заучивает два-три стиха, которые через год, через два запомнит с первого же раза. Как ни быстро развивается память в ребенке, как ни быстро накопляются в нем следы ощущений; но все же внимательный наблюдатель долго еще будет замечать постепенно исчезающий оттенок этой младенческой беспамятности, которая впоследствии выражается в том, что ребенок, с необычайною быстротою усваивающий следы ощущений, которые легко могут составить ассоциации с ощущениями, приобретенными им прежде, с большим трудом усваивает следы ощущений совершенно нового рода.
Так, например, дитя с большим трудом усваивает первые звуки чуждого языка; но потом, усвоив эти первые звуки, идет в усвоении дальнейших с быстротой, недоступною для взрослого человека, так как память взрослого уже загромождена следами, и сознание его работает над комбинациями этих следов, поглощающих внимание человека, образовавшимися уже в нем интересами.
Младенец не говорит до тех пор, пока не в состоянии будет удерживать в памяти своей не только сложные представления, но и вырабатывать умом своим отвлеченные понятия, потому что слово выражает собою всегда отвлеченное понятие. Надобно видеть множество деревьев и соединить их признаки в одно общее понятие, чтобы нам сознательно понадобилось слово дерево. Вот почему дитя начинает говорить собственными именами. Для него слова мама, папа не нарицательные, а собственные: для него слово кися означает только ту кошку, которую он знает, и слово стол – только тот стол, который он привык видеть в своей комнате. Уже потом, замечая сходство других предметов того же рода с предметами, которые он знает, дитя дает им общее имя и нередко ошибается; так, называет папою каждого мужчину, и если первый цветок, с которым оно познакомилось, была роза, то розой – всякий другой цветок.
О памяти в отрочестве
Период отрочества ребенка, начиная от 6-ти или 7-ми лет до 14 и 15-ти, можно назвать периодом самой сильной работы механической памяти. Память к этому времени приобретает уже очень много следов и, пользуясь могущественною поддержкою слова, может работать быстро и прочно в усвоении новых следов и ассоциаций; а внутренняя работа души, перестановка и переделка ассоциаций, которая могла бы помешать этому усвоению, – еще слаба. Вот почему период отрочества может быть назван учебным периодом, и этим коротким периодом жизни должен пользоваться педагог, чтобы обогатить внутренний мир дитяти теми представлениями и ассоциациями представлений, которые понадобятся мыслящей способности для ее работ. Тратить это время исключительно на так называемое развитие рассудка – было бы великой ошибкой и виною перед детством; а эта ошибка не чужда новейшей педагогике.
Период сильной механической памяти продолжается не у всех одинаково. «Заметный упадок памяти, – говорит Бенеке, – начинается у большей части детей довольно рано (иногда уже на двенадцатом году). Этот упадок должен показаться с первого разу чрезвычайно загадочным, так как память, будучи только удержанием образовавшихся в нас представлений, должна бы с каждым годом возрастать более и более, до бесконечности». «Это так и бывает, – говорит далее Бенеке, – но только для тех представлений, в которые то, что усвоено прежде, входит как составная часть».
Занимаясь, например, постоянно изучением стихов, проповедей, ролей, мы приучаемся изучать их все быстрее. Но вместе с тем замечается убыль силы восприятия совершенно новых представлений и новых рядов представлений; ибо те, которые уже образовались, и образовались с известною силой, разрывают новые. Постепенного же и общего упадка силы памяти с возрастом нельзя объяснить себе иначе, как признав деятельное участие нервной системы в акте усвоения. Однако же самая эта быстрота усвоения новых и новых ассоциаций в детском и отроческом возрасте ведет за собою тот недостаток детской памяти, на который мы указали выше. Младенец усваивает трудно и медленно; но усвоенное раз не забывает, потому что его элементарные усвоения повторяются беспрестанно. Дитя усваивает легко и быстро: но так же легко и быстро забывает, если не повторяет усвоенного. Это происходит именно оттого, что, делая все новые и новые ассоциации, дитя разрывает прежние и забывает их, если не повторяет. Вот почему, например, семилетняя девочка, удивляющая всех поразительным знанием географии, т. е. имен и цифр, может утратить всякий след своего знания в продолжение года, как только ее перестают спрашивать, наскучив ее всегда безошибочными ответами.
В юности, когда в человеке пробуждаются с особенною силою и идеальные стремления, и телесные страсти, работа механической памяти естественно становится на второй план; но мы ошиблись бы, сказав, что память вообще в юношеском возрасте ослабевает. Она так же сильна, но только в отношении тех ассоциаций, которые находятся в связи со стремлениями юности. Память зрелого возраста, в противоположность отроческой, мы можем назвать специальной памятью: здесь человек усваивает легко только то, что относится к его специальным занятиям, обращая мало внимания на все остальное. В старости и эта специальная память слабеет. Однако же у многих замечательных людей даже механическая память сохраняется до глубокой старости – так сильна и живуча их нервная система.
О нравственном значении наших воспоминаний
Нравственное значение того, что мы помним, раскроется для нас вполне тогда только, когда мы, излагая зарождение чувств, желаний и стремлений, увидим, что и их развитие совершается так же в области памяти и ее силами, как и развитие умственных способностей, когда мы убедимся, что от наших чувств, желаний и стремлений точно так же остаются следы в душе, как и от наших представлений, и что эти следы, превращаясь в силы, точно так же развивают наши сердечные чувства, желания и волю, как и следы представлений развивают нашу память и наш ум. Теперь же нам может показаться, что содержание того, что мы помним, не имеет значительного влияния на наши нравственные стремления. Так, например, не только читая, но даже создавая какой-нибудь разбойничий роман или описывая плутовство, человек не получает еще наклонности к воровству и разбою или описывая геройские подвиги, может оставаться трусом и т. п. Однако же, с другой стороны, чтение дурных романов развратило не одного юношу.
Отчего же происходит такое различие? Оттого, что, читая, например, описание разбойничьей или развратной жизни, я могу не сочувствовать или сочувствовать ей: в первом случае ассоциации представлений не входят в комбинации с чувствами, а во втором – входят. Не только представления могут составлять между собой ассоциации; но ассоциации представлений могут комбинироваться с чувствами, желаниями и стремлениями. В Спарте показывали детям пьяного илота, чтобы укоренить в них навсегда отвращение к пьянству, т. е. представление пьяного илота комбинировали с чувством отвращения, и эта комбинация представления с чувством оставляла глубокий след в душе детей.
Если то, что заучивается детьми, не пробуждает в них никакого чувства, желания и стремления, то тогда заученное не может иметь никакого непосредственного влияния на их нравственность; но если чтение или учение, как говорится, затрагивают сердце, то и в памяти останутся следы комбинаций представлений с чувствами, желаниями и стремлениями, пробужденными чтением или учением, и такой сложный образ, след, возбуждаясь к сознанию, пробудит в нем не только представление, но и желание, стремление, чувство.
Чувство доброты точно так же, как и чувство гнева или чувство любви, само по себе ни хорошо ни дурно в нравственном отношении, но, осложнившись с представлениями и другими чувствами, оно может быть источником как нравственных, так и безнравственных психических явлений: оно может вести к щедрости, но также ведет и к бестолковой расточительности; оно может способствовать развитию человечественных отношений между людьми, но оно же ведет к той поблажке всему дурному, от которой общество столько же страдает, если еще не более, как и от развития желчного направления в людях.
Вот почему, если воспитатель должен заботиться о том, чтобы не сделать душу гневною, не воспитать так называемого желчного человека, ищущего везде и во всем пищу своему гневу, то точно так же должен он заботиться и о том, чтобы не воспитать души бестолково доброй, изливающей свою доброту на что попало, и чаще на зло, чем на добро, потому что зло хитрее добра: умеет подстерегать добрые минуты человека и пользоваться ими. Словом, если воспитатель не должен развивать желчного настроения в воспитаннике, то он должен также позаботиться, чтобы не воспитать в нем той пряничной души, в которой также нет никакого нравственного достоинства.
Из комбинации следов этих моментальных и, как казалось, забытых чувств, желаний и стремлений образуются страсти и упорные нравственные или безнравственные наклонности. Вот почему далеко не безразлично в нравственном отношении, что учит, что слышит и что читает дитя.
Конечно, еще важнее то, что дитя переживет, перечувствует; но нет и такой книги, и такой науки, которая не задевала бы хоть сколько-нибудь сердца ребенка, а от этих маленьких задеваний образуются черточки, а из этих черточек образуются ассоциации, а из этих ассоциаций иногда слагаются потом такие источники наклонностей и страстей, с которыми уже не в состоянии совладать и взрослый человек.
Глава 9
Как понять, кого вы растите
Как-то знакомая пожаловалась, что совсем не понимает своего ребенка: вроде бы послушный, вроде бы спокойный, вроде бы нормальный, но она подозревает, что дело обстоит совсем не так просто. Все ее словами были несколько ошарашены. Ребенок как ребенок. Вот он и сам входит в комнату: аккуратно расчесанные волосы, чистая рубашечка, розовые щечки. Очень вежливый семилетний мальчик. Явно не хулиган. Наверно, наоборот. Узнаю тут же, что он победитель по устному счету среди трех параллелей. Стало быть, вдобавок и умненький.
А еще через неделю мы случайно подсмотрели занятную сцену – мальчика оставили посидеть с приболевшей младшей сестрой, он притащил ей в кроватку разных игрушек, и они стали вместе играть. Сестра хотела, как обычно, в куклы, но мальчик твердо сказал: я буду палачом, играть будем в палача. Сестре было года четыре, и ей пришлось сперва объяснить, что делает палач. Сестра даже расстроилась: только моим куколкам головки неруби. И дальше мы услышали прямо-таки обвинительную речь: здесь нет твоих куколок; этот заяц с одним ухом – преступник Федоров, эта лошадка – преступница Пискунова, а этот робот – преступник Круглов, сейчас я их буду пытать, а ты за них кричи: «Спасите, помогите, караул». Потом мы положим их вот так (он сбросил лошадку на пол) и отрубим им головы. Сестра кричала, а брат выкручивал игрушкам руки-ноги и лупил их куском проволоки, потом сестра дудела на дудке, а он отсекал им линейкой головы. Мы пребывали в большом недоумении и рассказали о странных играх матери мальчика. Было у нас подозрение, что эти Федоров, Круглов и Пискунова травят его в классе.
Только мать мальчика на наш рассказ вскинула брови, а на наши выводы поспешила сообщить, что эти трое названных им конкуренты по следующему детскому конкурсу – по правописанию. И еще узнали мы, что на математическом конкурсе они не участвовали: одна переела мороженого, другой полез в ледяную воду за своей кепкой, а третий за четверть часа до конкурса сел с размаху на свои очки. Объяснения вполне логичные, но мы как-то после увиденного и услышанного подозревали, что «палач» причастен к несчастьям этих конкурсантов и что-то снова задумывает.
И мы были правы. Федорова случайно заперли в химической лаборатории, Круглов переел каких-то кексов и не вылезал из туалета, а Пискунова разорвала платье, расплакалась, и ей стало не до правописания. Победил наш герой. И если б не игра в палача, никому бы в голову не пришло, что он каким-то хитрым образом устранил своих конкурентов!
Осталось сказать о реакции матери, когда и ей стало ясно, как он добился победы. «Весь в папу», – улыбнувшись, сказала она.
О детском воображении
Воображение начинает развиваться в детях, вероятно, очень рано, хотя мы в первое время и не можем заметить его скрытой работы. Образы, над которыми работает младенческое воображение, немногочисленны, но зато необыкновенно ярки, так что дитя увлекается ими как действительностью. Физической причины этого следует искать в необыкновенной впечатлительности детского мозга, а психическая причина – неумение отличать действительность от созданий воображения, так как умение это дается только опытом. Дети очень часто, по замечанию Бенеке, считают свои сновидения за действительность, требуют игрушки, которые они видели во сне, и т. д. Незнание самых обыкновенных законов природы, с которыми потом само собою познакомится дитя, заставляет его верить самой нелепой сказке; но зато вы напрасно пожелали бы удивить младенца каким-нибудь фокусом: для того чтобы понять, например, что в исчезновении шарика есть фокус, надобно убеждение в невозможности исчезновения вещи. Ребенок, может быть, смеется, смотря на фокус, но он доволен шариком, движением рук и вовсе не понимает, что тут есть фокус.
Вот почему, слушая какую-нибудь сказку, где совершаются самые невозможные чудеса, ребенок вовсе не удивляется этим чудесам: он прямо сочувствует говорящим козлам, принцу, превращающемуся в муху, и вовсе не спрашивает о том, как козлы могут говорить или принцы превращаться в мух: для ребенка не существует невозможного, потому что он не знает, что возможно и что нет.
Слушание сказок уже на третьем году начинает доставлять большое удовольствие ребенку. «Удовольствие, – говорит госпожа Неккер-де-Соссюр, – доставляемое детям самыми простыми рассказами, зависит от живости представлений в их душе. Картины, вызываемые рассказом в детской душе, может быть, гораздо блестящее и радужнее действительных предметов, и сказка показывает ребенку волшебный фонарь.
Не нужно больших усилий воображения, чтобы занять дитя. Дайте в вашем рассказе главную роль ребенку, присоедините сюда кошку, лошадку, несколько подробностей, чтобы выходила картинка, рассказывайте с одушевлением – и ваш слушатель будет слушать вас с жадностью, доходящей до страсти. Встречая вас, ребенок всякий раз заставит повторить ваш рассказ, но берегитесь что-нибудь изменить в нем».
Дитя хочет видеть те же сцены, и малейшее обстоятельство, вами опущенное или прибавленное, рассеивает в нем то заблуждение, которое именно ребенку нравилось.
Последнее происходит оттого, что ребенок в сказке видит правду и хочет только правды; если же он заметит, как вы создаете или переделываете сказку, то она перестанет его интересовать: художественная правда еще недоступна ребенку. Вот почему дети любят больше сказки простых людей, в которых обыкновенно не изменяется ни одно слово. «Многие удивляются, – говорит далее та же писательница, – что самые грубые подражания природе совершенно удовлетворяют детей, и выводят из этого, что у детей нет понятия об искусстве, тогда как следовало бы удивляться могуществу детского воображения, которое делает для них иллюзию возможной. Вылепите какую угодно фигуру из воска, лишь был бы какой-нибудь признак рук и ног и шарик или кружок сидели на месте головы, – и ваша работа будет совершенным человеком в глазах ребенка. Потеря одного из двух членов ничего не изменит в любимце, и он будет прекрасно исполнять все роли, какие даст ему ребенок. Ребенок видит не дурную копию, но образ, который сохраняется у него в голове. Восковая фигура для ребенка только символ, на котором он не останавливается».
В играх ребенка можно заметить еще и другую особенность: дети не любят игрушек неподвижных, оконченных, хорошо отделанных, которых они не могут изменить по своей фантазии; ребенку нравится именно живое движение представлений в его голове, и он хочет, чтобы игрушки его хоть сколько-нибудь соответствовали ассоциациям его воображения.
«Опрокинутый стул представляет для ребенка лодку или коляску: поставленный на ноги, он является лошадью или столом. Кусочек картона для него то дом, то шкаф, то экипаж – все, что дитя хочет». Вот почему лучшая игрушка для дитяти та, которую он может заставить изменяться самым разнообразным образом, и вот почему Жан-Поль Рихтер говорит, что для маленьких детей самая лучшая игрушка – куча песку.
Игра для ребенка – не игра, а действительность. Дитя искренно привязывается к своим игрушкам, любит их нежно и горячо, и любит в них не красоту их, а те картины воображения, которые само же к ним привязало. Новая кукла, как бы она ни была хороша, никогда не сделается сразу любимицей девочки, и она будет продолжать любить старую, хотя у той давно нет носа и лицо все вытерлось. Попробуйте поправить разбитую куклу – и девочка ее разлюбит, а часто даже бросит с негодованием.
Такая живость детского воображения и такая вера дитяти в действительность его собственных представлений показывает уже, как опасно играть детским воображением и детскою безграничною доверчивостью. При раздражительности нервов действием страха можно сделать детей безумными, тупыми или подверженными ужасам, которые составят несчастье их жизни. Многие писатели уже восставали против пугания детей домовыми, стучащими в стену, волками, влезающими в окошко, и т. п. Но и теперь, к сожалению, эти пугания продолжаются, особенно со стороны нянюшек, которые не находят лучшего средства, чтобы заставить уняться дитя, раскричавшееся ночью, или заставить его послушаться, когда оно упрямится. Стуча в стену и говоря при этом, что «вот идет волк» съесть ребенка, няня, конечно, не понимает, что дитя видит и этого волка, и как он к нему приближается. Что бы сделалось с самой няней, если бы она сама действительно увидела волка, а она должна знать, что ребенок верит ей вполне.
Разуверить ребенка в том, во что он уже поверил, невозможно, потому что тут действует не вера, а живость представления. При слове «волк», «старик с мешком», «домовой» – эти чудовища рисуются ребенку подобно тому, как рисуются нам во сне, и тут одно средство – развлечь дитя другими представлениями и избегать всякого напоминания о том, что напугало дитя. Если ребенок знает даже, что его пугают нарочно, то и это не мешает ему испугаться: он знает очень хорошо, что старший брат спрятался в угол темной комнаты и хочет испугать его, но кричит и просит, чтоб его не пугали. Так невольно и так сильно потрясаются нервы дитяти.
Воображение ребенка и беднее, и слабее, и однообразнее, чем у взрослого человека, и не заключает в себе ничего поэтического, так как эстетическое чувство развивается позднее других; но дело в том, что и слабенькое детское воображение имеет такую власть над слабой и еще не организовавшейся душой дитяти, какого не может иметь развитое воображение взрослого человека над его развитой душой. Не воображение у детей сильно, но душа слаба, и власть ее над воображением ничтожна. В ребенке более всего поражает нас быстрота перехода от одного порядка мыслей к другому и от одних чувств к другим: от смеха к слезам и от слез к смеху, от гнева к ласке, от скуки к веселью и от веселья к скуке. Эта необыкновенная подвижность детской души зависит именно от того, что в ней, так сказать, еще мало собственного весу; эта беспрестанная смена ее характеров объясняется именно тем, что в ней не выработался еще свой характер.
Вереницы представлений у дитяти коротки, а потому и проход их в сознании совершается быстро: каждая из них скоро отживает свой век. За этой короткой вереницей следует другая – такая же короткая и ничем с прежнею не связанная. Ее втолкнет в сознание какое-нибудь внешнее впечатление: неожиданный стук, пролетевшая птица, собственное телодвижение ребенка. Новая, также короткая вереница отживает в сознании свой век так же скоро, как и прежняя, и так же неожиданно сменяется новою, может быть, совершенно противоположною. Отсюда-то происходит та необыкновенная внимательность и та необыкновенная рассеянность, которой мы часто удивляемся у детей. Ребенок заигрался, замечтался и ничего не видит и не слышит; но вереница отжила свой недолгий век – и дитя внимательно ловит каждую мелочь, чтоб вновь увлечься ею. Движение детского воображения напоминает прихотливое порхание бабочки, а уже никак не могучий полет орла: малейшее движение ветра, малейший шелест листка, кажется, даже каждый солнечный луч может изменить направление движений бабочки, и потому-то они идут такою ломаною линией и кажутся такими случайными и прихотливыми.
Но если вереницы представлений, наполняющие детскую память и движущиеся в детском воображении, коротки, зато каждая из них в недолгий период своей жизни в сознании царствует там полновластно именно потому, что она отдельна: она не ведет за собою множество других верениц, которые могли бы напомнить ребенку действительность; она не вызывает у него идей возможности и невозможности и действует на душу дитяти почти так, как действуют сновидения на душу взрослого.
Недостаток же внутреннего, уже образовавшегося интереса не дает ребенку возможности управлять своим воображением: ребенку все равно, куда бы его ни несла его прихотливая мечта, волнуемая разнообразием внешних впечатлений, только бы эти мечты занимали его душу, уже по природе своей требующую беспрестанной деятельности. Только тогда, когда созреют в душе внутренние для нее интересы и когда выплетутся в памяти обширные сети из отдельных верениц, душа, выражаясь метафорически, получает собственный вес, становится тяжелее и не позволяет прихотливой мечте уносить себя куда попало.
Если вы хотите узнать, какое направление принимают работы детского воображения, то наблюдайте внимательно за играми ребенка. Мы хорошо познакомились бы с душою взрослого человека, если бы могли заглянуть в нее свободно; но в деятельности и словах взрослого нам приходится только угадывать его душу, и мы часто ошибаемся; тогда как дитя в своих играх обнаруживает без притворства всю свою душевную жизнь.
Для дитяти игра – действительность, и действительность гораздо более интересная, чем та, которая его окружает. Интереснее она для ребенка именно потому, что понятнее; а понятнее она ему потому, что отчасти есть его собственное создание. В игре дитя живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, в которую он не мог еще войти по сложности ее явлений и интересов. В действительной жизни дитя не более как дитя, существо, не имеющее еще никакой самостоятельности, слепо и беззаботно увлекаемое течением жизни; в игре же дитя, уже зреющий человек, пробует свои силы и самостоятельно распоряжается своими же созданиями. Вот почему Бенеке совершенно справедливо замечает, что «в первом возрасте игра имеет гораздо большее значение в развитии дитяти, чем учение».
Но если дитя больше и деятельнее живет в игре, чем в действительности, то тем не менее окружающая его действительность имеет сильнейшее влияние на его игру; она дает для нее материал гораздо разнообразнее и действительнее того, который предлагается игрушечною лавкою.
Присмотритесь и прислушайтесь, как обращаются девочки со своими куклами, мальчики со своими солдатиками и лошадками, и вы увидите в фантазиях ребенка отражение действительной, окружающей его, жизни – отражение, часто отрывочное, странное, подобное тому, как отражается комната в граненом хрусталике тем не менее поражающее верностью своих подробностей. У одной девочки кукла стряпает, шьет, моет и гладит; у другой величается на диване, принимает гостей, спешит в театр или на раут; у третьей бьет людей, заводит копилку, считает деньги. Нам случалось видеть мальчиков, у которых пряничные человечки уже получали чины и брали взятки. Не думайте же, что все это пройдет бесследно с периодом игры, исчезнет вместе с разбитыми куклами и разломанными барабанщиками: весьма вероятно, что из этого со временем завяжутся ассоциации представлений, и вереницы этих ассоциаций, которые со временем, если какое-нибудь сильное, страстное направление чувства и мысли не разорвет и не переделает их на новый лад, свяжутся в одну обширную сеть, которая определит характер и направление человека.
В играх общественных, в которых принимают участие многие дети, завязываются первые ассоциации общественных отношений. Дитя, привыкшее командовать или подчиняться в игре, нелегко отучается от этого направления и в действительной жизни. Нас, русских, упрекают часто в лености, в страсти распоряжаться и ничего не делать самим; но нет сомнения, что на образование такой черты в нашем характере, резко кидающейся в глаза, особенно посреди иноземцев, имели большое влияние игры помещичьих детей с крепостными мальчиками и девочками, которые, исполняя все прихоти своего маленького барина, избавляли его от труда что-нибудь делать самому. Игра потому и игра, что она самостоятельна для ребенка; а потому всякое вмешательство взрослого в игру лишает ее действительной, образовывающей силы. Взрослые могут иметь только одно влияние на игру, не разрушая в ней характера игры, а именно – доставлением материала для построек, которыми уже самостоятельно займется сам ребенок. Но не должно думать, что этот материал весь можно купить в игрушечной лавке.
Вы купите для ребенка светлый и красивый дом, а он сделает из него тюрьму; вы накупите для него куколки крестьян и крестьянок, а он выстроит их в ряды солдат; вы купите для него хорошенького мальчика, а он станет его сечь: он будет переделывать и перестраивать купленные вами игрушки не по их значению, а по тем элементам, которые будут вливаться в него из окружающей жизни, – и вот обэтом-то материале должны более всего заботиться родители и воспитатели.
Что касается до учения, то оно только очень не скоро может вложить и свои материалы в работы детского воображения. Все начатки учения так сухи и бедны, что ребенок не в состоянии с ними ничего сделать: только в будущем они могут принести свои плоды и войти действительным материалом в самостоятельную жизнь человека. Впрочем, все попытки воспитания внести игрою, а еще лучше детскими работами серьезный материал в фантазию ребенка (самые удачные из этих попыток, конечно, принадлежат фребелевской системе) имеют свою полную цену.
В истории воображения ни один период не имеет такой важности, как период юности. В юности отдельные, более или менее обширные, вереницы представлений сплетаются в одну сеть. В это время именно идет самая сильная переделка этих верениц, которых уже накопилось столько, что душа, так сказать, занята ими.
Мы считаем период в жизни человеческой от 16 до 22–23 лет самым решительным. Здесь именно довершается период образования отдельных верениц представлений, и если не все они, то значительная часть их группируются в одну сеть, достаточно обширную, чтобы дать решительный перевес тому или другому направлению в образе мыслей человека и его характере.
Если какая-нибудь возвышенная идея или какая-нибудь благородная страсть руководили в это время окончательною формировкою материала в воображении, то многое еще может быть исправлено: многие ложные или грязные ассоциации детства и отрочества будут отброшены, из многих, безразличных в нравственном отношении, выплетется что-нибудь высокое, и, в конце концов, умное и благородное стремление возьмет верх. Впоследствии уже такая постройка всего содержания души гораздо затруднительнее, если и возможна. В огне, оживляющем юность, отливается характер человека. Вот почему не следует ни тушить этого огня, ни бояться его, ни смотреть на него как на нечто опасное для общества, ни стеснять его свободного горения, а только заботиться о том, чтобы материал, который в это время вливается в душу юноши, был хорошего качества.
О детской впечатлительности
Кто наблюдал над детьми и особенно учил их по наглядной методе, тот, без сомнения, заметил разную степень впечатлительности в разных детях. Одно дитя или вообще заметно впечатлительнее другого, или выказывает заметно большую впечатлительность в сфере впечатлений одного органа чувств сравнительно с другим. Здесь, конечно, не все принадлежит врожденной особенности, и многое условливается прежними душевными работами дитяти; но есть, кажется, и какая-то природная грань, которой уже перейти нельзя и которой нельзя и объяснить психически. Сильная и тонкая впечатлительность, общая или частная, конечно, есть важное условие быстрого и успешного психического развития. Впечатления доставляют весь материал для психической работы, а потому понятно, что чем больше будет этого материала, чем тоньше и вернее будет он схвачен уже самым органом чувств, тем более условий для обширных и успешных психических работ.
Однако же обширная и тонкая впечатлительность сама по себе, не поддерживаемая другими благоприятными условиями нервной системы, не есть еще ручательство за успешное психическое развитие дитяти. Если быстро усваиваемые впечатления быстро же и сменяются другими, не оставляя по себе прочных следов, то это может даже помешать душевному развитию.
Часто приходится желать, чтобы дитя было менее впечатлительно и чтобы меньшая впечатлительность дала ему возможность более сосредоточиваться во внутренней душевной работе, в комбинации усваиваемых впечатлений в точные представления и представлений в верные понятия: словом, дала душе возможность перерабатывать тот материал, которым она загромождается, не имея ни силы, ни времени справиться с ним как следует. Слишком впечатлительное дитя часто развивается медленно именно по причине этой слишком большой впечатлительности. Для такого дитяти нужно сравнительно более времени, чтобы душа его завязала довольно сильные внутренние работы, с которыми она могла бы уже идти навстречу новым впечатлениям, не поддаваясь им безразлично, не увлекаясь ими от одной работы к другой, но выбирая в их бесконечном разнообразии те, которые ей нужны для ее уже самостоятельного дела.
Часто говорят, что дитя вообще впечатлительнее взрослого; но это слишком поверхностная заметка. Дитя больше подчиняется внешним впечатлениям, чем взрослый, – это верно; но подчиняется оно им потому, что в нем слишком мало душевного содержания, так что всякое новое впечатление, сколько-нибудь сильное, перетягивает его всего. Напротив, мы замечаем, что, работая настойчиво в известном направлении, мы можем даже заметно расширить нашу впечатлительность, хотя, конечно, не можем перейти какого-то прирожденного предела. Сильная прирожденная впечатлительность, не находящая себе ограничения в других прирожденных свойствах нервной системы, часто долго мешает человеку противопоставить ей силу и обширность внутренней, самостоятельной работы, так что даже и в зрелом возрасте мы нередко можем заметить вредное влияние этого прирожденного свойства, польза которого слишком очевидна, чтобы нужно было о ней распространяться.
Глава 10
Ваш ребенок ворует?
Как бы вы отреагировали, если бы к вам домой позвонили из полиции и сообщили пренеприятную новость: ваш ребенок ворует и пойман с поличным. Наверно, стали бы говорить, что произошла ошибка и такого не может быть, потому что не может быть… Но, увы! Никакой ошибки. Список украденного невелик, но факт есть факт: ворует. Именно в таком ступоре вдруг оказалась вполне уважаемая мать, когда ее восьмилетнюю дочку «взяли» в универсаме за кражу шоколадок, премилого зеркальца и журнала «Лиза». Самое занятное, что девочка при желании могла все украденное купить – денег у нее было вполне достаточно. И мать никак не могла понять, почему ее обеспеченная девочка наведалась в соседний со школой магазин и стащила эти шоколадки, зеркало и журнал. Мать бы еще долго недоумевала, если б на той неделе и в то же отделение полиции не попали еще четверо школьниц, и все тоже из нормальных семей. Тогда-то ей и пришлось узнать еще одну шокирующую новость: этим промышляют все девочки в классе и дажеставят друг дружке баллы за ловкость рук. Игра у них такая: кто больше украдет. Переняли от старших школьниц. Те уже давно этим развлекаются. Но у них планка повыше: воруют только из модных бутиков, и только дорогие вещи. Правда, они баллы себе уже не выставляют, но обновками гордятся. Откуда взялось это поветрие, никто не знает. Девочки… воруют.
В магазинах сначала никто и не думал, что в пропаже товара виноваты дети. Грешили на кого угодно. В первую очередь на бомжей, пока не задумались об ассортименте украденного. Бомжи скорее бы унесли спиртное или еду, а тут сплошные шоколадки, жевательные резинки, игрушки, расчески, зеркала, духи и прочая дребедень. В бутиках на школьниц тоже никто не думал – девчонки как девчонки, щебечут, улыбаются, в примерочную бегают стайкой. А когда первую взяли с поличным, стали попадаться и другие. Сначала их просто отпускали, потом вызвали полицию.
Когда у старших школьниц спросили, зачем они крадут, те признались, что это очень захватывающая и веселая игра, главное, не наделать ошибок и выйти из бутика с лицом победительницы. Младшеклассницы не говорили ничего о лице победительницы, но с таким азартом рассказывали, как они боялись, как шмыгали мимо кассира, как с подгибающимися коленками выходили на улицу, что было ясно – это предел счастья, увлекательнейшая игра.
А родители не понимали: вроде внушали детям, что вор – существо презренное, что красть нельзя, что все воры рано или поздно попадают втюрьму. И в полиции пребывали в том же состоянии: вроде есть воры, целый класс или больше, а что с ними делать? У них не воровство ради добычи, а воровство ради воровства. Провели разъяснительные беседы и с детьми, и с родителями. Вроде, подействовало. На этих детей. Но оказалось, это поветрие сейчас распространенное и вспыхивает в школах как грипп.
Как же так? Хорошие девочки, воспитанные девочки, не хулиганки, не прогульщицы, с прекрасной успеваемостью и – воровки? А что вы скажете о ребенке, вроде бы ничем не обиженном, который аккуратно изымает деньги из вашего кошелька? Или о ребенке, который приносит из школы «найденный» пенал, ручку, игрушку? Что делать родителям? Как с этим бороться?
О желаниях, хотениях и воспитании нравственности
В младенчестве, как мы заметили выше, желать и хотеть значит одно и то же. Но чем старше становится человек, тем дальше у него решение от желания. Это явление, как мы уже имели случай заметить, объясняется малочисленностью, разорванностью и малосложностью тех сочетаний, которые существуют в душе дитяти, в сравнении с многочисленными связными и обширными сетями сочетаний, наполняющими душу взрослого. Желание, зародившееся в душе младенца, не находя в ней сопротивления в других представлениях и связанных с ними желаниях, мгновенно овладевает всею душою и потому непосредственно превращается в акт воли…
Поясним это примерами.
Дитя хочет поднять слишком тяжелую вещь и немедленно же делает усилие. Но вещь не поддается этим усилиям. Вследствие многих таких неудачных попыток с представлением о вещи связывается уже другое представление – представление о ее тяжести. Тогда только в душе дитяти желание отделяется от решения. Дитя все же будет желать поднять вещь; но уже не может захотеть этого, не может решиться поднять ее, потому что противоборствующее представление о тяжести вещи не позволит желанию перейти в попытку исполнения.
Чем далее живет дитя, тем более накопляется в душе его представлений, проникнутых чувствованиями; чем сложнее становятся сочетания этих чувственных представлений, тем труднее родившемуся желанию пробиться сквозь все эти чувственные сочетания, одолеть одни, обойти другие и, овладев всею душою, превратиться в решение, за которым как неминуемое последствие следует акт воли, т. е. попытка выполнения.
Представим еще другой пример, более сложный, Мальчик хочет взять вещь, которая ему нравится, т. е. которая обещает удовлетворение тому или другому его стремлению. Но уже желанию этому трудно пробиться сквозь целую массу накопившихся в душе представлений.
Положим, что вещь, которую дитя хочет взять, составляет чужую собственность. С представлением о вещи возникает и представление чужой собственности. Это представление чрезвычайно сложно: это уже целая громадная ассоциация представлений, и притом такая, которая в каждой душе имеет свою особую историю. Один познакомился с понятием о собственности, испытав на самом себе горькое чувство, когда у него отняли вещь, доставлявшую ему удовольствие; другой познакомился с понятием о собственности потому, что его наказали, когда он тронул чужую вещь; третьему внушили представление о собственности взрослые, говоря: «это твое, а это не твое»; «чужое трогать стыдно» и т. п. У каждого, кроме того, в представление о чужой собственности вплелись следы множества разнообразнейших опытов. Одному удавалось часто пользоваться чужою собственностью; другого всякий раз находили и наказывали; третьему только грозили, но не наказывали; четвертого бранили, но не отымали даже вещи; пятого даже защищали, хотя он брал чужую вещь; шестого даже хвалили за ловкость и смелость и т. д. Все эти опыты, перемешиваясь между собою, оставляли свои следы в душе человека, а из всех этих следов выткалась чрезвычайно сложная сеть чувственных сочетаний, которую мы называем понятием о чужой собственности.
Возродившееся желание захватить чужую вещь пробегает или по всей этой сети представлений, или только по одной части ее, так как другие следы слишком слабы и не возникли вовремя в сознании. Удается желанию победить эту сеть представлений – и чужая вещь взята; не удается – и желание осталось желанием, не перейдя в решение. Однако же желание, побежденное таким образом, не всегда побеждено окончательно. Положим, что чужая вещь имеет много привлекательного для дитяти, и вот дитя, отказавшись взять ее, продолжает о ней думать: ставит себя в разные отношения к привлекающей его вещи, изменяет ее в своем воображении так или иначе, представляет возможность взять ее украдкою и т. д. – словом, выплетает уже обширную ассоциацию представлений, связанных одним желанием – желанием чужой вещи. Но эта обширность ассоциации сама по себе не решит еще поступка, как то полагает Гербарт: она только установит постоянство желания, но не его напряженность, которая условливается уже самою напряженностью стремления, давшего начало желанию.
Напряженность же стремления опять зависит от разных причин: или стремление сильно само по себе, как, например, у лакомки, который давно не лакомился, или оно сильно потому, что другие слабы, потому что у мальчика, например, нет деятельности и что в душе его нет других, более сильных интересов, которые могли бы увлечь к себе его душу. В этом последнем случае данное стремление усиливается всею силою неудовлетворенного стремления к деятельности.
Вот почему праздность детей бывает причиною множества безнравственных поступков. Если в каком-нибудь заведении дети страдают от скуки, то надобно непременно ожидать, что появятся и воришки, и лгуны, и испорченные сластолюбцы, и злые шалуны.
Глава 11
Бить или не бить – вот в чем вопрос…
Дитя есть творение Божье, и большего нам знать не дано – так писалось в старинных книжках, когда о психологии и физиологии имелось странное представление. К детям в том мире отношение было двоякое. С одной стороны, благодаря христианству, считалось, что они безгрешны и внидут в Царствие Небесное, если, конечно, умрут во младенчестве. С другой стороны – дети были совершенно бесправны и вообще за людей не считались. Так что воспитывать ребенка прежде всего означало хорошо и часто его бить, поскольку наука входит в детский организм только вместе с розгой. Розга была самым действенным и единственным признанным средством воспитания до середины позапрошлого века.
Сегодня мы, конечно, в ужасе отшатываемся от людей, научающих детей таким способом. В западных странах за битье ребенка можно надолго угодить за решетку. У нас это тоже не приветствуется и тоже наказуемо, но за шлепок по мягкому месту тюрьма нашим соотечественникам не светит. А в соседней Финляндии за подобную взрослуюшалость суд может отнять у родителя право воспитывать своего отпрыска.
Бить ребенка и даже сильно шлепать – это дело бессмысленное. Бить ребенка так же продуктивно, как пихать наблудившую кошку носом в сделанную ею лужу. Как говорят психологи, такой метод воспитания может только внушить к воспитателю страх и ненависть, то есть ничего хорошего не получится. Но если знать, как ребенок устроен, то есть понять его физиологию и психологию, то можно научиться им управлять, то есть направлять его желания и интересы туда, куда родителю нужно.
Ведь чаще всего мы, взрослые, раздражаемся, когда ребенок не делает то, что он, по нашему мнению, должен делать. Мы говорим «иди спать», а он не идет и начинает капризничать, мы говорим «выучи это стихотворение», а он никак не может выучить, мы говорим «посиди спокойно», а он не может усидеть на одном месте… Вот была бы волшебная кнопочка у этого механизма под названием ребенок, думаем мы, и как бы наша жизнь стала удобной и спокойной. Захотели – включили, захотели – выключили. Но ребенок не пылесос, никакой кнопочки у него нет. И сердимся мы потому, что никак не удосужимся прочесть инструкцию по эксплуатации живого существа, которое сами произвели на свет. А прочли бы – и многих проблем и огорчений удалось бы избежать. Сразу стало бы ясно, что ребенок не вредничает, когда не может заснуть или что-то запомнить или усидеть на месте, и, наказывая его, мы только зря заставляем его страдать. Вот почему очень полезно иногда непросто читать советы, что делать, а еще хоть немного пытаться разобраться в физиологических и психологических причинах, которые вызывают такие «сбои» в детском поведении.
Если ребенок ведет себя не так, как вам хочется, то он либо не может вести себя «правильно», потому что не может это сделать, либо не понимает, почему он должен вести себя «правильно для вас», когда ему самому хочется чего-то совсем другого. Поймете, почему он так поступает, – найдете контакт, не поймете – так и будете зря сердиться, кричать и портить себе нервы.
Во времена Ушинского рецепт был один – сечь, и больно. Ушинскому такая постановка вопроса не нравилась, против поголовного битья он возражал, но не согласился бы, наверно, и с защитниками прав детей нашего времени, которые битьем считают даже легкий шлепок по мягкому месту. Издевательства над детьми должны быть запрещены, но некоторых детей приходится наставлять на путь истинный и телесными наказаниями. Но, как он говорил, это можно делать только в крайних случаях, и только без всяких эмоций. Примерно так мы воспитывали кошку: как только она садилась делать лужу, мы стреляли в нее из водяного пистолета, пока у нее не образовался рефлекс – сядешь в неположенном месте, будешь вся мокрая, что очень неприятно. Вот Ушинский и предлагал наказывать «трудновоспитуемых» до образования условного рефлекса. Но прежде он советовал использовать все другие, более гуманные, методы воспитания. И мечтал о светлом будущем, когда розга будет полностью изъята из воспитательного процесса.
О внушении страха как воспитательном приеме
Бэн думает, что предметы, внушавшие нам страх, сильно врезываются в нашу память, но мы знаем, что это свойство всех аффективных образов, каким бы сердечным чувством они ни были проникнуты. Если же в Англии, точно так же, как и у нас, мальчиков секли на меже с тою целью, чтобы они тверже запоминали границы полей, то это, без сомнения, потому, что вообще легче и менее убыточно поколотить дитя, чем его обрадовать.
При этом следует еще не упускать из виду, что если сам пугающий образ, как, например, вид межи, на которой ожидает мальчика наказание, укореняется в памяти, то из этого никак нельзя выводить, что учитель, например, может криками и угрозами заставить ребенка твердо запомнить объясняемый урок. Дитя твердо запомнит только гневное лицо учителя, его пугающие жесты и слова, но не содержание урока, которое, напротив, побледнеет при соседстве с такими яркими образами.
Для того чтобы какой-нибудь образ глубоко залег в памяти, надобно, чтобы чувство возбуждалось самим этим образом, или, по крайней мере, чтобы запоминаемый образ находился в тесной связи с тем, который проникнут чувством, и притом все равно, какого бы рода это чувство ни было: страх, любовь, гнев, стыд или удивление. Но какая же связь гневного лица учителя с латинскими вокабулами или укоризн и угроз, расточаемых законоучителем по тому поводу, что мальчик не заучил Нагорной проповеди, – с самым смыслом этой проповеди? Если и есть связь, то разве связь противоположности, но надобно, чтобы дитя обратило внимание на эту противоположность, а едва ли это придется учителю по вкусу.
Приписывать же страху, как это делает Бэн, какое бы то ни было, хотя и не всегда успешное, влияние на возбуждение памяти есть большая ошибка. Напротив, в страхе мы забываем даже и то, что хорошо помнили, и слова науки, сопровождаемые угрозами, менее всего способны улечься в памяти.
Если же иной учитель заставляет детей строгостью выучивать уроки, то это уже не действие страха, а действие реакции, им вызываемой: действие напряжения воли, порывающейся освободиться от мучений страха. Вот почему грозный учитель различно действует на детей одного и того же класса, и если одни из них действительно начинают учиться лучше, то зато другие, слабые и нервные, совершенно перестают учиться. Уча урок, они не могут сосредоточить свое внимание на том, что учат: перед их глазами упрямо стоит грозный образ учителя и сулимые им наказания.
Сам по себе страх, независимо от реактивных попыток отделаться от него, положительно подавляет силу души, это поразительно заметно на детях, воспитателем которых был только один постоянный страх.
Педагогическое действие страха очень сомнительно: если и можно им пользоваться, то очень осторожно, всегда имея в виду, что смелость есть жизненная энергия души.
Дитя родится с безграничною смелостью, и мы ясно замечаем, что чем менее дитя запугано, тем оно смелее, так что смелость выражается в каждой черте его лица и в каждом его движении. При этом еще следует иметь в виду, в каком состоянии находятся нервы ребенка, а также и то, каковы люди, его окружающие, ибо страх, как и всякое другое сердечное чувство, заразителен, передаваясь от человека к человеку посредством телесного воплощения и нервного сочувствия.
Воспитатель должен беречь эту прирожденную смелость, но не оставлять ее в первобытном виде, в котором она столько же может наделать вреда, сколько и пользы. Он должен ставить ребенка в такие положения, чтобы он преодолевал свой страх, и уберегать от таких, в которых ребенок подчинялся бы всесильному страху, – словом, воспитатель должен беречь драгоценное чувство смелости, но вместе с тем опытами преодоления страха переделывать неразумную смелость в разумное мужество.
О жестоком обращении с детьми
Воспитатель должен пользоваться всяким случаем, чтобы через посредство учения закинуть в душу дитяти какое-нибудь доброе семя и связывать хорошее чувство со всяким представлением, с которым оно только может быть связано. Такие случаи беспрестанно представляются почти во всех науках; но часто бывает, что преподаватель не только не пользуется этим случаем, но, наоборот, сам портит то доброе или эстетическое чувство, которое представляет ему предмет.
Так, например, нет никакой возможности, чтобы эстетическое или нравственное какое-нибудь стихотворение запало в душу ребенка, если изучение его обошлось ему дорого и сопровождалось, может быть, упреками и наказаниями. Какое чувство останется в душе дитяти от иной высоконравственной страницы Библии, когда изучение этой страницы сопровождалось жестокими словами учителя или даже наказаниями.
Нам часто случалось видеть, как дитя, захлебываясь от слез, отвечает наставнику какую-нибудь вдохновенную молитву, и, конечно, эти слезы были внушены не вдохновением. Грозное, суровое, схоластическое преподавание Закона Божия, зависящее, конечно, от того, что и сам преподаватель его так же учился, оставило печальные следы не в одной детской душе.
Очень может быть, что то непонятное ожесточение против религии, которое, к сожалению, так часто теперь встречается, имеет своим психическим источником именно эту ассоциацию тяжелых чувств с религиозными представлениями, усвоение которых сопровождалось этими чувствами.
Многие упорные наклонности, сильные страсти и предубеждения слагаются у нас в душе именно из этих чуть-чуть заметных черточек, которые, ложась одна на другую, проводят неизгладимую борозду в характере, имеющую потом сильное влияние на формирование наших убеждений.
Кроме тех чувств, которые возбуждаются в душе ребенка преднамеренно воспитателями, гораздо более, и притом чувств гораздо сильнейших, возбуждается в душе детей или самими же воспитателями, но не преднамеренно, или средою, окружающей дитя. И всякое из этих чувств оставляет свой след в душе, и всякий из этих следов сливается или комбинируется с такими же или подобными следами; и из всей этой сети следов вырастают нравственные или безнравственные наклонности и характер человека. Неужели воспитание, видя громадность своей задачи, должно отказаться от стремления сколько возможно завладеть этими влияниями, создающими действительного, а не учебного человека, и по крайней мере бороться с дурными, если не может создать хороших. Все, что может быть сделано в этом отношении, должно быть сделано: так, например, каждая школа должна хорошо знать среду, к которой принадлежат дети, воспитываемые в ней, и должна, сколько можно, бороться с вредными влияниями этой среды, давая полный простор влияниям хорошим.
О вреде телесных наказаний
Много было говорено и писано о телесных наказаниях за и против, но мы думаем, что этот вопрос может быть решаем только относительно того положения, в котором находится народное воспитание вообще или та или другая школа. Чем более является развитой, обдуманной и глубокой система народного воспитания, чем лучше и правильнее устроена школа, чем более правильные воспитательные понятия распространены в народе, тем менее будет являться случаев, требующих приложения этой грубой меры. По нашему мнению, телесное наказание может быть употребляемо только для искоренения уже образовавшихся в ребенке дурных привычек вследствие пренебрежения его воспитанием или дурного направления этого воспитания.
Телесное наказание прилагается в этом случае или по крайней мере должно прилагаться не как наказание за проступок, но как вспомогательное средство для слабой воли ребенка, не имеющей силы справиться с укоренившимся пороком. Убеждение вообще действует на ребенка слабо и укореняется в нем только с летами. Кроме того, мы видим, что и во взрослых людях, которых ум занял уже свое царственное место, от убеждения в пользе какого-нибудь правила жизни до выполнения его – целая бездна, наполняемая только силой привычки.
Страх вообще дурное чувство, а страх телесного наказания хуже всякого другого страха: он ставит человека наравне с животным. Но если воспитатель в своей деятельности встретит в укоренившейся дурной наклонности ребенка неподдающееся другим средствам препятствие дальнейшего нравственного и умственного развития, то вся грубость телесного наказания не должна останавливать его. Низкий и вредный страх, сопровождающий это средство, пройдет мало-помалу вместе с исправлением и возрастом ребенка: это один из тех ядов, действие которого уничтожается вместе с болезнью, но для удаления которого нужно время и особенно бдительный уход за больным.
Некоторые педагоги допускают телесное наказание только как средство против злости; другие – как средство против лжи; третьи совершенно не признают его как средство против лени и т. п. Мы не понимаем такого ограничения. Напротив, страх телесного наказания не сделает злого сердца добрым, а смешение страха со злостью – самое отвратительное явление в человеческой природе. Употребляя наказание как средство к искоренению привычки лгать, можно иногда достигнуть цели, но можно сделать и большой вред: ребенок или не станет поддаваться удовольствию солгать и мало-помалу кинет дурную привычку или станет лгать все искуснее и искуснее и может достичь в этом такого совершенства, что станет обманывать не только своего воспитателя, но даже самого себя, и вся жизнь его может сделаться одной громадной ложью.
Что касается лени, то, конечно, нетрудно прекратить ее в зародыше и очень простым средством: заставить ребенка заниматься при себе. Но что вы будете делать с закоренелым ленивцем, для которого легче вытерпеть стыд, выслушать выговор, остаться в том же классе, чем преодолеть вкоренившуюся страсть? Не погубите ли вы его, оставив без наказания? Дожидаться, пока он образумится? Но лень укореняется с каждым днем, а между тем годы уйдут, и вместе с ними уйдет и возможность воспитания и учения!
Рассмотрите психологическую основу лености: это не более как привычка быть невнимательным или непривычка управлять своим вниманием, и ребенок предается с наслаждением этому мысленному кайфу.
Лень – порок не одних детей: взрослые люди и целые нации платят ему обильную дань. Чтобы полюбить умственную работу, надобно мало-помалу, незаметно, привыкнуть к ней. Развитие этой привычки в ребенке совершенно зависит от воспитания и составляет основную и труднейшую его задачу: вот почему степень внимания учеников служит, по нашему мнению, лучшим термометром достоинства воспитателя и преподавателя, годности методы преподавания и правильности устройства учебного или воспитательного заведения. Но если воспитание виновато в привычке к невниманию, а вместе с тем и к лени, то, спрашивается, как же наказывать воспитанника за ошибки воспитания? Увы!
По большей части, дети наказываются за то, за что следовало бы наказать их родителей и воспитателей; но педагогические наказания – не наказания в собственном смысле этого слова. Это не более как вспомогательные средства, без которых иногда не может обойтись воспитатель при достижении своей цели. Телесные наказания за невнимание могут быть прилагаемы только тогда, когда все другие средства к возбуждению внимания оказались напрасными и невнимание, делаясь упорным, начинает переходить в лень. Наказание здесь полагается как прямое противодействие тому наслаждению, которое испытывает воспитанник, подчиняясь лени.
Вообще, можно сказать о телесных наказаниях, что они должны исчезнуть при усовершенствовании воспитания домашнего и общественного; но до тех пор всегда будут встречаться случаи, произведенные, по большей части, несовершенством самого воспитания, в которых оказывается необходимость прибегать к телесным наказаниям. Распространение здравых педагогических понятий между родителями, обдуманное устройство учебных и воспитательных заведений, улучшения в методах преподавания и образование опытных, владеющих собой педагогов – единственные средства для постепенного изгнания телесных наказаний.
О результатах безжалостного битья
Если бы этот идеал (безжалостного битья) действительно воплотился в какой-нибудь школе или в какой-нибудь системе школ, то, как нам кажется, школы эти должны были бы давать характеры трех категорий.
К первой и самой многочисленной категории принадлежали бы люди забитые, которым школа не успела еще окончательно сломать ребра, предоставив жизни докончить это занимательное дело; это были бы люди тихие, безответные, нагибающие шею перед каждым кулаком.
Ко второй категории принадлежало бы уже меньшинство: такие характеры, у которых от природы было бы достаточно ума и ловкости, чтобы даже и в этой жизни избежать колотушек, подставить где следует вместо своих боков бока товарища, подкрепить свои силы на чужой счет и т. д. Такие люди пройдут даже и сквозь те медные трубы… Убеждение у них будет одно – своя собственная польза, но зато убеждение это засядет у них крепко, и они уже не упустят ничего, из чего могут выжать какую-либо выгоду. Такие люди сумеют всегда примениться к обстоятельствам и проложить себе дорожку в какой угодно трущобе. Люди эти могут быть полезны и вредны, смотря по тому, будет ли их выгода и общей выгодой или нет.
К третьей категории, еще меньшей по числу, будут принадлежать люди, которых подмечают уже в школе и зовут «рышаками». Этих «рышаков» не разможжишь никакими истязаниями: они будут терпеть и проклинать, проклинать и терпеть, умирать от разбитых ребер и втиснутой груди и проклинать; будут проклинать, не разбирая, и хорошее, и дурное – все, чем было окружено их детство и юношество, и не найдут в себе достаточно силы, чтобы различить дурное от хорошего или по крайней мере отворотиться от своего прошедшего и весело взглянуть на будущее. Во всех их взглядах отразится горькое сознание их несчастного воспитания; и взгляды эти будут безумны именно потому, что они – плоды душевной горечи, а не плоды ясного душевного сознания. Они будут отрицать все, чем полно их прошедшее, не отличая вещи от ее злоупотребления, не отличая идеи от ее профанации. Никакими человеческими силами их не отворотить от прошедшего, и они будут озираться и лаять на него, пока не надорвут груди, как лает бедный, ошпаренный кухаркой пес, озираясь на дверь кухни, из-за которой его выпроводили пинками.
Но читателю, может быть, покажется, что из такой школы, к счастью покуда идеальной, могут еще, кроме того, выходить люди, которые умны, но недостаточно умны, чтобы предвидеть даже близкое будущее; которые осторожны, но недостаточно осторожны, чтобы не высказать иногда своих затаенных чувств и мыслей. Такие люди нередко будут переходить из второй категории в третью (конечно, если этого потребует их выгода) и из третьей во вторую – и через это будут непременно попадать впросак.
Глава 12
Откуда берутся подкаблучники, куркули, пофигисты
«И в кого он такой?» – с содроганием говорит мать о своем подросшем сыне. И правда: папа вполне уважаемый человек, умный, веселый, общительный. Мама – слегка сентиментальная, артистичная, самолюбивая, но на роль железной леди домашнего очага не тянет. А сынок – вялое и слабовольное существо, всем стремится угодить, всех боится обидеть, выглядит в этой современной семье как будто вылез из позапрошлого века. Сидит за книжками, правда не бумажными, а электронными, читает запоем… про жизнь ракообразных, победитель нескольких олимпиад. Мать на этих ракообразных несчастный характер сынка и списывает. И себя винит: угораздило ее отвести ребенка в нежном еще возрасте в зоологический кружок, с тех пор, кроме беспозвоночных, он ни о чем говорить не может. У него даже в школе специфическое прозвище – Осьминог. Правда, мама не в курсе, что прозвище ему дали на уроке физкультуры, когда он, как оседлал козла, так на нем и застрял. И давно, до увлечения ракообразными. Но, действительно, откуда в такой семье такой ребенок? Не шпыняли, не принуждали ни к чему, давали полную свободу выбора! И – вот…
Не стоит делать поспешных выводов, что виноваты все же родители. Семья тут ни при чем. Но два года этот почти взрослый мальчик провел в интернате, так уж получилось. И его очень полюбила и взяла под свое крыло классная руководительница… Лучше бы она его так не опекала и не любила. Бывает, знаете ли, и такое…
А вот с другим школьником все очень просто. Достаточно посмотреть на папу и на сына. И хоть они давно вместе не живут, после развода с мамой у него давно другая семья, но первых пяти лет для создания собственной копии папе хватило. Школьник страдает себялюбием и жадностью. Он обожает подарки и не любит дарить, он предпочитает деньги не тратить, а копить на «солидные вещи» – именно так он и говорит, хотя ему всего двенадцать. У него дома имеется даже собственный «сейф» и ключ от «сейфа» – здоровенная металлическая коробища с замком. Там он хранит свои «ценности». Это и в самом деле ценности – деньги, найденные где-то два золотых колечка, золотой крестик, бабушкин медальон (серебряный) и прочие вещи в том же роде. Никаких рогаток, стеклянных шариков и прочих глупых предметов. Только истинные ценные вещи. Мама с печалью наблюдает, как сынок превращается в копию человека, с которым она именно из-за этих черт характера и развелась.
А вот еще семейка. Папа с мамой тяжело переживают малейшие неудачи, очень пекутся о благесемьи, стараются сделать для своего чада все, что в их силах, чтобы ни в чем не ощущал недостатка. А сын растет полным пофигистом. С той же регулярностью, как они дарят ему новые вещи, он их обменивает, теряет, ломает, дарит, забывает в электричке и совершенно равнодушен к тому, во что одет или что есть на обед. Так же равнодушен и ко всем школьным проблемам. Хорошая оценка – хорошо, плохая оценка – все равно. На вопрос, как же ты мог получить эту пару, отвечает – ерунда, что о ней рассуждать. Когда в целях воспитания его перевели на полуголодный рацион, он и этого даже не заметил, так что потом уже и не переводили. Откуда что взялось? Родители кивают на приятелей – точно такие же. А я бы кивнула на родителей: когда тебя так опекают и так проверяют, что нельзя сделать собственного движения, то поневоле станешь либо домашним мальчиком, маменькиным сынком, либо просто перестанешь обращать на родительскую заботу внимание. Заботьтесь, я не запрещаю, но мне это не нужно, я сам по себе, но на все, что может случиться, – мне глубоко наплевать.
Так что вольно или невольно мы сами растим из своих детей тех, кого не хотим.
О зарождении особенностей характера
Нет сомнения, что человек не родится ни скупым, ни щедрым; но, смотря по тому, в чем найдет он больше удовольствия и пищи для своей сознательной деятельности: в сбережении ли денег или в трате их, – может образоваться в нем та или другая наклонность. Деньги только символ или орудие наслаждения. Рубль, оставаясь в нашем кармане, представляет собою множество разнообразнейших наслаждений: тот же самый рубль, истраченный нами, дает нам одно наслаждение, очень небольшое и часто очень скоро забываемое.
Если мальчику, например, случилось истратить свой первый грош, над которым он много мечтал, на такое удовольствие, которое быстро исчезло без следа, и если дитя вспомнит то счастливое состояние своей души, которое он испытывал, обладая грошом, то душу его может наполнить сожаление об истраченных деньгах. Сожаление же это, повторяясь часто, может положить в душе первые основы скупости.
Если же мальчик на свои первые деньги купил прочную и занимательную вещь, которая дает ему много наслаждений, так что он позабудет о счастливых минутах, когда он еще был обладателем своих денег, то направление его наклонностей может быть другое. Когда же та или другая наклонность образуется, наконец, в человеке, тогда и душа его станет своим особенным, ей только свойственным чувством отвечать на представления.
Теперь для нас будет понятно то явление, что если мы будем кормить дитя роскошнейшими блюдами (если бы это было нужно), но все одними и теми же, то мы не разовьем в нем такой страсти ко вкусовым ощущениям, как тогда, если будем кормить его гораздо менее изысканным, но разнообразным столом, или, кормя его грубым столом, будем при этом часто лакомить его разнообразными лакомствами.
С другой стороны, если мы будем вызывать в ребенке одни и те же чувствования одними и теми же представлениями, то мы мало-помалу заглушим в нем самое то чувствование, которое, быть может, хотели упрочить.
Отвращение к предмету часто появляется тогда, когда он, удовлетворив нашему стремлению, не перестает еще входить в область наших ощущений и, так сказать, насильно удовлетворяет стремлению, которого уже нет. Так, мы можем получить положительное отвращение к такому блюду, которого наелись до тошноты, и замечательно, что это отвращение остается, когда тошнота проходит, так что мы не можем есть этого блюда даже во время сильного аппетита.
Это относится далеко не к одним вкусовым ощущениям, и, если, например, мы станем насильно занимать ребенка тем, что даже ему понравилось сначала, то можем возбудить в нем отвращение к предмету. Этого не понимают многие педагоги, которые, чувствуя сильную любовь к какому-нибудь предмету, толкуют о нем детям до пресыщения. Такие педагоги не соразмеряют обширности, разнообразия и сложности тех комбинаций, которые данный предмет оставил в их душе, с теми сравнительно бедными следами, которые оставил он в душе ребенка, или, другими словами, не соразмеряют своего обширного интереса к предмету с малым интересом, возбужденным в ребенке тем же предметом.
Все наши желания, наклонности и страсти, как бы сложны они ни были и как бы искусственны ни казались, имеют в своем основании врожденное стремление. Но так как всякое желание образуется из стремлений посредством жизненного опыта, а опыты эти бесконечно разнообразны, то из одного и того же врожденного стремления может образоваться множество разнообразных желаний, наклонностей и страстей.