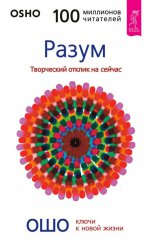Чужие дочери Азарина Лидия
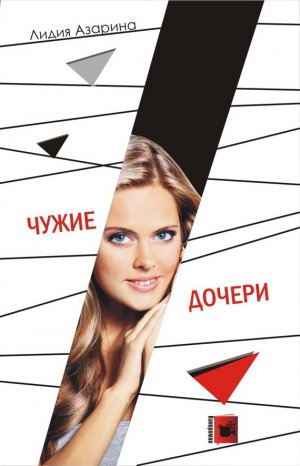
— Перестань, отец! Ничего такого она не планировала! Она не такая, — не сдержался Игорь.
— Так, прекращаем бесполезные вопли. Виктор, отправляйся на свой теннис. Если в таком настроении не продержишься с Тайковым 10 сетов — можешь домой не возвращаться. Иди, сынок, скажи Виктору, пусть едет с отцом, но нам приготовит вторую машину, нам с тобой надо в город. Я сейчас.
Игорь вышел.
— И как я? Справился, уважаемая публика? — театрально поклонился Виктор Петрович.
— Витя! — поцеловала его жена. — У меня в душе бурные аплодисменты, переходящие в длительные овации. Не тем ты занялся 30 лет назад. Жаль, что я это поняла так поздно… Продолжаем. Дозированная критика и работа на контрасте «плохой-хороший». Ну, все, ракетку не забудь…
За рулем Анна Викторовна сочувственно говорила сыну:
— Мы должны ей помочь. В конце концов, это мать твоих детей. К сожалению, отец прав в том, что в Гарвард ей рано, даже вне зависимости от ее положения. Как у нее с языком?
— Нормально. Экзамен сдала на 5.
— В Саратовском институте?! То есть ее вариант — «читаю со словарем». Ты когда-нибудь слышал ее разговорный, общался?
— Нет, слышал, как читает. Произношение урюпинское.
— Ясно, нужны два репетитора.
— Почему два?
— Разговорный английский и профессиональный плюс деловой. Плюс имиджмейкер, плюс стилист, плюс косметолог, плюс массажист, плюс тренер. Сколько всего?
— Семь.
— Да одеть-обуть, да няня, да кормилица, да ползунки-памперсы. Пятнадцать тысяч в месяц минимум, шестьдесят за четыре. И плакала моя соболья шуба. Твой Гарвард обойдется много дешевле, там за целый год всего пятьдесят.
— Мама! Прости меня.
— За что? Поторопились вы, ну, да что теперь говорить. Как теперь выражаются, прорвемся. Главное, чтобы она сама понимала, зачем все это, и старалась. Беременность, тяжело, я понимаю, но она должна зубы стиснуть и работать над собой, работать… Конечно, двоих вас в Гарварде учить будет трудно, все-таки сто тысяч плюс на жизнь. Но другого выхода нет. Сейчас, сын, надо срочно купить ей нормальное белье для беременных, бандаж, чтобы легче было спине, несколько натуральных платьев и пару сарафанов. Да, и напомни про обувь. Как же ты допустил, что она в синтетике в такую жару ходит? Здоровая женщина потом изойдет, не то, что беременная. И контролируй питание. Нельзя же столько есть, она не разродится!
Вечером Мила не уехала. Отдохнувшая, посвежевшая, в легчайшем батистовом сарафане, сидя на скамейке в саду, она внимательно слушала Игоря о планах Анны Викторовны и чувствовала, как благодарность к этой женщине, которая будет ей второй матерью, переполняет ее.
Через 2 дня Игорь улетел в Саратов досрочно сдавать экзамены и оформлять документы. 15 июня он должен был вылететь в Массачусетс. Консультировавшие Милу по просьбе Анны Викторовны специалисты однозначно не рекомендовали смену часовых поясов, длинные переезды и перелеты до родов. Без штампа о браке Мила могла бы претендовать на бесплатное обучение в Гарварде и даже финансовую помощь как сирота, поэтому регистрацию брака отложили.
Решили, что Мила спокойно сдаст сессию в Саратове, оформит заявку в Гарвард, заберет документы из института и переедет в Москву к Гладышевым. Роды ожидались в середине июля. По приезде она начнет усердно работать над собой, а осенью, когда дети окрепнут и будет известен результат ее заявки, полетит к Игорю. До отлета она даже будет получать пособие на себя и детей как мать-одиночка по месту регистрации у Гладышевых. Квартиру в Балашове решили не продавать, а сдавать, как раньше, в аренду.
Было немножко неудобно перед сокурсниками, которых широко оповестили о свадьбе, но перед кем и почему они с Игорем должны были оправдываться? Они строили свое будущее.
Мила считала дни до отъезда Игоря. Все складывалось так, как она и мечтать не могла. Впереди были Америка, лучшее в мире образование и Игорь. Конечно, будет много сложностей. Главное, чтобы дети были здоровы. У нее почему-то не было сомнений, что ее заявка пройдет.
Но почему же было так тяжело? Может быть, потому, что Петр Иосифович, которому они по приезде так радостно рассказывали о своих планах, ничего не сказал, только посмотрел на Милу странно, холодно, как на чужую, а на Игоря не взглянул вообще. Или оттого, что Нина Алексеевна, которую она встретила в поликлинике, только кивнула ей и заторопилась к выходу?
Она писала Игорю шпаргалки, кормила его холодником, изо всех сил терпела голод и возмущенные тумаки изнутри, обманывая желудок йогуртами и яблоками, пыталась сидеть над английским, но все время парализующе-больно чувствовала только одно: 20, 19, 18… 15 дней до отъезда. Словно каждый день от сердца отщипывали по кусочку, его оставалось все меньше, а тяжесть становилась все больше.
1 июня Игорь сдал последний экзамен. Он бегал, сдавал учебники в библиотеку, искал замену утерянным, подписывал обходной лист, раздавал диски, оформлял документы — он был уже весь там, нетерпеливый в предвкушении новой жизни в Гарварде. Он пытался растормошить Милу, погулять с ней, но стояла 35-градусная жара, ей было трудно двигаться, и она больше лежала, обложившись конспектами и учебниками. Он много рассказывал о Гарварде, иногда по-английски, но Мила почти не понимала его и тогда начинала плакать. Он готов был уехать сразу, но остался до ее первого экзамена. На 3 дня.
А Мила вдруг осознала, что это последняя возможность съездить к маме на кладбище. Она не сумеет одна до отъезда в Москву, а потом до отъезда в Штаты вряд ли сможет вернуться, даже на день. Да, они были на кладбище в апреле, установили скромный памятник с оградкой, оставили бабе Вере деньги на цветы и велели брать еще из оплаты за сданную квартиру. Но сейчас эта поездка казалась ей такой необходимой и важной. Она сказала об этом Игорю. Он представил себе 3 часа туда и 3 часа назад в вонючей электричке в такую жару, на сквозняках, представил пыльный и грязный Балашов, суетливо-подозрительную бабу Веру с ее липкими чашками и мятным чаем, заросшее, какое-то неопрятное кладбище, плачущую потную на солнцепеке Милу в ее огромном белом сарафане, который непременно испачкается по дороге, и жестко ответил, что это каприз и блажь, опасные для нее и детей.
— У тебя все съедят мыши, — тихо сказала Мила.
— Что ты сказала? — ему показалось, что он ослышался.
— Беременным нельзя отказывать в просьбах, иначе в доме все съедят мыши. Примета такая, — пояснила она. — Уезжай, пожалуйста, сейчас. При тебе мне в голову лезут одни глупости, ты меня отвлекаешь.
Он понимал, что она обиделась, что вовсе не хочет, чтобы он уезжал сейчас, напротив, согласившись уехать, он еще усугубит обиду. Но так захотелось сократить эти 72 тягостных часа, избежать слез, несчастного неотрывного взгляда вслед, что он сказал:
— Ты права, солнышко. Зайду на минутку к деду и еще успею на вечернюю лошадь. Извинись за меня перед ребятами, что не проставил «отвальную». Веди себя хорошо, не балуй без меня наследников! — наклонился, поцеловал выпирающий живот. И уехал.
Петр Иосифович молча стоял на пороге кабинета и смотрел, как с ним прощается его единственный внук, который «заскочил на минутку» перед отъездом навсегда. Он понимал, что видятся они, вероятно, в последний раз, смотрел, как молодой, статный, полный сил и жизни, так похожий на погибшего сына Егора чужой человек никак не может снять с тугого кольца ключ от его квартиры и что-то говорит, говорит… А Рори внимательно слушает на дверце шкафа, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону.
Ничто не отозвалось в сердце. Ключ звякнул о металлический крючок над полкой. Донеслись последние слова: «…мы с ней сразу прилетим. Прощай, дед». Захлопнулась входная дверь. Спохватившийся Рори прокричал вдогонку: «Пр-р-рощай! Кр-р-асавец! Пр-р-ро-щай!» — и после паузы, потише: «Мер-р-р-завец…» Петр Иосифович усмехнулся.
Анна Викторовна ехала на вокзал встречать Милу и думала, что все-таки недооценила девочку. «В такую жару в ее состоянии за неделю-полторы решить все проблемы мало кто сумел бы. Слава богу, Игорь уже улетел. Конечно, держать ее в доме три лишних недели — большая нагрузка для нервов, но выхода нет: надо, чтобы сын был спокоен, успел втянуться, прочувствовал элитарность окружения, оценил атмосферу, ощутил перспективы, не рвался вернуться. Его тщеславие и беспечность, которые всегда так огорчали ее, теперь были во благо. Теперь главное — не допустить ненужных контактов.
А как все хорошо, последовательно складывалось: к приезду Милы в конце июня Виктор улетел бы с Локтионовым в Бахрейн на месяц, она сама — на две недели на Кипр, все три недели до родов Семишникова душила бы девочку занятиями, а перед родами ситуация разрешилась бы по любому из вариантов.
Стоп! Как же она раньше не сообразила! Никакого дома, никакой Семишниковой! Она отвезет девочку на московскую квартиру. Их дубровицкого адреса у нее нет, знакомых в Москве тоже, интернет отключен. Подышать и на балконе можно. Если правильно сориентировать Вельветовну… А через недельку можно и поговорить. Вот уж, действительно, нет худа без добра…»
Начался последний этап.
Мила пыталась собраться с мыслями, сидя на стульчике в самой прохладной комнате квартиры — в ванной. Живот, казалось, отдельно лежал на коленях, как огромный тяжелый мяч. С ее приезда все шло совсем не так, как представлялось еще месяц назад. Все ее усилия, все унижения впустую…
Проснувшись утром, после отъезда Игоря, она вдруг сообразила, что не увидит его до осени, целых 5 месяцев, потому что к ее приезду в Москву он уже будет в своем Массачусетсе. Это осознание наполнило ее таким ужасом и паникой, что она бросилась собирать вещи. Остановила острая пронизывающая боль в животе, пришлось прилечь. Когда через полчаса девочки (а она уже знала об этом после УЗИ в апреле) успокоились, пришло единственно правильное решение: сделать все, что планировалось здесь на этот месяц, быстро, за неделю и тогда можно будет уехать в Москву 10-го июня, тогда она будет с Игорем еще целых пять дней.
Она скандально заставила Колю с его девицей разбирать вещи и учебники, шантажируя декана преждевременными родами, заставила подписать ей ведомости на досрочную сдачу экзаменов и сразу свое заявление и приказ об отчислении, она, спекулируя прежними отличными оценками и своим плохим самочувствием, бесстыдно выклянчила у всех четверых преподавателей-предметников тройки по экзаменам, не сдавая их вообще, а в выходной день, тратя на такси последние деньги, искала и нашла на дачах, на берегу Волги, в пансионате членов экзаменационных комиссий по каждому предмету и, рыдая, выпросила их подписи в ведомостях.
Любимая песцовая шубка — подарок Игоря — была продана по дешевке бывшей лучшей подруге Танечке Шестаковой. Она же должна была запаковать все оставшиеся вещи Милы и отправить их в Подольск ближайшим попутным рейсом с отцом-дальнобойщиком, а Анна Викторовна или сама Мила потом забрали бы их в дом Гладышевых, который был недалеко от Подольска.
10-го в понедельник все было готово. И, главное, обменная карта была на руках. До отхода поезда оставалось еще 3 часа, и Мила, блаженно приподняв на подушку отекшие ноги, рассказывала Татьяне и вездесущей Аллочке Патрусевой о своих планах на будущее и возможностях работы над собой, которые ей уже предоставила будущая свекровь.
Ей не нужно было больше экономить, поэтому билет она купила в купейный вагон.
Сутками раньше самолет Игоря Москва — Бостон по расписанию приземлился в международном аэропорту Логан…
По-прежнему ласковая, но чем-то очень озабоченная, даже расстроенная Анна Викторовна привезла Милу в московскую квартиру Гладышевых и не появлялась. 3-й день с утра до вечера злобная Вельветовна бубнила про наволочь[7], тех, которые разевают рот на чужое богатство, про шлюх, что раздвигают ноги, лишь бы зацепиться в Москве, про гадюк, вползающих в чужие семьи, и при этом так посматривала на Милу, словно говорила о ней. В огромной, богато обставленной квартире было интересно, но душно. Помогать по дому Вельветовна не позволила, даже альбом «Кембридж» на английском, который Мила взяла в книжном шкафу в кабинете, забрала, мол, не было разрешения брать чужие вещи без спроса. Выходить на улицу Мила не решалась, а на балконе было так жарко, что сидеть там можно было только ночью.
Терпеть дольше эту неизвестность она не будет. Оставалось одно: потребовать у старой карги телефон Анны Викторовны.
Девочка надвигалась на нее своим огромным животом и кричала:
— Вы подлая! Подлая! Вы хуже суки! Та своих щенков не бросает! Это же Ваши внучки! Это дочки Игоря! Я ему все расскажу! Сейчас же! Давайте его телефон немедленно! Я сейчас милицию вызову и покажу им этот паспорт! В тюрьму сядете за подделку документов!
На кухне Вельветовна злорадно прислушивалась к крикам Милы («Во режет девка!») и прикидывала, что хозяйка сделает с ней после таких слов.
— Выкричалась? А теперь послушай, — Анна Викторовна мягко толкнула замолкшую Милу в кресло:
— Ты мать и я мать! Ты своих детей защищаешь, а они ведь и не родились еще, а я своего. Это кажется, что если матери, то на равных. Нет, мы на равных будем, когда ты, девочка, своих через 23 года вырастишь. Тебе никто ничего не должен. Почему я должна о тебе и твоих байстрюках заботиться? Потому что ты под Игорем удовольствие получала? Чем ты тогда думала? Головой или другим местом? — спохватилась и продолжила спокойнее: — Ты мне понравилась, я говорю правду. Игоря ты любишь. Но знаешь, сколько в тебя надо вложить, а главное, сколько тебе работать нужно, чтобы ты стала на человека похожа, на женщину, чтоб могла помочь ему, а не виснуть камнем на шее? Ты думаешь, что тебя Игорь и такой любит? Так он вообще таких много любил и любит, пока других не видел. Вельветовна не даст соврать. Когда там последняя была, а, Вельветовна? — крикнула она в кухню.
— В мае, когда на День Победы приезжал. Две сразу были. Одна утром Виктора Петровича рубашку напялила и потом чуть не сперла.
— Это когда он на следующий день нас с тобой познакомил, — напомнила Анна Викторовна, села в кресло рядом и повернулась к Миле: — Нам жена для сына нужна, а не мать его детей. Поняла разницу? Я свое слово держу и что обещала — выполню. Хочешь вперед и вверх, с Игорем вместе — начинай работать. Это очень тяжелая жизнь, малышам в ней места нет. Я, заметь, на аборте не настаивала. Я не убийца. И родителей им подберем самых лучших. У вас дети будут, но позже. И Игорь с этим согласен. Или рожаешь по чужому паспорту и подписываешь отказные, или вот тебе пятьдесят тысяч и доброго пути. Думай, девочка. До утра. Да, хочу предупредить. Мысли — если будут возникать — об установлении отцовства, экспертизах ты из головы выброси, эти экспертизы очень вредны для здоровья и мам, и детей. Бывает, до летального исхода. Я точно знаю… — Анна Викторовна тяжело поднялась и вышла.
Мир рухнул. «Игорь согласен… У него таких много… И сейчас две были… Летальный исход… Игорь согласен… Значит, он знает и согласился, чтобы я отдала наших детей чужим людям… Согласен. Самому сказать было стыдно. Поэтому и уехал раньше…» — мысли вспыхивали, гасли в надвигающейся темноте. Из кухни доносилось как сквозь вату:
— Как бы не родила до срока от переживаний… Или руки на себя не наложила…
— Да нет, не должна. Но ты лучше останься на ночь, пригляди. А что, действительно, рубашку Вити эта девица надевала? И куда ты ее потом?
— Простирнула да накрахмалила.
— Выброси. Не хватало заразы в доме…
— Вам все выброси… Рубашка-то выходная, воротник с такими кончиками, ну, та, что под бабочку. Небось, дорогая.
— Дорогая. Не дороже денег. А деньги не дороже нас с тобой… Поеду. Утром позвонишь… — мягко стукнула входная дверь.
Вельветовна подошла к застывшей в кресле Миле:
— Ты, девка, давай вставай. Нечего рассиживаться, из пустого в порожнее лить. Пошли, поможешь мне.
— Я не могу. Не трогайте меня.
— Кто ж тебя трогает? Ты сама тут всех вон как тронула. Пошли-пошли. Чайку с лимоном попьем холодненького, перекусим…
— Не могу. Я лучше лягу…
— Ложись… Я тебе вентилятор включу… — Вельветовна не ушла. Присела на край кровати: — Отчаянная ты, это мыслимо, чтобы самой сказать, что она сука? И ничего, проглотила…
— Я не говорила «сука», я сказала «хуже суки». Хуже и есть.
— Хуже, не хуже… Не нам судить, не тебе… Ты сначала того же добейся, а потом суди. У нее сегодня все, а у тебя что?
— Добьюсь, и у меня все будет.
— Дай бог. Я ваш разговор не сильно слушала, но она тебе велела до утра подумать. Думать-то думай, да не сильно. Больше на себя надейся…
— Отчего же? Она обещала, что все у меня будет, буду вся в шоколаде. В Америку поеду к Игорю. Только надо от дочек отказаться и другим людям отдать.
— Как отказаться?! Так они ж Гладышевы, ее внучки! Ну, Анна Викторовна… И язык повернулся… Да, она такая. Если решила — нет ни своих, ни чужих. Но Виктор же — депутат, на хлебном месте, да его газеты с дерьмом смешают, как узнают, что невестка от внучек отказалась…
— Не узнают. Она фальшивый паспорт принесла, чтобы я рожала под чужой фамилией. И Игорь согласен. Скажите, может такое быть?
— Господи, прости-сохрани! Чего ж не может? Может. Ты и сама чувствуешь, так ведь? Игорь с матерью во всем согласен. Особенно в последние годы.
— Почему в последние?
— А она его у бандитов вымолила. Говорят, от калитки через весь двор ползла на коленях. Такое ей было условие. Да еще миллион долларов потом заплатила. Половину картин продали. Его застрелить тогда хотели.
— За что?
— Тебе это зачем? Жив и слава богу, — помолчала, потом не удержалась. — Все за то же — за грехи по женской части. У них в институте дочка главного бандита училась. Такая, говорили, фифа — на всех ноль внимания, фунт презрения. А Игорь на большие деньги поспорил, что ее обработает. Ну, и обработал. Да еще сфотографировал, чтоб, значит, доказательства представить, ну, с кем спорил. Девка, как узнала, напилась таблеток, слава богу, что откачали. Батя ее сначала Игоря вообще застрелить хотел, а потом сказал, пусть живет, но чтоб в Москве ноги его не было.
— Так он же говорил, что в Саратов перевелся за Петром Иосифовичем присматривать…
— Ты его больше слушай. Господи, чего за Петром присматривать?.. В прошлом году приезжал договариваться, что и как с Игорем, так лучше Вити. 75, а волос как щетка, зубы все свои. Ему жениться впору, такой молодец…
— Он раньше здесь жил?
— Нет, тут его жена жила с Витей. Это по-настоящему квартира Овсянниковых. Я сначала у них работала. Потом Ада Игнатьевна, жена Овсянникова, умерла. Он женился на разведенке Петра Иосифовича, Витиной матери, Анниной свекрови, значит. Старший их сын, Егор, после суворовского к отцу переехал, а Витя был маленький совсем, остался с матерью и отчимом. Она за Овсянникова вышла в тот же год после развода. Георгий Константинович, хоть и отчим, но был Вите лучше родного отца. Петр Иосифович за год раз или два навестит сына, да позвонит пару-тройку раз. Вот и весь отец. Но фамилию Вите мать оставила, Гладышев он.
Овсянникова потом вторым секретарем обкома назначили на Алтай, но квартиру в Москве сохранили. Ее временно Дукаревым дали, я потом у них работала. Когда партийцев отовсюду выкинули, Овсянниковы вернулись, да не одни, а с невесткой, Анной, значит, Викторовной. И я опять при них. Так всю жизнь в этой квартире и работаю. Э-э-э, да ты спишь, девонька. Ну, спи… — Вельветовна выключила вентилятор, вышла.
Мила не спала. Она думала о том, что была права: все, что было с ней после маминой смерти — Сочи, море, голубые бассейны, шашлычник на перевале, счастье с Игорем в Саратове, белая шубка, Рори с красным хвостом, запах расцветающей сирени на скамейке в саду у Гладышевых, разговоры о Гарварде, обтянутые вишневым бархатом сиденья в купе, такие же бархатные кресла в московской квартире — все было интересным ярким сном, похожим на фильм о красивой, но чужой жизни. Самым обидным было то, что она всегда знала, чувствовала, что это сон. Вдруг вспомнилась мамина присказка «Каждый сверчок знай свой шесток» и то, как она, 14-летняя, возмущенно кричала:
— Глупости! Ерунда! Кто эти шестки распределяет?!
И мамин тихий ответ:
— Жизнь.
Она так привыкла советоваться обо всем с Игорем, с которым не было неразрешимых проблем, так привыкла ощущать себя «за мужем», что самыми невыносимыми сейчас были полное одиночество и необходимость принимать решение самой. У нее и мысли не возникло согласиться с диким, нечеловеческим условием Анны Викторовны. С такими людьми она не смогла бы жить никогда. Игорь согласился — значит, он был с ними.
Утром нужно было уходить, а сейчас решить, что делать дальше. Москвы она боялась. Возвращаться в Саратов было немыслимо, да и незачем. Квартира в Балашове была сдана до конца года. Деваться было некуда. У нее оставались сумка с документами и фотографиями, целлофановый мешок с летними платьями и сменой белья и ее неродившиеся дочери.
Светало. Заглянула Вельветовна. Постояла, посмотрела. Вышла.
Мила думала о том, что никому, кроме своих девочек, не нужна, что им никто ничего не должен. Не должен, но может помочь. Вот! Ключевое слово «помочь». Кто может помочь? Выходило — только баба Вера и мамины подруги. Значит, Балашов. Аванс за квартиру наверняка не потрачен, его можно будет вернуть, и у них будет крыша над головой. Она вспомнила, что был утренний прямой поезд Москва — Балашов. Денег на билет должно хватить.
Вельветовна сидела на стуле у двери:
— Ну, решила?
— Решила. Поеду домой. Рожу. Дочки вырастут, пусть тогда Игорь с его мамочкой за нами побегают. Тогда посмотрим…
— Ну-ну. Вот, деньги возьми.
— Вы что?! Я тут воды не попрошу, а Вы — деньги… Не надо, не нуждаемся.
— Дело твое. Как на вокзал ехать, знаешь? Тебе на какой?
— На Павелецкий.
— Налево за углом через дорогу — автобусная остановка. Любым проедешь две остановки. На третьей выйдешь — сразу вход в метро. Там по прямой до остановки «Павелецкая». Бывай здорова!
Вельветовна накинула на дверь цепочку. Аккуратно выровняла стопку купюр, помедлила, завернула их в носовой платок и положила себе в лифчик.
— Вика, там на шестнадцатом месте беременная, поперек себя шире, видно, двойня. Села до Балашова. Не нравится она мне: глаза стеклянные, молчит, и руки дергаются. Полдня в дороге, а она даже чаю не взяла. Ты посматривай, не хватало еще, чтоб тут разродилась, — озабоченно предупредила напарницу пожилая проводница.
— Я не гуляю, билеты, вон, надо раздать, туалеты проверить — скоро Пенза! — огрызнулась младшая. — Прутся дуры в такую жару, да еще в плацкартном, а ты посматривай!
Прохладный голубоватый туман так приятно наполнял голову, тело, плавно покачиваясь, скользил вверх… Но кто-то больно бил ее по щекам, дергал за нос, противно кричал в ухо «Просыпайся, просыпайся, милая!», и плыть в этом голубоватом покое больше не было возможности. Мила открыла глаза. Вокруг были незнакомые лица, белые халаты.
— Вот, глазки открыла, умница, молодец, — умилилась полная женщина в белой шапочке. — Как нас зовут?
— Не знаю. А разве мы знакомы? — удивилась Мила. Все рассмеялись.
— Инна Францевна спрашивает, как тебя зовут, — пояснил кто-то сбоку.
— Мила Жемчужникова. Где я?
— В больнице. Сейчас все в порядке, но задала ты нам работы.
— Я в Балашове?
— Нет, это Пенза. Тебя сняли с поезда и очень вовремя.
— А что со мной было?
— Жара. Разве можно на таком сроке одной пускаться в такую дорогу? Лежи спокойно. Тебя надо понаблюдать, витаминчики поколоть, малышам полезно. Все будет в порядке. — Врач повернулся к медсестре: — Покормите, стол общий, дайте легкое успокоительное, пусть отдыхает.
Мила тихонько погладила живот и закрыла глаза.
В кабинете заведующего отделением Александра Яковлевича Поплавского немолодой грузный мужчина, прикрыв тяжелые веки, с отчаянием слушал соболезнующий голос врача и думал, за что так наказан. Пять лет назад умерла в родах его Катя, их ребенок, сын, не выжил. Он понимал, что таких любви и радости, как были в первой семье, у него, скорее всего, не будет, но хотелось теплоты, домашнего уюта и, главное, детей. И три года назад Бразгун женился снова на молодой, красивой и неглупой женщине, Наталье Лебедевой, оба с радостной надеждой ждали малыша, и вот сейчас, почти накануне родов, выяснилось, что у ребенка синдром Эдвардса. Маленький уродец. И проживет он не больше года, каждодневно мучаясь. И лечения нет. Как и надежды на здоровых детей от Наташи, это проблема ее генома. Перед этим меркло все — новые проекты и планы, фирмы за границей, предстоящий переход в кресло заместителя губернатора. Для чего и для кого все это?
Поплавский виновато-сочувственно смотрел на Бразгуна и думал, сумеет ли тот сейчас, в таком состоянии, правильно оценить возможный выход, который он собирался предложить. Его не смущали сплетни о криминальном прошлом Бразгуна: после спортивной карьеры тот сколачивал первоначальный капитал жестокими методами, впоследствии сумел легализовать и развить свой бизнес, стал депутатом областной думы. Он уважал сегодняшнего Бразгуна и был ему благодарен: добрая половина нового импортного оборудования была передана отделению именно им. Безвозмездно.
— Анатолий Николаевич! Внимательно выслушайте меня. Вы с Натальей Григорьевной могли бы усыновить новорожденного.
— Нет. Этого не скроешь. В изоляции ребенка не вырастишь, а я не хочу, чтобы невинному человечку каждая дрянь на улице тыкала, что он не родной. Уехать, все бросить, начинать сначала — возраст не тот. Да и я широко известен, — горько пошутил Бразгун, — в узких кругах России. Не за границей же скрываться… Мы обсуждали это с женой после ее первого выкидыша. Она вообще не уверена, что смогла бы полюбить чужого ребенка, как своего. Нет.
— Погодите-погодите… То есть если бы ваша жена ничего не знала, если бы окружающие были уверены, что это Ваш ребенок, Вы согласились бы?
— Что говорить впустую, — поморщился Бразгун, — если нельзя сделать.
— Не спешите. Кажется, есть вполне реальный вариант. Три дня назад к нам с московского поезда доставили студентку на восьмом месяце. У нее двойня. Был угрожающий инсульт. Сейчас состояние стабильное и у нее, и у детей. Мы связались с милицией в Балашове по месту постоянной регистрации, чтоб разыскать и известить родственников. Участковый сообщил, что она сирота, квартиру продала, училась и жила в Саратове, единственная то ли родственница, то ли соседка умерла две недели назад. Так что у нее никого нет. В документах — приказ об отчислении из института по собственному желанию и академическая справка за 3 курса. Отметки о браке нет. Куда она пойдет с двумя детьми? Что-то мне подсказывает, что у нас будет минимум одна девочка-отказничок, а то и две. Но говорить с ней до разговора с вами я не стал. Ну, как, поговорить?
— Подождите, а как же Наташа?
— Анатолий Николаевич! Зачем ей знать? Вовсе необязательно. Даты родоразрешения у обеих примерно совпадают, что-то недели через три. Принимать роды и заполнять карты буду я сам. Проследить что-то по документам будет невозможно, так как официального удочерения не будет. Главное, чтобы девушка подписала заявление об отказе. Его я потом отдам вам.
— А если и ее не ставить в известность?
— Как? Нет, Анатолий Николаевич, это уже сверх возможного. Вы поймите меня правильно. Как объяснить, почему один ребенок здоров, а второй мертв и с синдромом Эдвардса? Девушка — будущий юрист и, видимо, неглупая. Поднимет шум, любая акушерка ей объяснит, что такого не бывает. Вы представляете, что будет, если все вскроется? Меня дисквалифицируют, но и у Вас какие проблемы будут, Вы представляете? Нет. На это я при всем к Вам уважении и сочувствии не пойду.
— А вдруг у нее какое-нибудь осложнение после родов будет? С летальным исходом? Шум поднимать будет некому.
— Какое осложнение? Она здоровая молодая девушка… Вы имеете в виду…
Поплавский замолчал и с ужасом посмотрел на Бразгуна.
— Да нет, это я так, глупость ляпнул… В смысле, что разные случаи бывают. Не пугайтесь Вы так.
— Да-да… — растерянно кивнул Поплавский и обессиленно опустился на стул. Он вдруг вспомнил свое искреннее возмущение разговорами о прежних методах Бразгуна и подумал, что совсем не знает этого человека, которого уважал и которому был так благодарен за помощь.
Бразгун, если было возможно по обстоятельствам, никогда не принимал решений сразу. Он попросил у Поплавского три дня, чтобы собрать информацию и просчитать возможные варианты. Сейчас он внимательно слушал только вернувшегося из Балашова начальника охраны Колоса и перебирал привезенные им бумаги и фото. «Мать Жемчужниковой — дешевый памятник из мраморной крошки, могила ухожена. На фото в молодости — симпатичная женщина. Сирота. Родных не установлено. Без вредных привычек, хронических заболеваний. Финансовый техникум. Экономист. А 15 лет мыла подъезды, странно… Отец. Копия решения суда 7-летней давности о признании умершим. На фото в молодости — красавец. Место рождения — г. Рига. Родных не установлено. Жемчужникова Людмила — средняя школа с золотой медалью. Победительница двух областных олимпиад — по математике, истории. Школьные характеристики: активная, целеустремленная. Копия амбулаторной карты трехлетней давности, из архива. Здорова. Без вредных привычек. Осмотр гинеколога. 16 лет, девственница… Странно…
Счета в банках отсутствуют. Кредиты не оформляла. К уголовной и административной ответственности не привлекалась. За границу не выезжала. Загранпаспорт и действующие визы отсутствуют.
Квартира. Приватизирована матерью. Гендоверенность на представление интересов в качестве наследницы и на распоряжение всем имуществом выдана Гладышеву Игорю Викторовичу, удостоверена через 3 дня после смерти матери. В апреле от ее имени вступил в права наследства, квартиру продал на следующий день, оплата в рассрочку. Странно… И фамилия такая знакомая, на слуху. Нет, не вспомнить. Так, договор. Право пользования не сохраняется. Регистрацию добровольно не прекратила. Решение суда о прекращении регистрации вступило в силу в мае.
Сведения о близких друзьях отсутствуют. Последние приезды в Балашов — август, сентябрь, конец октября — начало ноября, апрель.
Саратовский юридический институт МВД РФ. Внебюджетный факультет. Юристы в систему таможни, налоговых, банков. Да, не курсанткой бесплатно на судмедэксперта. Вот зачем мама лесенки мыла. Лучшая студентка курса два года подряд. Полставки лаборанткой на кафедре. Студенческое научное общество. Так, 5 опубликованных работ. Непростая девушка. Общежитие выделено в виде исключения. Выселилась зимой. Куда?
В мае отчислена по собственному желанию. Средний балл — 4,9. Последняя сессия досрочно: 4 экзамена сданы за 2 дня — тройки.
Состояние здоровья. За три года 2 справки на 12 и 7 дней по поводу депрессии после смерти матери. Данные о склонности к суициду отсутствуют. В психоневрологический диспансер на обследование не направлялась. Справки выданы в институтском здравпункте. Встала на учет в консультации по поводу беременности сроком в 26 недель. Течение нормальное. Результаты УЗИ в конце апреля — два нормально развивающихся плода, пол женский.
Информация без официального документального подтверждения. 6 месяцев с ноября прошлого года по май нынешнего сожительствовала с Гладышевым Игорем Викторовичем, который после досрочно сданной сессии за 4-й курс отчислен по собственному желанию. Он же предположительно — отец детей. 2 июня выехал по месту постоянного жительства в г. Москву. 4 июня вылетел в США (штат Массачусетс) для дальнейшего обучения за рубежом. Студент Гарвардской юридической школы. Тест SAT — 260, три профильных теста SAT — 250, тест GRE — 270. В течение 5 лет волонтерская деятельность в хосписах г. Москвы и г. Саратова».
Бразгун поднял голову:
— Что это за х…я, Игорь? Он что, за доходягами горшки выносил 5 лет? Мне это зачем?
— Вы просили максимально полную информацию. Он ничего не выносил. И тесты, если судить по результатам, за него написали. Добавили две рекомендации выпускников, полагаю, за большие деньги, и парнишку-мажора по этой чистой «липе» приняли в Гарвард. Они там все сдвинутые на гуманности и общественной работе. Между прочим, год обучения стоит 50 тысяч зелени. Да на жизнь нужно 10–15 тысяч как минимум. Так что эта Жемчужникова поймала очень правильного кадра, только он сорвался и свалил в США. А сведения о парнишке обошлись мне очень и очень недешево, — обиженно пояснил Колос.
— Ладно. Что дальше?
— Дальше эта будущая мамаша все бросила, даже вещи, понеслась в Москву. Подругам перед отъездом рассказывала, что свекровь ей организовала занятия с репетиторами и другими крутыми спецами и к зиме она тоже будет в Гарварде.
— Бред какой-то. Тебе ничего не переврали? Это же бабы — лишь бы друг друга укусить.
— Я же указал, что без документального подтверждения. Вы обратите внимание, там внизу пометочка в дополнение: они подавали документы в ЗАГС, паспорта вовремя не сдали и на регистрацию брака 2 июня не явились.
— И что дальше?
— Все, мрак неизвестности. В Москве мы задействовали два агентства. У Гладышевых дом в Дубровицах, под Подольском, там ее не было. В московской квартире — тоже. В гостиницах не регистрировалась. За временной регистрацией не обращалась, в морги и больницы в эти дни ни в Москве, ни по ходу саратовского поезда с такими данными беременные или роженицы не поступали. Органами не задерживалась. В московский поезд она села точно, провожали подруги, но доехала ли до Москвы — непонятно. Вагон купейный. Проводники работают по неделям. Их смена через два дня. Дешевле подождать. После проводников будем проверять отходившие поезда за эти дни.
— Ну, и что ты думаешь?
— А что мне думать, вы сказали искать — будем искать. Знали бы мы, что она отколола — было бы проще. Последний раз мы так искали Лялю Кости Жирного, если помните. Как раз за такие деньги.
— А ты, Игорь, стареешь, слышать стал хуже. Или умней меня начал себя чувствовать? Мои указания поправляешь?
— ?!
— Я ведь, Игорь, просил информацию собрать, заметь, а не искать, как ты выразился, будущую мамашу. Разницу чувствуешь, старательный мой?
— Чувствую.
— Выводы?
— Это случай, когда лучше недобдеть, чем перебдеть.
— Понял правильно. Закончили. Всем спасибо.
Бразгун снова надел очки и вдруг остановил выходящего Колоса:
— Да, забыл. Тебе фамилия Гладышева ни о чем не говорит? Вроде на слуху, а не могу вспомнить.
— Ну как же… Депутат Московской городской думы, в комитете по инвестициям. Помните, два года назад пытался пролезть к нам. Мы его тогда вежливо предупредили.
— Да, вспомнил. Спасибо.
Колос вышел.
Бразгун откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и задумался.
Утром Милу перевели в одноместную палату с отдельным санузлом, телевизором и холодильником. Удобная высокая кровать с регулируемым изголовьем: повернешь ручку — и можно сидеть, опираясь спиной; пол с подогревом — о таком она только слышала; жалюзи на окне, дернул — и темно. После обхода незнакомый врач подключил что-то к телевизору, пояснил: «Видик» — и вышел.
Мила щелкнула пультом. На экране появился большой двухэтажный дом. Это был удивительный дом. Такого Мила не видела никогда. Его нельзя было даже сравнивать с домом Гладышевых. На втором этаже над входом виднелась открытая терраса с белой мебелью. По ограждению из навесных ящиков спадали вниз розы, белые, кремовые, совсем без стеблей, как свечки на темной зелени листьев. Открылась резная входная дверь с золотистой изогнутой ручкой. Огромная прихожая казалась бесконечной — ее увеличивали зеркальные шкафы по обе стороны. Большой овальный ковер в центре окружало несколько поменьше, каждый у кресла или пуфика.
Кресла были обтянуты чем-то бледно-розовым и были похожи на большие воздушные зефирины. Центром прихожей был стол. Черные, изогнутые в сложном узоре ножки просвечивали сквозь прозрачную столешницу и, соединяясь под столешницей, казалось, сливались в высокую черную вазу с единственной розой в ней.
Арка из двух легких симметричных лестниц с парящими в воздухе ступенями вела наверх. Перед шкафами слева и справа были полуоткрыты две вишневых двери с витражами — цветущие ветви яблонь.
За левой дверью располагалась столовая: строгая темная мебель, похожий на витрину, высокий и широкий, наверное, буфет с посудой. Крохотные белые чашечки в ряд светились в шоколадной глубине, как ландыши. Ниже на полке сверкающим каскадом выстроились рюмки, бокалы, еще что-то, чему Мила даже не знала названия. Она не знала и как называется длинный на всю стену, но невысокий, до пояса, то ли шкаф, то ли комод на витых ножках со многими створками. Над этим шкафом в тяжелых золотых рамах висели натюрморты.
Длинный овальный стол окружали стулья с высокими резными спинками и подлокотниками. И бархат обивки тоже отливал золотом. На столе в хрустальной корзинке с ручкой и на таком же хрустальном подносе (или плоском блюде?) смешались темно-синие, розовые и золотисто-зеленые кисти винограда. И по тому, как сверкали на них капельки воды, Мила поняла, что виноград настоящий.
Слева от входа — огромные напольные часы с длинным, медленно движущимся маятником. От тяжелых шелковых штор в комнате полумрак.
Дверь справа вела в гостиную. Зеленый радостный свет из сада заполнял ее через огромные французские окна, заменявшие две стены, справа и в торце. Двустворчатые двери были распахнуты на террасу. У дальнего окна стоял рояль, настоящий, белый. И по тому, каким небольшим он казался, воспринимались размеры комнаты. Кресла, диваны, еще длинные диваны без спинок, кресла-качалки, столики, большие и маленькие, в каком-то веселом беспорядке заполняли гостиную. Слева перед бело-голубым камином располагалось огромное кожаное кресло, темное, массивное, но оно не нарушало, а, скорее, подчеркивало радостный легкий дух этой комнаты. Телевизора в комнате не было. Вместо него на стене за камином висел огромный экран, Мила никогда не видела такого. «Счастливые люди, построили такой дом и живут в нем», — подумалось Миле, и она задремала. Во сне они с мамой, молодой, веселой, бродили по дому, любовались им и знали, что это их дом.
Прошло три дня. До родов оставалось две недели. Мила втянулась в просмотр кассеты как в наркотик. Она досадовала, когда приходилось отвлекаться на осмотр, уколы, капельницы. Она смотрела кассету от начала и до конца и включала отрывки: сад, беседка, бассейн, кухня, библиотека, тренажерный зал, ванная, вторая ванная, джакузи, спальни наверху, терраса в сад, терраса с розами наверху.
Самым любимым отрывком была детская. Голубой потолок с мерцающими звездами и веселой круглой луной, на стенах под зелеными пальмами львята, тигрята, обезьянки, разноцветные птицы и бабочки. Слева — синее море и кораблик. В стену вмонтирован большой аквариум с цветными рыбками. Игрушки в широких мягких корзинах из бархатного жгута, висящих на стойке в углу: дергаешь за ручку-шарик — и корзина опускается на пол. Кружевное одеяльце в детской кроватке похоже на кукольное. Пеленальный столик. Рядом на открытой полке — стопки ярких ползунков, распашонок, чепчиков. Слева от аквариума — зеленый в ромашках и подсолнухах комод с пинетками, башмачками побольше и красными резиновыми сапожками величиной в пол-ладони. В верхнем ящике — пушистый меховой спальный мешок с рукавами, капюшоном и кулиской. Рядом у двери на балкон — ванная. Нагреватель с регулятором температуры. Ванночки, тазики, лейки. В длинной, во всю стену, необычно узкой ванне с широкими бортиками — крохотный надувной жилетик и красный резиновый круг, на бортиках — лягушата, утята, рыбки…
— К тебе гости, Жемчужникова, — заглянула в палату медсестра. Мила с досадой нажала «стоп». В палату с пакетом и корзинкой клубники вошел незнакомый пожилой мужчина:
— Здравствуй, Людмила, — поставил клубнику на столик у кровати, по-хозяйски выложил в холодильник какие-то свертки.
— Здравствуйте. Простите, но вы кто? Вы точно ко мне? — Мила встревожилась.
— К тебе. Мы незнакомы, вернее, ты меня не знаешь. Меня зовут Анатолий Николаевич, и я к тебе по делу.
— Если вы от Анны Викторовны, то можете уходить сразу и клубнику свою заберите!
— Я не от Анны Викторовны и даже не знаю, о ком ты говоришь. Так что выслушай сначала, — он приспустил жалюзи, подвинул стул к окну, сел. Мила молчала.
— Ты меня не знаешь, — повторил он, — а я знаю о тебе многое, если не сказать, все, — гость наклонился, опершись локтями о колени, опустил голову и обхватил ее руками. — Даже не знаю, с чего начать, — он поднял голову и пристально посмотрел Миле в глаза.
— Вы от моего отца?! — ахнула Мила.
— Нет. Ваш Балашовский суд признал твоего отца умершим 7 лет назад. По заявлению твоей матери. — Он торопливо вытащил из пластиковой папки файл, протянул Миле и пояснил: — Это было перед приватизацией вашей квартиры. Она, видимо, беспокоилась, чтобы потом не было претензий.
Мила взяла документ, молча прочитала.
— Там второе решение. Посмотри внимательно.
Мила вынула второй лист, также внимательно прочитала, возмущенно воскликнула:
— Но я не продавала нашу квартиру. Я сдала ее до конца года! И квартплату получала! Что это за ерунда?
— Нет. Вот копия договора купли-продажи. Ее от твоего имени по выданной тобой генеральной доверенности продал Гладышев Игорь Викторович. Ты ведь выдала ему доверенность?
— Кажется, да, — смутно припомнилось: по дороге с кладбища (какой это был день — второй, третий, четвертый?) Игорь привел ее в нотариальную контору, сказал, что до отъезда нужно оформить заявление о вступлении в права наследства. В кабинете нотариуса она отказалась: казалось кощунственным тогда думать и говорить о наследстве. Нотариус (или Игорь?) предложил подписать доверенность, чтобы ей не нужно было заниматься всем этим самой. И она с облегчением подписала.
Мила с ужасом прочитала договор:
— А что за Стрелкова? Почему указано, что выплата в ее пользу?
— Это ваша соседка.
— Баба Вера. Да, я забыла. И она согласилась?! — ахнула Мила.
— Погоди-погоди. Оплата-то частями. Это такой юридический фокус, чтобы она могла получать деньги. Платеж в пользу третьего лица. Да что я тебе объясняю, ты же сама юрист. Она ведь тебе деньги отдавала?
— Да, — подняла глаза Мила, — пока не все, но остальные отдаст, когда приеду. Значит, это была не квартплата. Но Игорь мне даже ничего не сказал… Но тогда получается, что у меня нет квартиры… Только деньги?
— Боюсь, что дела еще хуже. Твоя соседка умерла три недели назад. Есть копия свидетельства о смерти. Что там с твоими деньгами и у кого они, неизвестно. Их могут включить в состав наследства, и тебе трудно будет доказать, что они твои.
Мила с подозрением посмотрела на Бразгуна:
— А Вы для чего эти документы собирали? Что Вы хотите?
В палату вошла пожилая медсестра со штативом:
— Все, пора, загостились. Милочка, давай, детка, поставим капельницу…
Бразгун поднялся:
— Я подожду.
— У нас после капельницы отдых, потом обед, потом тихий час — не натерпитесь ждать, — предупредила сестра и стала перетягивать руку Милы жгутом. — Ну и гости тебя проведывают! Да еще с такой клубникой! — она плотно прикрыла дверь. — Понятно, почему тебя в отдельную палату перевели.