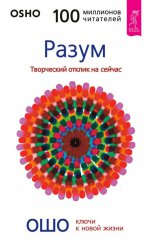Чужие дочери Азарина Лидия
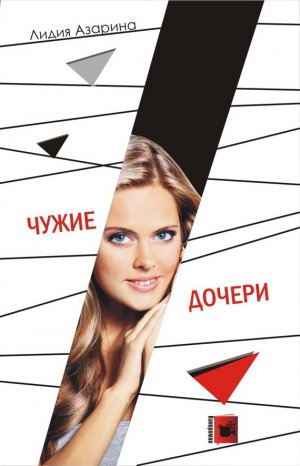
— А кто это?
— Своих гостей не знаешь? Это друг нашего губернатора. Все время при нем. Говорят, скоро назначат заместителем. У нас его жена лежит, тоже скоро рожать, так он еще зимой почти все оборудование в отделении поменял на свои деньги. Вот как жен надо любить и жалеть. А твой и не навестил ни разу.
— Он не знает, что я в больнице, он за границей сейчас.
— Да, они все такие, мужики. Сделал свое дело — и за границу, а ты расхлебывайся, как сумеешь.
В это время Бразгун в кабинете Поплавского раздраженно втолковывал недоумевающему Александру Яковлевичу:
— Да поймите Вы, никогда она не откажется от одной. У нее на лице это написано. Даже если откажется, то потом сгрызет себя из-за выбора и ринется отыскивать. Срочно нужна вторая семья. Только так ее можно будет убедить…
— Ну, Анатолий Николаевич! Побойтесь бога! Я к Вам со всем уважением и благодарностью, но нельзя же так! Все списки потенциальных усыновителей у представителя банка данных о детях. Чтобы выдали предложение, данные о ребенке нужно внести в банк, о рожденном уже ребенке, заметьте. После его будут предлагать желающим, а не наоборот. А Вы хотите, чтобы мы до родов предоставили усыновителей. Вы даже не представляете, какая это волокита с чиновниками — усыновление. Святые люди, герои, кто это выдержал и не отказался. Вы, конечно, можете ускорить процесс…
— Да не могу! Нельзя, чтобы даже имя мое у кого-то в памяти было связано с этими вопросами. Вы что, не понимаете?
— Вы перестраховываетесь. Вы известны своей благотворительностью. Ничего удивительного, что, расчувствовавшись с появлением своей дочери, хотите помочь другим, — Поплавский даже руки прижал к груди.
— Ладно. Подумаю. Пойду, наверное, они уже закончили. Да, Александр Яковлевич, там постоянно крутится такая пожилая сестра с цветком на шапочке. Любопытная до крайности, и лицо знакомое. Нельзя ли ее куда-нибудь на день-другой перевести?
Слова вбивали ей в голову медленно, равномерно, и никуда нельзя было спрятаться от этой боли, потому что они были правдой:
— Какое ты имеешь право обрекать девочек на такую жизнь? Только то, что ты их родишь? По недосмотру, по ошибке? В 20 лет ты можешь калечить свою жизнь, как посчитаешь нужным: твоя мать умерла, и у тебя уже нет долгов перед ней. А они-то беззащитны. И будут жить так, как ты выберешь. Ты хочешь, чтобы через 15 лет твоей работы уборщицей в трех местах для них самой большой радостью была одна пара китайских сапог на двоих? Или чтобы, завидуя другим, они пошли на панель зарабатывать на тряпки? Что ты им можешь дать, скажи? Материнскую любовь? Я скажу тебе: ни один твой расчет не оправдался, потому что ты по молодости не умеешь оценивать людей и себя. Ты уверена, что твоя материнская любовь останется? Не уйдет со слезами, усталостью и озлоблением от ежеминутной борьбы за кусок хлеба? И ты не возненавидишь их, потому что будешь считать причиной такой своей жизни? Их, а не себя?
— Вы говорите так, чтобы меня запугать.
— Нет. И ты это знаешь. Давай конкретно. Допустим, тебя завтра выписывают. Ничего для малышек у тебя нет. Даже завернуть не во что. Из жалости тебе дадут списанные пеленки и пару одеял. Куда дальше? В Балашов? Где деньги на билет? В лучшем случае выклянчишь на вокзале, если милиция не задержит. А если не выклянчишь? Пойдешь в пакгаузы к бомжам? Туда так просто тоже не попасть. Надо платить деньгами, продуктами или, прости, одним местом. Кто тебя ждет в Балашове? Школьные подруги, которые завидовали тебе, а теперь будут злорадствовать? Или их родители? Им нужна на шею бывшая одноклассница их детей с двумя незаконнорожденными? Как ты сможешь отсудить свою квартиру, если договор был законно оформлен? Где возьмешь деньги на госпошлину в суд? Пособие могут оформить только по месту регистрации. Ответь себе честно, где вы будете жить, где зарегистрируетесь?
— Я буду работать, получу общежитие.
— Когда? На следующий день после выписки из роддома? На кого ты их оставишь, пока будешь искать работу и потом, работая? Няню наймешь? На какие деньги? Твоя мать имела специальность, образование, работала экономистом. А подрабатывала мытьем лестниц, потому что другой подработки в вашем Балашове не было. Кстати, чтобы ты получила образование и жила лучше. У тебя три курса института. Ты даже не пол-юриста. Какую работу ты сможешь получить? Как будешь заниматься, пусть заочно? Кто будет за это платить? Я скажу прямо, не обижайся. Кажется, ты все время на кого-то рассчитываешь или не думаешь ни о чем вообще. Но ты же не дура. Твой Игорь, судя по всему, их папа, пролез в Гарвард по фальшивым документам и чужим тестам. Его задача на ближайшие пять лет — удержаться там зубами, подтвердить, что может, что соответствует, чтоб никому не пришло в голову копаться, проверять. Ему там не до твоих проблем. Да и чем он мог бы помочь? Он зависит от родителей, а они, как я предполагаю, выбросили тебя за дверь. Будешь устанавливать отцовство и требовать деньги? Ты знаешь, сколько стоит генетическая экспертиза? А услуги адвоката? У тебя есть гарантия, что эксперту не оплатят отрицательное заключение? Это Москва. Там многое, если не все, можно за деньги. Да, есть еще вариант. Оставить их в доме ребенка, но не писать отказ. Подождите, доченьки, пока мама найдет работу, выучится, построит квартиру, материально обеспечит пристойную жизнь, тогда она вас заберет к себе. Денег и связей нет, все надо нарабатывать, поэтому лет через двадцать. А пока пусть усыновляют других. У них же будут приемные родители, но, так сказать, второго сорта, а у вас все-таки родная мама… На пленке — мой дом. Я знаю, он тебе понравился. Но чтобы построить его и свою жизнь такой, как она есть, мне понадобилось 15 лет. Я мужчина, и мне помогали друзья. Но наш ребенок умер. Больше детей не будет. Мы с женой решили, что примем и полюбим отказничка, сделаем для него все, что сделали бы для родного, он фактически и будет нашим родным. То, что мы предлагаем удочерить именно твоих девочек, это или случайность, или бог так решил, не знаю. Все сошлось в нужном месте и в нужное время. Отказывая нам, ты лишаешь их всего, что сама не можешь дать: нормального детства в этом доме с двумя любящими родителями, развития способностей, отличного образования, здоровья, воспитания, достойных друзей, удачного брака, защиты, наконец. До этого все у тебя случалось само собой или за тебя решали другие, ведь правда? И на тебе никогда никакой ответственности. Будь человеком хоть в этот раз, включи мозги и подумай. Не только о себе, но и о дочерях. О нашем разговоре не надо никому рассказывать. Если что-то надумаешь, позовешь заведующего отделением. Он меня вызовет.
Бразгун вышел. На душе было пакостно.
Мила лежала и привычно поглаживала живот. Девочки притихли. Подумала: «Чувствуют что-то, наверное».
Слова Бразгуна сложились в высокие прочные стены вокруг нее, и только впереди слабо брезжил свет, наверное, выход. Она пыталась сосредоточиться, как на экзамене по логике, найти аргументы против, рассматривать ситуацию как задачу, которую нужно решить, искала брешь, потом щелочку в этих стенах. Напрасно.
Она действительно никогда не просчитывала возможные варианты и мало задумывалась о последствиях. Она жила, как жилось, и поступала, как поступалось. Все, на что ее хватало, — фантазировать и строить планы, как выяснилось, несбыточные. Да, даже за три недели здесь, в отделении, она ни разу не подумала, как доберется до Балашова сразу после роддома с двумя недельными грудничками на руках, как сумеет сесть с ними в поезд, как они вынесут дорогу, на сквозняках, в такую жару, где их можно будет перепеленать в поезде. Ей было комфортно в отдельной палате и с пультом в руках так приятно было любоваться красивой детской и представлять себя в ней изящной молодой мамой с прелестными дочками.
Отвращение к себе и раскаяние заполнили ее. Она вспомнила свое раздражение маминой мелочностью, как ей казалось, тщательно скрываемый стыд за то, что мать моет лестницы (скрываемый ли, ведь она ни разу не предложила помочь). Представилось, как ее дочери, так же скрывая это, будут стыдиться ее.
Получалось, что она, не отдавая себе в этом отчета, все время на кого-нибудь рассчитывала: на маму, на Игоря, на его родителей, на бабу Веру, на маминых подруг — и никогда на себя. Она так гордо отказалась от денег Гладышевой, а надо было брать их и требовать еще. Вот тогда она защищала бы своих детей. Грозить газетами, забрать тот фальшивый паспорт и грозить милицией. И требовать, требовать. Не из-за того, что кровь Игоря была в их детях, а потому что он принимал решения, дал ей с детьми почувствовать себя защищенной и в безопасности, обещал нормальное будущее, а потом предал. Пусть платили бы за предательство его родители, раз воспитали такого. А она на эти деньги растила бы детей. Получается, она опять рассчитывает, но уже на деньги родителей Игоря. Нет, невозможно. Эта тварь сказала, что и у нее, и у детей может быть летальный исход. Такая ни перед чем не остановится, а заказное убийство — дешевое и надежное решение проблем, которые могла бы создать Мила.
Всю беременность, особенно в последние месяцы, она была убеждена (хотя непонятно, почему), что у ее девочек будет все самое лучшее. Это подразумевалось, в этом не было сомнений. Слова Бразгуна, чужого и неприятного человека, разбили этот защитный экран: она не только не может дать своим детям все самое лучшее, она не может дать им ничего, кроме любви и чувства своей вины.
Особенно больно было сознавать то, о чем знала только она: из-за бездумности она сама упустила все возможности, которые были, были!
Чтобы побыть лишние дни с Игорем, она ушла из института, променяла на эти несколько дней свой будущий диплом, образование, профессию, наконец, все, что дало бы шансы прокормить себя и детей. Ей с ее оценками и положением можно было перевестись на бюджетный курсанткой, получить стипендию, бесплатное общежитие, обмундирование. Можно было оформить академический. Можно было…
Ничто не мешало ей приехать в январе, феврале, марте и самой подписать это злосчастное заявление о вступлении в права наследства, не выдавая никакой доверенности. Самой, а не Игорю, договориться о сдаче квартиры, заключить арендный договор и получить аванс. Но она была так занята своими переживаниями, ей так хотелось (незачем скрывать от себя) выглядеть в глазах Игоря бескорыстной и непрактичной, нуждающейся в заботе и защите, что она своими руками отдала чужому человеку все, что мама сохранила и создала для нее тяжким трудом, что могло бы обеспечить ей и девочкам крышу над головой и кусок хлеба на первое время. Она вспомнила, как легко и быстро Игорь раздавал соседкам мамину мебель и вещи, а она в это время отбирала мамины фотографии и ощущала себя такой красиво-печальной, такой трогательно-беззащитной, какой хотел ее видеть Игорь.
А теперь за все ее ошибки и глупости будут расплачиваться ее дети. И если отбросить образ мужественной матери-одиночки, потому что никакого другого у нее сейчас и в будущем не могло быть, что она должна сделать для них?
Лепестки (или шелуха?) прежних ощущений, мечтаний, эмоций облетали, облетали, и открывалась некрасивая и жестокая реальность.
Утром Мила попросила вызвать Бразгуна.
Через несколько дней на соседних столах в «родилке» почти одновременно разрешились младенцами Жемчужникова Людмила Борисовна и Бразгун Наталья Григорьевна. У обоих стимулировал родовую деятельность и принимал роды Поплавский, ассистировали две акушерки-практикантки из медучилища, поставленные на дежурство вне очереди и принимавшие роды впервые.
На двух собственноручно написанных накануне Людмилой Жемчужниковой заявлениях об отказе от родительских прав через день были проставлены даты. Одно вручено Бразгуну, который тут же его уничтожил, другое зарегистрировано и подшито в историю родов Жемчужниковой Светланы Александровны, биологическая мать которой отказалась от дочери, отец неизвестен, впоследствии направленной в Дом ребенка г. Пензы с изменением фамилии на Иванову. Тело второго из близнецов Жемчужниковой Людмилы Борисовны — мертворожденного мальчика с синдромом Эдвардса — для похорон матерью истребовано не было.
Счастливая чета Бразгунов через неделю увезла домой долгожданную дочь Оленьку. Жемчужникова Людмила Борисовна выписалась двумя днями раньше, твердо зная, что обе ее дочери будут официально удочерены в течение месяца семьей Бразгунов.
В последний день перед выпиской Бразгун отдал Жемчужниковой конверт с 10 тысячами долларов США (на кусок хлеба на первое время), билет и путевку в Гурзуф на 21 день (восстановить силы), координаты человека, который обеспечит ее восстановление на 4-м курсе бюджетного отделения юридического факультета Санкт-Петербургского университета в августе.
До 1 ноября текущего года Бразгун также обязался выслать Жемчужниковой до востребования на Главпочтамт г. Санкт-Петербурга подробную документально подтвержденную информацию о действиях семьи Гладышевых, в результате которых Гладышев Игорь Викторович прошел конкурс и был зачислен в Гарвардскую юридическую школу, с тем, чтобы Жемчужникова использовала информацию по своему усмотрению без ссылки на источники получения.
Бразгун обещал также извещать Жемчужникову электронной почтой обо всех случаях заболеваний либо травм ее дочерей, угрожающих жизни.
Жемчужникова, в свою очередь, обязалась в случаях угрозы жизни дочерей при необходимости использования биологического материала предоставить таковой по первому требованию, извещая с этой целью Бразгуна электронной почтой о своем местонахождении всякий раз в случае изменения места проживания либо выезда в длительные командировки.
Мила исчезла в прошлом. Первый цикл замкнулся, урок усвоен: рассчитывай на себя. Соразмерна ли цена?
Это было другое море. Голубое, бирюзовое, серое. Не синее, как в Сочи в прошлом ноябре.
Пыльный, поблекший, усталый Крым. Прилепившийся на склоне Гурзуф, узкие крутые улочки, жесткая галька на переполненных пляжах. Белые катера: Коктебель, Феодосия, Алупка… Домик Грина, галерея Айвазовского, развалины Генуэзской крепости, Никитский ботанический сад (какие огромные розы!), зеленый полумрак царской тропы в Ливадии, неаполитанский вид с террасы дворца (я не была в Италии), Ласточкино гнездо, парящее над прибоем (пропахло шашлыками), Большой и малый хаос Воронцовского парка (зачем-то тащили сюда эти валуны). Солнце, солнце… Дети, дети, дети… Никуда не деться от их смеха, вопросов, обид, плача…
Никто не спросит, соразмерной ли была цена.
Бразгун выполнил обещание. Ценная бандероль на имя Жемчужниковой с документами и заверенными объяснениями участников аферы с поступлением Игоря в Гарвард была бомбой, которая уничтожит Гладышевых — депутата и студента школы права, и тогда ангел-хранитель, обеспечивший им такое надежное, светлое будущее, станет ангелом смерти. «Пусть платят», — подумала Людмила и заполнила адреса на двух конвертах: «Криминальный Следственный Отдел ФБР», «Декану Гарвардской школы права».
Бабочка села на другой цветок — процесс пошел по другому пути.
Людмила Жемчужникова, получив диплом с отличием и более выгодные предложения при распределении, обдуманно выбрала место помощника адвоката первой городской коллегии в Туле. Два года учебы в северной столице дались трудно, но помогли понять, что без средств, поддержки, связей, рассчитывая только на знания, упорство и трудолюбие, войти в число первых можно только в провинции. И только в исключительных случаях. Она была готова стать таким исключительным случаем.
Она им стала. Не опускаясь до мелких профессиональных интриг, перехвата выгодных клиентов, заискивания и подарков руководству, не расслабляясь, она работала с обвиняемыми, подсудимыми, свидетелями, прокуратурой и милицией, чиновниками и коммерсантами, просчитывала варианты возможного развития дел, профилактировала проблемы с судьями и присяжными, знакомилась и поддерживала служебные, профессиональные связи, при необходимости незаметно переводила их в личные и выигрывала, выигрывала, выигрывала. Смыслом и оправданием была работа на профессиональный успех. По 10–12 часов ежедневно, практически без выходных. Каждое дело вбрасывало адреналин в кровь, каждая победа давала энергию и силы для следующей.
Через 5 лет пришло громкое признание, а с ним — деньги и возможность увидеть мир. Но по странной случайности салфетки в клеточку в парижском кафе оказались похожими на те, саратовские, синий прибой на Сардинии оставлял на берегу такую же пену, как в Сочи, пальмы в Коста-Рике так же «целофанно» шуршали листьями, мучительно-неподвижная жара в пустыне у вечных сфинксов очень напоминала тягучую плацкартную духоту поезда, а жалюзи в бунгало на Таити постукивали от ветра, совсем как в той больничной палате. Мир оказался довольно блеклым, как выяснилось.
В привычных устоявшихся рабочих рамках месяцами ничто не напоминало ей о тех июльских днях. Все произошедшее безопасно хранилось в прочном свинцовом баллоне внутри. Он даже снился ей иногда, такой серый, надежный, заваренный наглухо. Перестала проверять электронный ящик, когда поняла, что никто никогда ей не напишет, что бы ни случилось. За все годы она сорвалась однажды: впереди, в толпе у старых торговых рядов быстро шел Бразгун. Расталкивая прохожих, спотыкаясь, она догнала его и развернула за плечо. Незнакомый человек раздраженно рявкнул: «Тебе чего?!» Она извинилась и, чувствуя, как бешено завертелась земля, села на бордюр.
Все шло обычно, спокойно, без серьезных проблем и больших радостей. Людмила бывала на вечеринках, выслушивала женские секреты близкой подруги Татьяны (вот совпадение!), встречалась и расставалась с приятными и не очень, молодыми и немолодыми мужчинами, иногда возилась с детьми приятельниц — ничто, кроме работы, не волновало. Она понимала, что это неправильно, ненормально, много читала о профессиональном «выгорании» и боялась его. Хотелось оживить душу мечтой, нужна была цель.
Воскресным июньским утром она ждала у себя Николая Ивановича, очередного подобранного Татьяной кандидата в мужья. Сдержать матримониальный азарт подруги было невозможно, все время приходилось искать убедительные поводы для расставаний с несостоявшимися женихами, и Людмила прикидывала, может ли сейчас быть таким поводом непунктуальность кавалера: Николай Иванович ей не нравился. Решила, что может, и, повеселевшая, отправилась в гастроном за продуктами на неделю, предвкушая абсолютно свободный день. Обрадовалась она рано: в арку медленно въезжал огромный джип, которым бывший (пока не знающий об этом) потенциальный жених очень гордился. Людмила в легкой панике (хоть бы не заметил!) прыгнула на ступеньку отходящего автобуса, створки сомкнулись, и она с облегчением спросила: «Куда едем?» Молодой улыбчивый водитель произнес в микрофон: «Автобус № 114 следует на конечную остановку «Музейный комплекс “Ясная поляна”» — и, подмигнув Людмиле, спросил без микрофона:
— Ну что, рыжая, рискнешь или выбросить по дороге?
— Рискну! — она подумала, что за столько лет жизни в Туле так и не была в Старом Заказе, на могиле Толстого. Она с детства любила «Холстомера», часто в разные годы перечитывала отрывками «Войну и мир», но осознала личность Толстого, только открыв для себя «Исповедь. В чем моя вера?» и «Критику догматического богословия». Такой новый Толстой оказался для нее значительнее, понятнее и ближе Толстого-писателя. Никогда и ни с кем она не говорила об этом, оберегая возникшее ощущение.
До открытия музея оставалось больше двух часов. Людмила побродила по усадьбе, обошла дворовые службы. От флигеля Кузьминских было хорошо видно, как по Косой поляне ровным рядом двигались косцы. Подумалось, что и при жизни Толстого так же падали под косами тяжелые травы, так же пыхтели шмели на клумбах, и вдруг почудилось, что с балкона усадьбы вот-вот послышится голос Софьи Андреевны, созывающей домашних к завтраку.
В усадебном доме заканчивали уборку. Людмила сунула в руку уборщице тысячную купюру и та тихо заперла за ней входную дверь:
— Выпущу через час. Хватит?
— Хватит. Спасибо Вам. Очень хочется одной посмотреть…
— Понятно. Только не трогай ничего, там на каждом ящике — сигнализация, чуть что — воет на всю усадьбу…
Дом с любовью восстанавливали талантливые люди. Домотканые полосатые дорожки-половики на влажных еще, некрашеных половицах.
В простом книжном шкафу — вразнобой потрепанные корешки томов, на старом, в царапинах бюро — желтоватые листы с заметками и небрежно оставленный карандаш, вот-вот свалится. Круглые очки с подвязанной темными нитками дужкой. Распахнутые окна, кисея парусит на сквозняке. Черный кожаный диван с твердой высокой спинкой (наследник знаменитого?). Прочная, чуть поскрипывающая лестница на второй этаж. С балкона видны разноцветные пятна клумб. Открытый рояль слева у противоположной стены. Небрежная стопка нот на закрытой крышке. Вспомнилось, что Толстой выучился играть после сорока и играл лучше Софьи Андреевны, занимавшейся музыкой всю жизнь. Старинные пожелтевшие чашки выстроились в ряд на зеленой шелковой скатерти. Узкие настенные часы с римскими цифрами чуть слышно мирно тикают в такт движениям маятника. У двери на полукресле оставлено шитье (или вязание), тонкая белая нить сбегает к закатившемуся клубку через подлокотник. В маленькой спальне на двух узких железных кроватях небеленые холстинные покрывала, небольшие подушки в таких же холстинных наволочках с прошвами. В изголовье на гвозде — блуза, поверх — тонкий поясок с истрепавшимися кончиками. На высоком восьмиугольном столике между кроватями — керосиновая лампа из сине-голубого стекла, и внутри виден обожженный кнот.
Дом был полон покоя, основательности, простоты. Она остро почувствовала, что хозяева здесь, но вышли на время, и неловко, неприлично слоняться по комнатам без них. Дом был полон жизни.
По дороге в Старый Заказ, пытаясь разобраться в странном, все еще сохранявшемся впечатлении, она поняла, что по существу у нее никогда не было дома. Общежитие и комната в Саратове, гостиницы, съемные комнаты и квартиры, общежитие в Питере, новая тульская квартира, даже квартира в Балашове, где она прожила 17 лет, всегда были только местом жительства, но не местом жизни. Дом, обустроенный для себя, без учета чужих желаний и мнений, где каждая мелочь будет поддерживать и помогать, дом — личная крепость, без посторонних влияний, живой, меняющийся, дом — принадлежность к главному — к хозяйке. И впервые неожиданно поймала себя на мысли, что хотела бы умереть в таком доме.
И сразу все сложилось и стало происходить в нужное время и в нужном месте. В то же воскресенье вечером она поехала к автослесарю, жившему на окраине города. Пока он проверял двигатель и менял масло, Людмила, прогуливаясь, спустилась по тропинке, повернула направо и на другой стороне озера на пригорке увидела несколько десятков домов в обрамлении крохотных рощиц в пять-десять деревьев. Справа к деревне вела узкая асфальтированная дорога. Антон, автомеханик, объяснил, что место планировалось под жилую застройку, строительство начали, частично подвели коммуникации, разделили на участки, даже хотели включить в городскую черту, но уже года два как все забросили. Многие участки продаются, потому что денег на строительство у народа нет. Деревенька ласково называлась Алешня.
Людмила стала просыпаться по утрам с ожиданием предстоящей удачи. Все шло стремительно. Уже через неделю два смежных участка, опоясанные с трех сторон лентами лесопосадок, были выкуплены и оформлены. Она сидела на пригорке, трогала ладонью теплую от солнца траву и прислушивалась к возникшему внутри ощущению уверенности и покоя. Подумала: «Чувство собственницы», — и впервые улыбнулась сама себе. Это ее место жизни. И смерти.
Она строила дом. И оказалось, что бутылка дешевого вина иногда решает больше, чем деньги и связи, что близкая подруга, проверенная и надежная, может позавидовать и погубить из-за этого многолетнюю дружбу, что почти любимые мужчины, признанные профессионалы-строители, на деле слабо отличают бетон от цемента.
Процесс был чрезвычайно познавательным не только в сфере строительства. Перед Людмилой открылись такие практические стороны жизни, обозначились такие вопросы и проблемы, что и предположить было невозможно. Иногда ей казалось, что ввязаться в эту авантюру она могла исключительно по наивности. Трудности мужчины, строящего дом, десяти-, двадцатикратно множились для нее, женщины, никогда не сталкивавшейся со стройкой как с процессом. Ей разъясняли и обещали. Она верила и соглашалась. Ее обманывали с доверительно-заботливым выражением лица. Получив решение суда о взыскании ущерба, штрафа, убытков, меняли выражение на оскорбленно-возмущенное. Платили. Делали, как положено. Начинался новый этап, и все повторялось.
Она приучилась все обещания и заверения фиксировать в жестких договорах. Она считала сроки и штрафы, число ее личных исков стало сопоставимым с числом профессиональных. Она почти утонула в специальной литературе и технических нормативах, выплыла и смогла контролировать качество жестче, чем технадзор. Она изменяла детали проекта и оплачивала переделки. До зимы «коробка» была под крышей, коммуникации подведены, окна закрыты щитами, тяжелая входная дверь навешена. Отмечая на крылечке с последней бригадой «отходную до весны», после стакана водки на голодный желудок Людмила произнесла речь:
— Этот дом — мой. Я его строю. Все строители мне лучшие друзья. А вы — вообще. Я всех вас люблю и уважаю. Я теперь столько всего знаю про строительство, что перейду к вам в бригаду. Весной. Досижу зиму адвокатом, потом пойду. На зиму вас тоже нужно посадить. Адвокатами. Чтобы не удрали! — и закончила как на митинге: — Это стройка открыла мне новые горизонты. И еще откроет. Ура!
Придя в себя в воскресенье к обеду, взялась за подсчеты. Взысканные по искам суммы штрафов уже удешевили стоимость строительства в два раза. Это тоже был профессиональный успех.
Следующим летом дом был закончен. Он был пуст и гулок пока. Дубовый паркет ласкал босые ступни, розовато-желтые двери из ясеня предупредительно открывались при приближении, ступени пологой лестницы парили и возносили на второй этаж. Августовский ветер приносил с террасы в кабинет через распахнутое французское окно запах травы и, притворяясь январским, гудел в девственно-чистой каминной трубе.
Впереди ждало упоительное для каждой женщины созидание: выбор мебели, штор, ковров, цветов и растений, посуды, постельного и столового белья, ваз, статуэток и еще тысячи других, незаметных, но необходимых мелочей, которые наполнят дом и сделают его уютным и неповторимым.
Людмила смотрела с террасы, как рабочие внизу закончили стричь газон и собирают инструменты, прислушивалась к себе и ощущала, что работа, гонка, азарт, трудности, движение к цели, которыми два года эта стройка заполняла ее жизнь до отказа, закончились. И неизвестно, вытеснит ли обустройство дома возвращающуюся опустошенность…
Жемчужникова проснулась только вечером, почувствовала себя отдохнувшей. Ничего не болело. Голова была ясной. Мысль об одном оставшемся месяце разместилась в сознании. Паника и отчаяние аккуратно спрятаны в том самом сером защитном баллоне внутри.
В доме было тихо и прохладно. Щелкнула пультом — включила отопление. Стала под контрастный душ. Привычные утренние действия — но другие вечером… Запах лаванды скользнул мимо не радуя. Полотенце не приласкало кожу. Крем не освежил, а размазался по лицу липкой пленкой.
Она завернулась в махровый халат, набросила капюшон и прошла в кабинет. Часы пробили восемь. Она спала три часа. Из широкого французского окна видны были дорожка в темном саду, подсвеченная снизу боковыми фонарями, подстриженный ряд туй, лента зеленой изгороди, маскирующая внешнюю ограду, отсюда казалась черной. Вдруг подумала, что все эти годы она никогда не боялась оставаться одна, хотя посадки по сторонам практически изолировали ее от соседей. И вспомнилось, с какой радостью она лет 10 назад осознала, что этот дом будет местом ее жизни и смерти. Это было так смешно сейчас, что она почти улыбнулась.
Включила компьютер (монитор с преданным ожиданием уставился голубыми глазами — такой была заставка), но не села к столу, а опустилась в кресло-качалку у пустого камина. Захотелось живого тепла, огня, но спускаться за дровами было лень. Вспомнила об отключенных телефонах — и отогнала эту мысль. Минуты текли. Часы пробили половину девятого. Ей нужно было думать и решить. Простая задача на логическое мышление — что нужно сделать в последний месяц жизни.
Заведующий консультацией Натан Осипович Люборевич смотрел в наглые зеленые глаза Жемчужниковой и думал, как он был прав, когда не доверял ей с самого начала, и как ошибся, когда несколько лет назад стал считать хорошим адвокатом и приличным человеком. Сейчас эта «звезда» адвокатуры вопреки всем нормам адвокатской этики и здравому смыслу за день до процесса отказывается от защиты отличного денежного клиента в выгодном процессе, бесстыдно врет прямо в глаза про тяжелые личные обстоятельства и требует отпуск с сегодняшнего дня. Как будто он не знает, что эти «тяжелые обстоятельства» — предложение московских хищников?! Разве она не в курсе, что за 5 лет в Москву они утащили из коллегии трех лучших адвокатов, как вампиры, высосали из них все соки и выбросили? Она просто дура! Кто-то должен сказать ей об этом. Но не он. Он должен беречь свои потрясенные нервы. Он еще нужен коллегии и консультации. Пусть берет свой отпуск, но передаст ему защиту Буераки. Скатертью дорога этой выскочке! В консультации спокойнее будет.
Жемчужникова к утру закончила кассационную жалобу осужденного Васькова и сейчас, отдавая ее Леночке в рассылку, отстраненно отметила, что это ее последняя кассационная жалоба. Она с облегчением передала Люборевичу материалы по защите Буераки: за две недели работы с ним перед процессом этот самодовольный жулик надоел ей до судорог мозга. При защите Люборевичем он все-таки получит сверх ожидаемого год-другой. В изолятор вместо нее сходит Семенов, слушание на 11 часов очень кстати отменили, и дело она тоже передала Семенову. Осталось еще что-то. Да, Покатышев не позвонил, видно, проспал на радостях. Ну и пусть. Не станет она его дергать, оформлять доплату гонорара тоже не будет — такой маленький подарок на прощание, пусть вспомнит добрым словом. Компьютер очищен, в письменном столе порядок, ее бумаг не осталось. Прощаю вам мелкие займы, коллеги, но вы об этом не знаете. Все. Почти 20 лет истекли. Меня здесь больше нет.
Непривычное чувство полного освобождения охватило Жемчужникову на крыльце консультации. Она ничего никому не должна. Она одна. Ничем и никем не связана. Теперь она может все. С ней ничего не может случиться, ничто и нигде ее не держит. Свободное парение. Или свободное падение.
Единственной саднящей царапиной в душе был Ксенофонтов, но и то где-то на самом дальнем краю восприятия. Заменитель любви, иллюзия близости и заботы. Как хорошо, что она не позволила себе пойти дальше.
Ему просто нужно соврать, что нашлись родственники, и она едет к ним знакомиться. Смешно, что этот обман, по сути, правда.
Сейчас и до конца самым важным человеком должен был стать для нее Олег Михайлович Польский. Она со стыдом вспомнила свои барские интонации, дурацкие гримасы, назидательный тон. Но, может быть, он поймет, что ей больше нечем было прикрыть свой страх? Знать бы, где упадешь — соломки подстелила бы.
В сумочке лежал конверт с пятью тысячами долларов. Наверное, достаточная плата за консультации по телефону в любое время суток в течение всего месяца. И за законные рецепты на стимуляторы, чтобы ей хватило сил на месяц, и обезболивающие.
Она поедет увидеть своих дочерей. Им по 23 года сейчас. Не тревожить правдой, просто увидеть. Они могут быть замужем. У них могут быть свои дети… Если останутся силы, она слетает в Сочи, на один день. И если сможет и успеет — вернется домой.
«Бразгун Анатолий Николаевич в г. Пенза не зарегистрирован». Жемчужникова не могла поверить написанному и успокаивала себя: «Ничего страшного. Вряд ли они переехали из такого дома. Нужно сосредоточиться. Уже тогда он был не молод. Мог умереть. Не знаю имя и отчество его жены — запрос на нее не оформишь. Не знаю, как они назвали дочерей, — запрос на них не оформишь. Должен быть выход! Есть! Списки пациентов родильного отделения в архиве».
Через пять часов (какое счастье, что в этой стране за деньги можно все!) Людмила Борисовна просматривала данные июльских рожениц и пациентов. Вот она сама: Жемчужникова Людмила Борисовна, время начала родов, время окончания родов. Близнецы, девочка — 52 см, вес 3100, мальчик — 48 см, вес 2500, мертворожденный. «Так это был сын?! Но ей не сказали, что это был сын! Они не сказали, что он умер! Но почему?!» — из серого защитного баллона просочились смутные воспоминания: сквозь затихающую после схваток боль громкий детский плач и чьи-то слова: «Хорошая крепкая девочка!» Новая волна схваток (чудовищная рвущая боль еще раз). И снова плач, и тот же мужской голос: «А вот и вторая!» Ее укололи — и все погасло. Стоп! Она писала два заявления! Два! Но почему-то до родов. В документах — только одно. Потому что мальчик умер?! Она писала заявления об отказе от девочек. Ничего не складывается, никакой логики, бред! Никто не пишет заявление об отказе от ребенка до его рождения. Она написала, потому что тогда заведующий отделением сказал ей, что положено именно так. Боже мой! Так, роды принимал заведующий отделением Поплавский. Она вспомнила: на соседнем столе тоже была роженица. А он все время ходил туда-сюда и все время почему-то менял перчатки. Он должен знать!
Она спохватилась, что не нашла Бразгун. Вот. Бразгун Наталья Григорьевна, время начала родов, время окончания родов. Девочка — 51 см, вес 3050.
Мысли путались: «Бразгун сказал, что у них не может быть детей, поэтому они должны были удочерить двух моих девочек. Но у них родилась своя. Зачем им были нужны мои дети? Что это за чудовищная афера?! Что они с ними сделали? Где они?!»
Жемчужникова застонала от бессильной ярости и ужаса.
Она нашла Поплавского: он с женой жил в загородном доме в 20 км от Пензы. Александр Яковлевич вышел на пенсию после работы в облздравотделе и уже год чувствовал себя счастливым. Никакие комплексы «выпавшего из обоймы», «пожилого возраста» и прочие его не мучали. Он ничего никому не был должен, не обещал, не опаздывал, не нарушал. Как он шутил, «вышел в отставку от ответственности и обязательств». Время замедлилось, никуда не нужно было спешить, и это было чудесно.
Они с женой, горожане по рождению, воспитанию и жизни, с азартом принялись налаживать образцовое сельское хозяйство на одном отдельно взятом подворье. Оба увлеклись новаторской идеей — выращиванием вьетнамских свиней. Уход и кормление их были проще, мясо нежнее, плодовитость выше, скорость роста фантастическая. Только извечной крестьянской косностью можно было объяснить, почему при таких данных этой породы в хлевах и на фермах по-прежнему холят украинских белых.
Основную часть газона перед домом пришлось отделить и засеять кормовыми травами, за счет участка под бассейн и внутреннего дворика расширить огород, но в целом процесс пошел. Сын с невесткой и двое внуков-подростков сначала всячески уклонялись от любого участия, а потом и вовсе перестали приезжать. Поплавские-старшие с досадой осознали, каких лентяев-снобов вырастили, махнули рукой и теперь вдвоем лелеяли 40 поросят от двух первых опоросов Ли Но и Ли Ну.
То ли препараты, прописанные Польским, эффективно действовали, то ли цель настолько мобилизовала Людмилу Борисовну, но уже четвертый день у нее не было ни болей, ни слабости. От прежнего состояния остались только отсутствие аппетита и болезненная чувствительность к запахам. По дороге к дому Поплавских, сидя за рулем арендованного «Пежо», она настраивала себя на жесткий разговор со старой сволочью-врачом, готовясь к любому давлению, вплоть до шантажа.
Оставила машину у глухого длинного забора и сейчас с яростью и ненавистью давила на кнопку звонка на резном столбике ворот — никто не открывал. Потом послышались шаркающие шаги, из калитки выглянул старик в замызганном свитере и с головастиком-поросенком на руках. Едко понесло вонью свинарника. Жемчужникова открыла калитку шире, обошла старика и направилась к дому.
— Эй, что вам надо? Вы кто?! — спросил старик и засеменил вдогонку.
— Мне нужен ваш хозяин, — на ходу бросила Жемчужникова.
— Какой хозяин? Здесь никого нет. Мы хозяева. Осторожно, замок сломаете — этим входом мы не пользуемся, — он увидел, как Жемчужникова дергает ручку входной двери.
— Мне нужен Поплавский, и я знаю, что он здесь. Пусть не прячется.
— Я Поплавский. И я не прячусь. Вы кто? Что вам от меня надо?! — повторил он уже с тревогой и попятился по крыльцу к ступенькам.
Жемчужникова пораженно повернулась и вгляделась в поблекшие глаза: «Этот старик — Поплавский?!» — она бы не смогла узнать его сама.
— Где Бразгун и мои дети? Не врать! Что за аферу вы провернули?! Скажешь правду — будешь жить. Соврешь — пристрелю! — она демонстративно щелкнула застежкой сумки. Она блефовала — пистолета у нее не было. «Какие дети? Какая афера?! Бразгуна застрелили сто лет назад… Она сумасшедшая! Надо со всем соглашаться… Хоть бы Надя не вышла. Надо соглашаться, и она успокоится», — пронеслись обрывки мыслей у Поплавского. Он опустился на ступеньку и прижал к груди поросенка. Тот заверещал. Жемчужникова, брезгливо морщась, выдернула его у Поплавского и швырнула вниз. Это убедило Александра Яковлевича, что женщина не шутит.
— Зачем Вы так безвинное существо?! Он же живой… — и добавил, глядя на неподвижное тельце: — …был…
— Слушай, жалостливая сволочь! Если не вспомнил — вспоминай. Я — Жемчужникова, студентка с поезда. 23 года назад родила в твоем отделении двух дочерей. Вы с Бразгуном обманули меня, убедили, что у Бразгунов нет и не будет детей, что они удочерят моих девочек и жизнь с ними у детей будет лучше, чем со мной. И ты, лично ты, соврал мне, что заявления об отказе надо писать до родов. Я написала. В документах — только одно мое заявление. Второго нет. У Бразгунов родилась собственная дочь. Мои дети были им не нужны. Повторяю вопрос: где мои дети? Зачем вы все это сделали?! — Жемчужникова снова щелкнула застежкой.
— Оставьте вы свой пистолет. Не нужно. Я все вспомнил, но все было не так… — он поднял голову, взглянул виновато и опустил глаза: смотреть на Жемчужникову он не мог.
Фирменный поезд «Беларусь» прибывал из Москвы на станцию «Минск-Пассажирский» по расписанию через 1 час и 21 минуту.
«18-й день», — вяло подумала Жемчужникова. Сумасшедшее напряжение предыдущих 10 дней схлынуло, вернулась слабость. Каждый вечер она звонила Польскому, он корректировал дозы, что-то менял в схеме приема. Стимуляторы помогали плохо. Прием пищи стал тяжелой процедурой. Она сильно похудела, обтянуло лицо, кожа стала сухой, с серовато-землистым оттенком. Вчера перед ее отъездом в Минск Олег Михайлович настаивал на отдыхе и перерыве, даже пытался кричать на нее по телефону. Он прав, конечно, надо отдохнуть.
Подумалось, как выручила в этом тяжелом поиске студенческая дружба, а ведь больше 20 лет прошло. Что она смогла бы без Толика Аввакумова, и однокашников из МВД России, и детективов частного агентства Лидочки Рукавишниковой? 9 дней к ней в номер московской гостиницы стекались сведения ото всех, кто помогал ей. Она отбирала существенное, корректировала направления поисков, разбирала документы и анализировала полученную информацию. Звонки, звонки, звонки — пока не сел голос. Все закончилось вчера. Остался выбор — два адреса. Бразгун Ольга Анатольевна, гражданка Республики Беларусь, жила с матерью и теткой в Минске. Иванова Светлана Ивановна, гражданка РФ, зарегистрирована в Белгороде, но по месту регистрации не проживает. Сердце рвалось в Белгород — искать. Остановила мысль, что, если поиски затянутся, она может не увидеть Ольгу, если не хватит сил и времени…
Ночью в купе она не смогла уснуть, при свете ночника еще раз просматривала документы, отчеты детективов, фотокопии из дела по обвинению Бразгуна в хищениях и неуплате налогов и второго дела о его убийстве, переданные ей по запросу ребят из ФСБ. Первое дело, на профессиональный взгляд, было явно сфабрикованным. Следствие топталось на месте полтора года, как нарочно, допуская все мыслимые и немыслимые процессуальные нарушения. Единственным результатом было то, что Бразгун так и не стал вице-губернатором. Возможно, фальсифицируя документы, кто-то этого и добивался, потому что в суде такое дело, как это, безусловно, развалилось бы.
Обвинительное заключение по первому делу еще готовилось, когда машину Бразгуна расстреляли в упор. Водитель и Бразгун погибли сразу, выживший начальник охраны Колос остался инвалидом. Единственная версия, которую рассматривало следствие, — коммерческие конфликты, закончившиеся криминальной разборкой. Открытку с надписью «Привет из Гарварда», найденную у машины, посчитали не имеющей отношения к делу.
Людмила отслеживала ситуацию с депутатом Гладышевым, но никаких разоблачений не последовало, просто через полгода фамилия Гладышева исчезла из состава обеих комиссий в Думе, а затем из списка депутатов. Неужели Анна Викторовна два года лелеяла злобу, выяснила источник и все-таки отомстила? Похоже. Но почему не ей, Людмиле? Колос никак не связал происшедшее с собранным им двумя годами ранее компроматом против семьи Гладышевых, в показаниях о нем даже не упомянул. Машина с фальшивыми номерами растворилась на российских просторах, найти ее не смогли, поскольку ее, такой, и не было. Дело приостановили.
Жемчужникова закрыла и отодвинула папку. Мелькнуло: «Если бы я не отправила тогда эти письма? Был бы жив Бразгун? Да. Но Гладышевы так и не были бы наказаны. Это несправедливо. У меня было право их наказать. Или не было? Бразгун чудовищно виноват передо мной, нет, не передо мной — перед Светланой. А может быть, это вовсе не Анна Викторовна?» Она отогнала мысль о своей возможной причастности и вине. Взяла другую папку.
Прах Бразгуна после кремации передали жене, которая вернулась к родителям в Минск, где его и захоронила. Олечке было 2 годика. Наталья Григорьевна вначале проживала с родителями в двухкомнатной квартире в Серебрянке, затем выкупила две квартиры — трех- и двухкомнатную — на одной площадке в доме сталинской застройки в центре города. В трехкомнатной проживает сама с дочерью, в двухкомнатной — ее старшая сестра, ранее — директор одной из минских гимназий, теперь пенсионерка. Фамилию не меняла, данные о личной жизни не устанавливались. 19 лет работает учительницей английского в специализированной гимназии, с прошлого года получает пенсию по возрасту, продолжает работу по контракту. Оля закончила эту же гимназию, в нынешнем году — бюджетное отделение лингвистического университета с отличием, распределена и приступила к работе полтора месяца назад преподавателем английского и испанского языков в той же гимназии. Классный руководитель. Адрес места жительства, номер телефона. Адрес места работы, номер телефона. За строчками отчета — радости, тревоги, успехи, болезни, проблемы взросления — общая жизнь матери и дочери, о которой она, Жемчужникова, ничего никогда не узнает. Не тревожить правдой, только увидеть…
Этот город был хорош даже в утренний час пик. Бабье лето вспыхивало золотым и красным на просторных улицах. Спокойные сосредоточенные мужские лица, красивые (практически все, вот удивительно!) и улыбчивые женские. Разноцветный поток машин спокойно остановился, пропуская стайку школьников на переходе. Чистота, нереальная чистота везде… Ни мата, ни выкриков раздраженных водителей, ни синюшных харь, ни бомжей, ни плевков на тротуарах — составляющих московского утра. Другой темп, другая жизнь…
Она приняла этот город сердцем сразу. Наверное, потому, что здесь жила ее дочь.
Обратный поезд отправлялся в половине второго ночи. Выдержать 17 часов без отдыха она не сумеет. Пришлось остановиться в гостинице. Боли не было. Только усталость и нетерпение. Она заставила себя прилечь. Не сумела выдержать положенный час, вскочила, приняла душ. Приняла стимуляторы. Не стала рисковать с завтраком. Горничная принесла любимый велюровый костюм, уже выглаженный, с перешитыми пуговицами. Жемчужникова спустилась в парикмахерскую при гостинице: она не решила, покажется ли Ольге или только посмотрит на нее со стороны, но чувствовала, как должна выглядеть в самый важный свой день. Мастер хлопотал, усаживая ее, а Людмила потрясенно застыла, увидев в зеркале измученную больную старуху с затравленным взглядом.
Оля Бразгун с детства больше всего любила два семейных праздника — Новый год и День учителя. Дед, бабушка, мама, обе любимых тетки, двоюродные братья и сестры — почти все в большой родне Лебедевых преподавали, поэтому День учителя был таким же семейным праздником, как Новый год. Оля всегда знала, что тоже будет учительницей. Сегодня ее впервые поздравляли с праздником как учительницу (без слова «будущую») ученики и родители. Уроки в ее 5-м «В» закончились, она стояла на крыльце гимназии и смотрела, как дети несутся по ступенькам через двор к родителям, бабушкам, дедушкам. Сережа Четвертаков обернулся, помахал ей рукой и крикнул: «Пока-пока, Ольга Анатольевна!» На что Костя Ильин (вот поросенок!) тут же завопил: «Четвертаков покакал!» «Так, сейчас начнут тузить друг друга! Надо спускаться». Они подоспели вовремя: двое моложавых дедушек и учительница. Ильин получил от деда заслуженный подзатыльник, быстренько извинился, тут же забыл об этом и поскакал на воображаемой лошади к воротам с оглушительным воплем «Ура!!! Уроки кончились!»
Оля засмеялась и направилась к скамейке поправить огромную, уже расползающуюся в руках охапку цветов. Чья-то бабушка в дорогущем велюровом костюме и с явными претензиями на молодость подвинулась к краю скамейки, уступая место. Оля облегченно свалила охапку на сиденье и стала разбирать ее, высвобождая розы. Почувствовала чужой пристальный взгляд, подняла голову, подумала: «Кошмарный макияж, совсем не по возрасту. Такая бледная. И странная». Женщина, глядя на нее в упор, тихо сказала пересохшими непослушными губами:
— Давайте помогу, — и протянула к цветам дрожащие пальцы.
— Нет, спасибо, я только розы отложила. Остальное разберем дома. У меня мама тоже учительница, у нее не охапка будет, а целый стог, — ответила Ольга.
— А с чем Вас поздравляли? — женщина положила руки на колени.
— С Днем учителя. А Вы разве не ученика гимназии ждете? — удивленно взглянула на нее Ольга.
— Да, ученика, вернее, ученицу, — женщина по-прежнему внимательно смотрела на нее.
— Привет, солнышко! — неслышно подошедший Игорь поцеловал Ольгу в макушку. — Ну, повезем это сено домой сейчас или подождем стожок будущей тещи?
— Игорь, не смей! С ума сошел! Тут же ученики! И это не сено, а поздравления с Днем учителя! — Ольга отступила на шаг и возмущенно посмотрела на него.
— Самую красивую учительницу страны нельзя поздравлять такими чахлыми букетами. Вы согласны? — обратился он к женщине. Та кивнула, по-прежнему не сводя с Ольги глаз. — Она заслуживает только лучшего, — Игорь протянул девушке большую коробку с пятью камелиями. — С профессиональным и семейным праздником, уважаемая и любимая, единственная и неповторимая Ольга Анатольевна! Мое солнышко, а не каких-то там учеников! — он сдвинул брови и грозно огляделся.
— Какая прелесть! Спасибо! — Ольга растроганно и благодарно посмотрела на него. И тут же спохватилась: — В тебе гибнет великий клоун! Единственный выход — в цирк и срочно! Поехали, тут недалеко!
— За тобой — даже под купол! — Игорь уже собрал цветы со скамейки и сделал руку «крендельком». — Пошли, а то место займут. Везде, знаешь, сколько клоунов!
Ольга, неожиданно для себя, повернулась и протянула женщине три больших желтых розы в фиолетовой праздничной упаковке:
— Это Вам. Чтобы помнили День учителя, — улыбнулась открыто и взяла Игоря под руку.
— Спасибо. Буду помнить. И Вас поздравляю. И Вы тоже… — Жемчужникова смешалась и замолчала. Но Ольга не услышала, она уже что-то на ходу говорила Игорю.
Позже, в машине по дороге домой, она сказала вслух:
— Очень странная бабуся…
— Почему? — тут же отозвался Игорь, как будто они думали об одном.
— Ждет ученика из гимназии и не знает, что День учителя. И потом, таращилась на меня целый час. Очень странная! — повторила она.
— Ты такая красавица, что ничего удивительного. Она просто лесбиянка на пенсии, вот и вспомнила молодость.
— Дурак и пошляк! Машешь языком, как помелом, — Ольга отвернулась.
— А я знаю, что в ней странного, но не скажу, пока не простишь, — Игорь сделал умоляющее виноватое лицо.
— Простила. А что? Ну, скажи, — Ольга серьезно и выжидающе посмотрела на него.
— У нее абсолютно такие же глаза, как у тебя, темно-зеленые в крапинку. Я-то думал, что такие одни в мире, и прямо чуть не выпал в осадок.
— И когда ты их успел рассмотреть?! Опять треплешься! У меня глаза по наследству от папиной матери. Только она умерла давно, тогда не было цветных фотографий. Поэтому не видно. Все, приехали. Сначала зайдем поздравить тетю Лену…
Жемчужникова сидела на той же скамейке во дворе гимназии, не имея сил подняться. Слезы, которых она не замечала, безостановочно катились, катились, чертили тонкие извилистые дорожки по слою крем-пудры на щеках, и казалось, что лицо на глазах покрывается трещинами и вот-вот рассыплется. Судорожно сжимая в левой руке подаренные розы, она не чувствовала, как толстые острые шипы пробили ладонь и кровь мгновенно впитывается в зеленоватый велюр.
Девочка с розовым бантом и в розовых туфельках подошла поближе, посмотрела внимательно, спросила:
— Бабушка, Вам плохо?
— Нет, детка. Мне не плохо… Нет. Не беспокойся…
— Нет, Вам плохо, я вижу. Пойду позову Ольгу Трофимовну! — она побежала по дорожке к крыльцу, и котенок на ранце смешно запрыгал на спине.
Жемчужникова встала и, прижимая к себе розы, старческой шаркающей походкой пошла к воротам.
Польский положил трубку телефона и подумал, что немыслимо бросить отделение, больных, три плановых операции и Славикова, которого неделю вытаскивали с того света, и было непонятно пока, прочно ли он закрепился на этом. Потом подумал, как одинока умирающая на гостиничной койке в другой стране женщина, если ей некому позвонить, кроме него, в общем, чужого человека.
Процесс пошел быстрее и хуже, чем он предполагал. Она сказала, что закончились и стимуляторы, и обезболивающие — значит, увеличивала дозы. Никто ничего не продаст ей в другой стране из этого списка. Он не спрашивал о причинах, по которым она в ее состоянии ездила то в Пензу, то в Москву, то в Минск, но понимал, что они были, наверное, единственно важными, если она сознательно тратила на них крохотный остаток жизни.
Их ежевечерние разговоры всегда касались только ее самочувствия и лекарств. Но он научился по интонациям, голосу, скорости ответов понимать, как обстоят дела, удалось ли то, что она планировала, расстроена ли или устала. Непроизвольно он стал все вечера проводить дома, ждал звонков, тревожился опозданиями, вспоминал ее приходы в отделение, глаза, волосы, характерный поворот головы. Жалость, желание помочь и бессилие, уважение к ее мужеству, ответственность врача и сострадание человека слились за эти дни в странное острое чувство общности с ней.
Олег Михайлович, как и обещал, ничего не сказал о ситуации Ксенофонтову. Зная по опыту, как быстро и страшно меняет человека болезнь, как непредсказуемо иногда реагируют на это даже очень близкие люди, он, скрывая от Ксенофонтова правду, инстинктивно оберегал Жемчужникову от возможного последнего женского унижения.
Ее друзей и подруг он не знал. И вообще не знал никого, кто мог бы и захотел помочь ей сейчас. Выбора не оставалось — нужно было ехать и привезти ее домой.
Людмила Борисовна соврала Польскому. Она не нарушала его рекомендации, и стимуляторы, и обезболивающие у нее еще были. Не было сил, и пропала уверенность, что она успеет найти Светлану. Она боялась ехать одна, боялась одна умереть в дороге, в гостинице, в Белгороде. Ей нужен был человек-поддержка, человек-опора. До конца. Лучше врач, услуги которого она оплатит.
Третий день, практически не поднимаясь, Жемчужникова лежала в номере минской гостиницы, стараясь восстановить силы. Как рекомендовал Польский, ела часто, дробными, не более полустакана, порциями, сократила обезболивающие, вместо стимуляторов принимала снотворное и спала, тоже мало и часто. Мысли и тоска по Оле, воспоминания о двух часах на скамейке школьного двора, голосе дочери, рыжей прядке, улыбке больше не отвлекали ее. Остались позади. Потому что вся оставшаяся в ней жизнь сосредоточилась в одном-единственном последнем желании — найти Светлану.
Польский позвонил на следующий день утром, перед посадкой на поезд Москва — Минск. Она с облегчением забронировала ему номер на три дня.
Людмила Борисовна в который раз напряженно перечитывала три странички в дрожащей руке. Буквы расплывались сквозь слезы, сердце колотилось где-то в горле и готово было разорваться от боли. Весь ужас, беззащитность и горе ее дочери, сконцентрированные в сухих официальных строчках, обрушились на Жемчужникову, и невозможно было жить дальше с осознанием этого! Впервые в жизни она молилась: «Господи! Если ты есть, прости меня и дай перед смертью все искупить! Вразуми меня и помоги ей, моей девочке, Господи!»
1. Из свидетельства о рождении Ивановой Светланы Ивановны. Отец — Иванов Иван Иванович, мать — Иванова Марья Ивановна (информация из отдела ЗАГС Железнодорожного района г. Пензы).
…Три месяца в казенных кроватках акушерского стационара, некого узнавать и некому улыбаться, потому что все время меняются лица и руки. И уже не услышать стука маминого сердца, а на плач ночью никто не придет. От мокрых и грязных пеленок, которые меняют 4 раза в сутки, облезает кожа, это больно, но никто не заменит их чаще, потому что такой распорядок. Вместо счастливо-ликующего: «Смотри, она уже держит головку!» это просто отметят на обходе и велят медсестре выкладывать на животик почаще. Но никому не нужна лишняя работа, и все три месяца приходится лежать на спине, пока не научишься поворачиваться на бок. Хуже всего, когда хочется пить. Тогда нужно кричать долго, до рези в животе, но и то вместо бутылочки с водой часто суют бутылку со смесью, потому что никому не приходит в голову, что хочется пить, а не есть. Некому вывезти на улицу на прогулку.
Отделение часто обрабатывают хлоркой, и всю жизнь этот запах будет ассоциироваться с болью, беспомощностью и слезами.
…Мама в Гурзуфе медленно идет у кромки прибоя, где пахнет морем и теплой степной пылью. Она старается забыть тебя, но мешают другие дети…
2. Иванова Светлана Ивановна в возрасте 3 месяцев передана из акушерского стационара в Дом ребенка г. Пензы. Заявление биологической матери об отказе от родительских прав имеется (информация из архива отделения акушерского стационара больницы г. Пензы).
Первый дом, где живешь всю жизнь — почти два года. Здесь по часам заботятся, кормят, моют, учат сидеть, ползать, делают массаж, слушают легкие и щекочут животик. Дают погрызть колечко, когда чешутся режущиеся зубки, выносят на свежий воздух на 15 минут в день: детей много. Иногда разговаривают и улыбаются. Иногда громко кричат, если ничего не сделала, отсидев на горшке положенное время. Место жизни — кроватка — отграничено деревянными рейками. Сквозь них все видно. Если просунуть между ними голову — рейки закроют со всех сторон одеялами, закрепят, чтобы не сдергивала, и ничего больше не увидишь, можешь плакать и возмущаться, но место жизни сократится до квадрата между одеялами. Останутся только игрушки — два колечка и погремушка. Есть еще собственные руки и ноги. И можно пожевать платье. Одеяло не нужно, потому что оно колючее. Потом, попозже, повзрослев, можно вставать на ноги и топать тихонько по кругу вдоль реек, опираясь о них руками — тогда видно много интересного. Иногда вынимают из кроватки и усаживают на пол. Там нет реек и не за что держаться, поэтому трудно стоять и совсем нельзя ходить — все время падаешь. Приходят взрослые, другие, не в белых халатах, улыбаются, берут на руки, разговаривают, гладят по голове или чешут пальцем живот. Потом снова усаживают в кроватку, сколько бы ни плакала и ни просилась на руки — не обращают внимания. Только говорят друг другу одинаковые слова: «Почти два года — и плохо ходит, не говорит, даже на горшок не просится. Явно замедлено развитие. Очень жаль, такая хорошенькая девочка». И оставляют новые яркие игрушки. Потом их тоже забирают…
Та, что была мамой, учится в университете в Питере, по вечерам подрабатывает уборщицей в двух фирмах. У нее есть деньги, которые она бережет. Живет в общежитии с двумя сокурсницами, ни с кем не дружит, в свободное время гуляет по улицам удивительной красоты, ходит в музеи, иногда обедает в кафе. Одна. Летом работает в пригородном колхозе под Тихвином на прополке, на уборке, на элеваторе. Живет у одной и той же старушки бесплатно, за помощь по хозяйству. О тебе научилась не вспоминать.
3. Иванова Светлана Ивановна передана в приемную семью Кузнецовых в возрасте 2 лет по договору (информация из архива Дома ребенка г. Пензы).
Наконец-то! Другая, настоящая, мама пришла, взяла на руки и забрала домой. Есть два старших брата, Коля и Жора. Есть папа, который бывает дома редко, потому что далеко ездит на большой синей машине. И, главное, есть мама, светловолосая, голубоглазая, красивая, как принцесса из сказки, и самая веселая и ласковая. И есть еще много такого, чего ты никогда не видела и не знала. Ты любопытна и любознательна, поэтому быстро учишься. Всю свою настоящую жизнь — целых четыре года. С особой внимательностью изначально одинокого ребенка ты все замечаешь и обдумываешь в меру своих шести лет. У тебя прекрасная память, отличная речь, а тетки, к которым вы ходили с мамой, сказали, что есть большие способности к музыке и отличный слух. Это правда, потому что ты каждое утро старательно моешь уши. И тебе уже купили пианино. Ты всегда помогаешь маме по дому, потому что интересно и потому что любишь, когда хвалят. У тебя много друзей. Когда был день рождения, то все даже не поместились за столом. А в сентябре (остался всего месяц!) ты пойдешь в 1-й класс и сразу в музыкальную школу.
Завтра вернется папа и вы всей семьей пойдете покупать все новое к школе тебе и братьям.
Завтра не наступает, потому что мама ушла на небо. Это непонятно, потому что ты сама видела, как она лежала в новом незнакомом платье в красивом ящике с ручками, который потом закопали в ямку и засыпали песком, а сверху положили венки и букеты. И как она потом сумела оттуда выбраться и зачем полезла на небо, если можно было пойти домой? Кто-то из взрослых, как обычно, что-то врет, считая, что ты маленькая. Папы тоже нет, потому что его забрала милиция. Тетя Катя, которая так похожа на маму, потому что ее сестра, сказала, что его не будет очень долго, потому что он убил того дядьку, который наехал на маму своей машиной. Коля и Жора поедут с тетей Катей и будут жить у нее, а тебя она взять не может, говорит, что ты чужая. Вы в три голоса объясняете, что ты своя, просите и плачете, но тетя Катя и ее толстый муж ничего не хотят слушать. Утром соседка тетя Люба берет две сумки с твоими вещами и игрушками и ведет тебя в Дом ребенка, потому что тетя Катя ушла раньше, они опаздывали на поезд. Ты видела в окно, как Колю и Жору тянули за руки к машине, они плакали и упирались, и тогда толстый муж тети Кати схватил их обоих зауши и затолкал внутрь. Их было очень жалко, и ты обрадовалась, что тебя оставили.
…Людмила Борисовна Жемчужникова, закончив с «красным» дипломом юридический факультет, работает в Тульской областной коллегии адвокатов и успешно идет к цели — стать лучшей среди коллег. Она занята по десять-двенадцать часов в сутки, практически без выходных и отпусков, блестяще выигрывает самые сложные дела и в своем движении к цели вполне удовлетворена собой.
4. Иванова Светлана Ивановна направлена из приемной семьи Кузнецовых в Дом ребенка г. Пензы в возрасте 6 лет в связи с досрочным расторжением договора из-за прекращения приемной семьи вследствие смерти матери и осуждения отца на длительный срок (информация из архива Дома ребенка г. Пензы).
Ничего хорошего больше не будет. Они все-таки заставили тебя сказать, что ты Иванова, а не Кузнецова.
Ты не жадная, в первый же день подарила девочкам все свои вещи из дома и игрушки. Оставила себе только полосатого плюшевого котенка — мамин подарок ко дню рождения. Но они все равно ненавидят тебя и издеваются, потому что у тебя был дом, семья, мама. У них не было и не будет. Как все смеялись в первый же день, когда врунья Лилия Павловна, знакомя тебя, сказала, что ты Иванова, а не Кузнецова. А когда ты отказалась повторить — поставила тебя в угол. И как все дразнили тебя «Вруша — гнилая груша», когда ты рассказывала о доме. Не надо ничего вспоминать и нельзя ничего никому никогда рассказывать. А котенка кто-то украл, пока ты была в школе. Скоро кончится год, ты переедешь в другой детский дом, и там все будет по-другому. Жалко только тетю Любу, соседку, которая навещает тебя, и бабу Клару, что работает на кухне. Она знала маму, жалеет тебя и даже иногда по вечерам дает тихонько что-нибудь вкусное, потому что есть хочется всегда.
…Людмила Борисовна Жемчужникова приобрела популярность как блестящий адвокат по корпоративному праву и имущественным спорам. Личная жизнь не складывается, но и необходимости в этом она не чувствует. Меняются мужчины, но близкого человека рядом по-прежнему нет.
5. Иванова Светлана Ивановна в возрасте 7 лет переведена в Яснопольский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (информация из архива Дома ребенка г. Пензы).
Младшим здесь было хуже всех. Днем, на глазах воспитателей, все было как полагается: послушные дети занимались развивающими играми по возрастным группам, изредка ссорились (как без конфликтов в семье?), готовили уроки, посещали кружки по интересам. Довольные образцовым порядком спонсоры любили навещать этот детдом, запоминали самых успешных, устраивали праздники и привозили подарки.
Когда вечером наступало личное время и два дежурных воспитателя, убедившись, что все спокойно, занимались своими делами, детдом начинал жить в реальности, созданной старшими воспитанниками. Главным был Саша Извольский, красивый 9-классник, отличник, садист и психопат. Он был намного главнее директора детдома. Ему нужно было подчиняться беспрекословно. Сказал облизать унитаз — значит, лучше облизать, все равно заставят. Ослушавшихся не били, они просто пропадали куда-то ночью, а утром дежурный сообщал директору, что воспитанник (воспитанница) ушел в «бега». Однажды ночью Света сама видела, как Тому, ее соседку, которая отказалась сосать у Извольского его мужской краник, двое старших завернули в простыню и унесли куда-то, зажимая рот. А утром на линейке объявили, что Тома убежала. Светлана молча дрожала от страха: вдруг кто-то видел, что она не спала. Этот страх поселился в ней прочно и надолго, лишал сна, в темноте спальни все время чудилось, что пришли за ней. Позже она сообразила, что нужно подружиться со старшими любым путем, это гарантия безопасности. И она первая на глазах заинтересовавшегося Извольского, сама, без указаний, ударила кулаком Лилю Генешеву, с которой дружила, когда та отказалась отдать Петьке-Репе подаренный ей накануне набор красок. Краски все равно забрали, Лилю предупредили, чтобы не смела жаловаться, а Свету, еще совсем малявку, единственную из младших, допустили в «команду» Извольского. Она научилась драться кулаками, ногами, бить головой в лицо, тыкать пальцами в глаза, ногтями рвать уши противника. В вечерних драках в подвале, которые так любили устраивать и смотреть старшие, она побеждала почти всегда, даже мальчишек старше себя, хоть ей было всего десять, потому что единственная из детей твердо усвоила и прочувствовала: если не ты, то тебя… Ей многое было противно, но, стиснув зубы, она не просто молчала, но и участвовала, потому что хотела выжить.
Жемчужникова, наконец, получила возможность посмотреть мир. Первой и самой лучшей ее поездкой была экскурсия во Францию «Замки Луары».
Пленительная и светлая французская весна была изысканным фоном для ограненных веками стен Блуа. Поздняя готика сквозь столетия так органично слилась с итальянским ренессансом и барокко, что замок, огромный, разноплановый, издали казался изящной миниатюрой. Ажурные винтовые лестницы Да Винчи, казалось, созданные из облаков, а не из камня, парили в воздухе. Роскошные и строгие покои хранили память о Медичи и Гизах, Гастоне Орлеанском и Бурбонах. В этих стенах оживала история, ее можно было коснуться и ощутить.
Строгая простота башен Анжера была особенно величественной в обрамлении бушующих красками, геометрически выверенных цветников и газонов. Неожиданное единство стен, выстоявших тысячу лет, и ярко-озорных петуний, красующихся всего несколько недель, удивляло и запоминалось, как и французское чудо — 144-метровое полотно «Апокалипсиса».
Потом были роскошные сады Вилландри; карамельно-розовый Кло-Люсе, где была создана Мона Лиза; самый древний и самый скромный Ланжэ, хранящий память о своем первом хозяине — Ричарде Львиное сердце; изящный и романтичный Сомюр, скрывающий в себе одну из самых страшных тюрем средневековой Франции; огромный и величественный Шамбор, памятник любви Франциска I; по-домашнему уютный Шато-де-Рео. Громкие имена, величие и трагедии, смерть и любовь, победы и поражения — десять столетий хранили память и время для каждого следующего поколения камни крепостных стен. Душа переполнилась.
И в часовне замка Амбуаз в почтительном молчании у останков великого Да Винчи пришло осознание единства времени и жизни, когда нет разделения на нации и страны, отрезки истории и заслуги, а есть общая человеческая жизнь во времени, частица которой — каждый.
6. Иванова Светлана Ивановна в возрасте 11 лет передана в патронатную семью Щербак по договору (информация из архива Яснопольского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
Все кончилось! Ее берут на патронирование! Пусть в семье еще двое приемных, она все будет делать, стараться, только бы не возвращаться сюда!
…Они были чем-то похожи, супруги Щербак: голубоглазые, румяные, добродушные, оба одного роста, с круглыми животиками. Радостно встретили Светлану, домой шли, держа ее за руки. Ей было немножко неловко, не маленькая уже, но, чувствуя тепло надежных взрослых ладоней, рук она не выдернула. Знала, что за окнами детдома — завистливые взгляды оставшихся.
Дом был старый, маленький, всего две небольших, но очень чистеньких комнаты и кухня, она же прихожая. Одну комнату занимают тетя Аня и дядя Витя, в другой разместились Таня и Лера, а теперь будет жить и Светлана. Девочки были в школе. Как поняла Светлана, спали они на большом раскладном диване вместе, ей же между дверью и печкой поставили кресло-кровать.
Тетя Аня работала проводником на железной дороге, по графику — три дня через три, дядя Витя — кладовщиком на базе. Семье должны были скоро выделить большую 4-комнатную квартиру.
В будке у крыльца вилял хвостом огромный лохматый Дик, в сарае жили куры и два поросенка, в кухне на печке развалился и недовольно приоткрыл зеленый глаз серый пушистый кот.
Вернулись из школы Таня и Лера (Таня училась в 7-м классе, Лера — в 8-м в той же школе, что и Света), познакомились, сели обедать. Светлана попробовала необыкновенно вкусный густой борщ («В печке готовлю, потому такой наваристый, кушай, не стесняйся», — ласково улыбнулась тетя Аня), вспомнила, как все вместе обедали дома, когда отец возвращался из рейса, и… заплакала. Все засуетились, тетя Аня крепко прижала ее к себе и гладила по голове, пока Светлана не успокоилась. И было еще два дня счастья, до субботы, пока тетя Аня была дома. Она уехала рано утром и должна была вернуться во вторник. Девочки разбудили Свету, тащили с собой в школу, но она решила идти в понедельник, все равно уже пропустила три дня, и отказалась. Сквозь дремоту слышала, как они ушли, как дядя Витя чем-то стучал во дворе, нужно было вставать, но было так уютно в чистой постели у теплой печки, что она снова уснула.
Пробуждение было страшным. Как она, полусонная, худенькая 11-летняя девочка могла справиться с грузным 40-летним распаленным похотью педофилом? Она пыталась высвободить руки, ударить его головой, укусить жесткую ладонь, зажимающую рот, но чудовищная боль нахлынула на нее изнутри и погасила сознание.
Очнулась через несколько часов от того, что Лера хлопала ее по щекам: «Очнись, ну очнись же ты!» Рядом стояла и плакала Таня. Болело все тело, попыталась сесть, боль с новой силой вспыхнула внизу, в животе. Она застонала и опять потеряла сознание. Второй раз очнулась, когда за окнами уже было темно. Таня и Лера сидели за столом, о чем-то тихо говорили. Она попросила воды. Таня подхватилась, принесла попить.
Девочки пересели к ней. Заговорили. Все было так плохо, что нельзя было даже представить. Они жили в семье Щербаков почти год. Щербаки хотели получить большую квартиру, потом продать ее и купить меньшую, на двоих. Потом на разницу — открыть магазин. Им нужно было трое патронируемых детей. Своих не было, потому что тетя Аня была серьезно больна по-женски и муж ее не трогал. И Таню, и Леру он насиловал с самого первого дня. Тетя Аня знала об этом, но мужа не останавливала. На жалобы девочек сказала, что им, детдомовским, никто не поверит, потому что в милиции есть знакомые. Хотят жить — пусть живут, не хотят — пусть возвращаются в детдом.
В дверь заглянул как ни в чем не бывало дядя Витя: «Ну что, оклемалась? Ничего страшного. Сама потом спасибо скажешь. Поболит — перестанет. Я тебя пару-тройку дней не трону. Полежи. Но чтобы к понедельнику была как штык, в школу пойдешь… Белье, девчата, смените и постирайте. Вода в печке. На, вот, ешь…» — и бросил на одеяло в засохших потеках крови большой оранжевый апельсин. Больше никогда в жизни она не сможет есть апельсины.
Ночью она лежала без сна и думала, думала… К утру уже знала, что сделает. Она пойдет и все расскажет Саше Извольскому. И ребята за нее отомстят.
В воскресенье после обеда дядя Витя ушел в баню. Света, сжав зубы от боли, пошла в детдом. Ей показалось, что повезло: все были в кино на дневном сеансе, а Извольский со своими что-то обсуждал в подвале. Захлебываясь слезами, она рассказала им все. Они ржали и матерно комментировали ее рассказ. А Извольский, ухмыляясь, предложил вернуться в детдом, мол, раз она теперь не целка, то зачем ей старый хрен, когда тут у всех молодые. Еще на что-то надеясь, она все-таки спросила:
— Если я вернусь, вы его убьете?
И получила в ответ:
— Ты давай, начинай отрабатывать, а там посмотрим… Волоки ее, Репа!
Ее спасли раздраженные голоса воспитателей, спускавшихся по лестнице: «Опять они в этом подвале! Как медом им тут намазано! Сколько замков попортили! Всех до одного к директору!» Чтобы ни с кем не столкнуться, она бросилась в боковой проход между трубами отопления и выскочила во двор через запасную дверь, потом через дыру в ограде — в переулок. Возвращаться в детдом было нельзя. Придется идти к Щербакам… Она больше не плакала.
…Людмиле Борисовне из мокрого холодного предзимья хотелось к теплому морю и солнцу. Уже в третьем турагентстве она рассматривала варианты поездок на Бали, в Коста-Рику и в Израиль.
7. Иванова Светлана Ивановна в возрасте 11 лет 10 месяцев передана из патронатной семьи Щербак в Яснопольский детский дом в связи с расторжением договора по инициативе главы семьи (информация из архива Яснопольского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
В понедельник, вернувшись из школы, она выбрала в ящике кухонного стола нож с длинным тонким лезвием и небольшой рукояткой. В левой половине сарая, где хранились разные инструменты, нашла круглый точильный камень, насаженный на ручку и закрепленный в подставке. Очень удобно: крутишь ручку — камень вращается, водишь лезвием вдоль — и оно быстро натачивается. За полчаса работы она наточила нож с обеих сторон. Положила на место точильный камень, сверху разложила инструменты, как раньше.
Таня и Лера уже накрыли на стол. Пообедали, сели за уроки. Когда закончили, дружно отклеили уже заклеенные на зиму оба окна, вынули подвойные рамы, чтобы можно было открыть окно сразу, на всякий случай. Под стол на кухне поставили бутылку из-под шампанского, налитую водой.
Дядя Витя задержался на работе, пришел только в 7 вечера, злой и нетрезвый. Цыкнул, чтоб собирали ужин, ушел мыть руки на улицу к рукомойнику. Вернулся, молча поужинали. Настроение у него улучшилось:
— Ну что, девчата, завтра на работу рано, чего тянуть, давайте, раздевайтесь… Чья там очередь? Тебя, Светка, не трону сегодня… Смотри, учись. Давай, Лера, снимай свою сбрую, проверим, а вдруг сисечки подросли… — и замолк, натолкнувшись на взгляд Светланы, жесткий, совсем не детский. Не поверил собственным ушам, когда услышал слова этой соплюшки:
— Никто не будет раздеваться. Ни теперь, ни потом. Ты сейчас тихо ляжешь и до утра не шевельнешься.