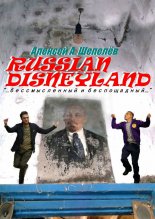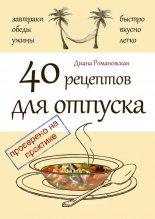Невероятное путешествие мистера Спивета Ларсен Рейф
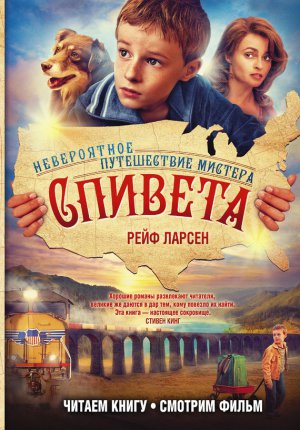
Reif Larsen
The Selected Works of T. S. Spivet
Печатается с разрешения автора и литературных агентств Denise Shannon Literary Agency, Inc. и Prava I Prevodi International Literary Agency
Copyright © 2009 by Reif Larsen
© М. Виноградова, перевод на русский язык
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Кэти
Часть I
Запад
Глава 1
Телефон зазвонил августовским вечером, когда мы с моей старшей сестрой Грейси сидели на заднем крыльце и лущили сахарную кукурузу в здоровенные жестяные ведра. На ведрах еще виднелись маленькие отпечатки зубов – с прошлой весны, когда наш дворовый пес Очхорик внезапно впал в депрессию и начал жрать металл.
Пожалуй, следует уточнить. Когда я говорю, что мы с Грейси лущили сладкую кукурузу, на самом деле я имею в виду, что кукурузу лущила Грейси, а я рисовал в одном из моих синих блокнотиков на пружинке картограмму, как именно она лущит кукурузу.
Все мои блокноты маркированы по цветам. Синие, аккуратно выстроенные по южной стене спальни, зарезервированы под «Схемы того, как люди что-нибудь делают», в отличие от зеленых блокнотов на восточной стене, где содержатся зоологические, геологические и топографические карты, или красных на западной стене, куда я зарисовываю анатомию насекомых в тех случаях, когда моя мать, доктор Клэр Линнеакер Спивет, прибегает к моим услугам.{1}
Как-то я решил занять и северную стену, но, увлекшись наведением порядка, позабыл, что там расположен вход в комнату, и когда доктор Клэр открыла дверь, чтобы позвать меня за стол, полка рухнула мне на голову.
Я сидел на ковре с портретами Льюиса и Кларка, придавленный грудой блокнотов и книжной полкой.
– Я умер? – спросил я, зная: даже если и так, она все равно не скажет.
– Никогда не позволяй работе загонять себя в угол, – промолвила из-за двери доктор Клэр.{2}
Наше ранчо лежало к северу от Дивайда – захолустного городка в Монтане, такого крохотного, что его даже с шоссе легко не заметить, если вдруг не вовремя вздумаешь настраивать радио. Окруженный горами Пионер-маунтинс, Дивайд угнездился в плоскодонной долине, где в зарослях полыни валяются обгорелые остовы неполноприводных автомобилей – напоминание о днях, когда тут и впрямь кто-то жил. Железная дорога вступает в город с севера, а Биг-Хоул-ривер втекает с запада, и обе уходят на юг, на поиски более сочных пастбищ. Манерой же прохождения и запахами они разнятся: железка устремляется прямо вперед, не задаваясь вопросами о скальной породе, которую взрезает; ее рельсы пахнут осевой смазкой, шпалы источают едкий лакричный аромат. Биг-Хоул-ривер, наоборот, – беседует с землей, петляет по долине, собирает по пути ручьи и речушки, потихоньку выискивает путь наименьшего сопротивления. Пахнет она мхом, тиной, полынью, а иногда черникой – если время года подходящее, хотя вообще-то подходящего времени года не выдавалось вот уже много лет.
В те дни железнодорожной станции в Дивайде не было, и только состав «Юнион Пасифик», грохоча, проносился через долину в 6:44, 11:53 и 17:15, плюс-минус пара минут в зависимости от погодных условий. Расцвет шахтерских городков Монтаны давным-давно миновал, теперь поездам останавливаться стало незачем.
Когда-то в Дивайде был салун.
– Салун «Синяя луна», – говорили мы с моим братом Лейтоном, плавая на лодке по речке и высокомерно задирая носы, как будто в сие заведение захаживала исключительно знать, хотя скорее-то было ровно наоборот: в те дни Дивайд посещали захолустные скотоводы, одержимые рыбаки, да время от времени заезжий террорист Унабомбер, а не франтоватые пижоны, охочие до салонных игр.
Ни Лейтон, ни я сроду не бывали в «Синей луне», однако домыслы о том, как там внутри и кто туда ходит, легли в основу множества фантазий, которым мы предавались, лежа в лодке на спине. Вскоре после смерти Лейтона «Синяя луна» сгорела – но к тому времени салун, даже охваченный пламенем, был уже не источником вдохновения, а всего-навсего еще одним горящим – вот уже и догоревшим – зданием в долине.
Если встать на том месте, где когда-то была железнодорожная платформа, рядом с белым заржавевшим знаком, на котором, если прищуриться и взглянуть под определенным углом, еще различается название Дивайд – так вот, если с этого места при помощи компаса, звезд или просто интуиции взять курс ровно на север и пройти 4,73 мили, продираясь через колючий кустарник над руслом реки, а потом по заросшим дугласовыми пихтами холмам, то упрешься в передние ворота нашего маленького ранчо, Коппертоп, угнездившегося на изолированном плато на вышине 5343 фута над уровнем моря: швырни камень на север – аккурат добросишь до континентального водораздела, в честь которого город и получил свое название.
Водораздел, о, водораздел! Я вырос в тени этой великой границы у себя за спиной, и его тихое, неизменное присутствие проникло в меня до мозга костей. Водораздел был массивной, раскинувшейся чертой, заданной не политикой, войнами или религией, а лишь тектоническими плитами, гранитом и силой тяжести. Как же интересно: ни один американский президент не узаконивал эту границу полноправным указом, однако очертания ее миллионом разнообразных невысказанных способов повлияли на расширение и формирование американских рубежей. Этот зазубренный часовой разрезал водосборные бассейны страны на восточный и западный, Атлантический и Тихоокеанский – и к западу вода была золотом: куда она шла, туда следовал и народ. Капли дождя, упавшие чуть западнее от нашего ранчо, попадали в ручьи, что через систему Колумбия-ривер стекали в Тихий океан, тогда как водам нашего ручья, Фили-крик, отводилась почетная роль пропутешествовать еще тысячу миль – всю дорогу вниз до заболоченных протоков Луизианы – и через глинистую дельту влиться в Мексиканский залив.
Континентальный водораздел как фрактал. Из блокнота С58
Мы с Лейтоном, бывало, взбирались на «Лысину», самый гребень водораздела – Лейтон, сжав обеими руками стакан с водой, силясь не пролить ни капли, а я – с примитивным фотоаппаратом, который сам смастерил из обувной коробки. Я фотографировал, как он носится взад-вперед и льет воду то на одну сторону холма, то на другую, а сам вопит по очереди с этим своим классным креольским акцентом: «Привет, Портленд!», «Здорово, Новый Орлеан!» Как я ни совершенствовал механизм, мне так и не удалось запечатлеть на снимке весь героизм Лейтона в этот момент.
Как-то после одной такой вылазки он заявил прямо за обеденным столом:
– А от реки многому можно научиться, правда, па?
И хотя отец в тот раз ничего не ответил, по тому, как он доедал картофельное пюре, видно было: слова сына пришлись ему по вкусу. Мой отец любил Лейтона больше всего на свете.
Итак, Грейси на крыльце лущила кукурузу, а я зарисовывал. Трещотки и жужжалки наполняли поля вокруг нашего ранчо томной музыкой, над землей плыл август – густой, знойный, памятный. Монтана сияла воплощением лета. Неделей раньше я наблюдал, как над мягким, поросшим еловым лесом хребтом Пионер-маунтинс медленно и тихо занимается рассвет. Я просидел всю ночь, заполняя блокнот-мультфильм, где древняя схема человеческого тела в представлениях династии Цинь накладывалась на триптих о трактовке работы внутренних органов племенами навахо, шошонов и шайенов.
На заре я босиком вышел на заднее крыльцо. Меня чуть лихорадило. Даже после бессонной ночи я ощущал мимолетное волшебство этого мгновения, поэтому заложил руки за спину и стискивал себе мизинец, пока солнце наконец не явило из-за хребта свой неведомый лик и не сверкнуло прямо мне в глаза.
Потрясенный, я присел на ступеньки крыльца, и лукавые деревянные доски не упустили случая затеять со мной разговор:
– Сейчас тут только ты да я, паренек, – споем, что ли, вместе тихонько, – проскрипело крыльцо.
– У меня полно работы, – ответил я.
– Какой еще работы?
– Не знаю, всякой, по хозяйству. Тут, на ранчо.
– Тебе не место на ранчо.
– Правда?
– Ты не насвистываешь ковбойские песенки и не плюешься в жестянки.
– Да я вообще не очень-то хорошо плююсь. Я люблю карты.
– Карты? – переспросило крыльцо. – Да что тут зарисовывать на картах? Плюйся в жестянки. Оседлай этот край. Смотри на вещи проще.
– Тут полно всего, что можно нанести на карту. И мне некогда смотреть на вещи проще. Я вообще не очень понимаю, что это значит.
– Нет, ранчо не для тебя. Ты болван.
– Я не болван, – возразил я. Но потом не утерпел: – Или все-таки?
– Тебе одиноко, – заявило крыльцо.
– Правда?
– Где он?
– Не знаю.
– Знаешь.
– Да.
– Тогда садись и насвистывай заунывную ковбойскую песенку.
– Но я еще не закончил с картами. Тут так много всего, что я еще могу нарисовать!{3}
Когда мы с Грейси лущили кукурузу, на крыльцо вышла доктор Клэр. Услышав, как под ее шагами заскрипели половицы, мы с Грейси разом подняли головы. Большим и указательным пальцами доктор Клэр крепко сжимала булавку, на которой поблескивал зеленовато-синим металлическим отливом жук. Я опознал Cicindela pupurea lauta, редкий подвид орегонского жука-скакуна.
Моя мать высока и костлява, а кожа у нее такого мучнистого оттенка, что когда мы ездили в Бьютт, на нее оборачивались прохожие. Одна старушка в цветастой широкополой шляпе даже сказала своему спутнику: «Глянь только, какие запястья тонкие!» И между прочим, правильно подметила: не будь доктор Клэр моей матерью, я б тоже решил, будто с ней что-то неладно.
Черные волосы доктор Клэр забирала в тугой пучок, державшийся на двух полированных шпильках, похожих на кости. Она распускала волосы только на ночь, да и то лишь за закрытыми дверьми. В детстве мы с Грейс по очереди подглядывали в замочную скважину за потаенными вечерними сценами. Скважина была слишком маленькой, всю картину толком не разглядишь – видно было только, как ходил взад-вперед ее локоть, словно мама работала за старинным ткацким станком. Или, если везло, чуть подвинувшись, можно было увидеть несколько прядок волос и расческу, что исчезала и снова появлялась, с тихим шелестом скользя по волосам. Подглядывание, замочная скважина, шелест – в ту пору все это казалось таким восхитительно дерзким.
Лейтона, как и отца, ни красота, ни гигиена ничуть не интересовали, так что он к нам никогда не присоединялся. Их с отцом вотчина располагалась в полях, где гуртовали коров и объезжали норовистых жеребцов.
Доктор Клэр носит массу всяких зеленых побрякушек – хризолитовые сережки, браслеты с сапфирчиками. Даже цепочка для очков у нее из малахитовых бусин: камешки мама нашла в Индии, когда была в экспедиции. Во всех этих зеленых украшениях, со шпильками в волосах, она иногда напоминает мне березку по весне – вот-вот расцветет.
Несколько секунд доктор Клэр молча стояла на крыльце, рассматривая Грейси, зажавшую между ног здоровенное жестяное ведро с желтыми початками, и меня, пристроившегося на ступеньках с блокнотом и в налобной лупе. Мы с Грейси уставились на нее.
– Тебя к телефону, Т. В., – наконец произнесла она.
– Его? К телефону? – поразилась Грейси.{4}
– Да, Грейси, Т. В. к телефону, – повторила доктор Клэр не без удовлетворения в голосе.
– А кто? – поинтересовался я.
– Не могу точно сказать. Я не спрашивала, – ответила мама, подставляя жука на булавке под свет. Доктор Клэр из тех матерей, что с самого младенчества, кормя вас кашкой, заодно пичкают сведениями о периодической таблице элементов – но даже в наш век международного терроризма и киднеппинга не удосужатся спросить, а кто, собственно, названивает их отпрыскам.
Мне было любопытно, кто это звонит, однако я еще не закончил карту, а от незаконченных карт у меня всегда в горле словно бы что-то тикает.
На схеме «Грейси лущит кукурузу № 6» я обозначил циферкой 1 место, где она с самого начала хватает початок за верхушку. Потом она три раза резко проводила початком вниз: вжик, вжик, вжик – это движение я обозначил тремя стрелками, хотя одна была чуть меньше двух других: потому что первый раз всегда давался туго, ведь приходится преодолевать изначальную инерцию обертки початка. Мне нравится треск рвущейся кожуры – эта резкость, дробные щелчки натянувшихся и лопающихся шелковистых нитей всегда вызывают у меня в голове картинку, как кто-то в припадке безумия, о котором вскоре и сам пожалеет, рвет дорогие (и, скорее всего, итальянские) брюки. По крайней мере, именно так Грейси лущила кукурузу – или кущила лукурузу, как я иногда говорил смеху ради, в припадке озорства: не знаю уж, почему, но маму всегда очень раздражала моя манера коверкать слова. Не стоит ее винить – она ведь ученый-по-жукам и провела всю свою взросло-сознательную жизнь, разглядывая в лупу очень маленьких существ и определяя их, согласно морфологическим и эволюционным признакам, по семействам и суперсемействам, видам и подвидам. У нас над камином, к молчаливым, но беспрестанным протестам отца, даже висит портрет Карла Линнея, шведского основоположника современной таксономической системы классификации. Поэтому в общем неудивительно, что доктора Клэр раздражало, когда я говорил «пузнечик» вместо «кузнечик» или «сбаржа» вместо «спаржа» – ведь она по роду деятельности должна обращать внимание на мельчайшие детали, недоступные человеческому глазу, удостовериваясь, что наличие волоска на кончике мандибулы или крохотных белых пятнышек на надкрыльях означает принадлежность жука к виду C. purpurea purpurea, а не C. purpurea lauta{5}. Лично я считал, что маме лучше бы поменьше переживать из-за моих словесных игр – вполне уместной для двенадцатилетнего мальчишки умственной гимнастики, – зато обращать побольше внимания на исступление, с каким Грейс лущила кукурузу, потому что вот оно-то как раз шло вразрез с ее обычным образом совершенно взрослого человека, запертого в теле шестнадцатилетней девочки, и, на мой взгляд, свидетельствовало о некоторой смутной и ни на кого не направленной агрессии. Пожалуй, могу смело утверждать: хотя Грейси всего на четыре года старше меня, однако по части зрелости, здравого смысла, знания социальных традиций и понимания значимости драматической позы она обгоняла меня куда как сильнее. Возможно, конечно, отрешенно-исступленное выражение, которое она старательно удерживала на лице, пока лущила кукурузу, было именно демонстрацией, еще одним свидетельством того, что Грейси – непризнанная великая актриса, оттачивающая свое мастерство во время выполнения бесчисленных и нудных работ по ранчо. Возможно… но я все же склонялся к идее, что под всей своей целомудренной внешностью моя сестрица именно такая и есть – исступленно-безумная.
О, Грейси! По словам доктора Клэр, она просто блистала в главной роли школьного спектакля «Пираты Пензанса». Сам-то я на представление так и не выбрался, поскольку заканчивал для журнала «Сайнс» поведенческую схему того, как самка австралийского жука-навозника Onthophagus sagittarius использует рога во время спаривания. Доктору Клэр я об этом проекте не рассказывал – просто пожаловался, что живот болит, а сам скормил Очхорику шалфея, чтоб его вывернуло прямо на крыльце, и сказал, что это меня: как будто это я нажевался шалфея, мышиных костей и собачьего корма. Должно быть, Грейс в роли пиратской жены и в самом деле выглядела потрясающе. Она вообще потрясающая – и, верно, самая нормальная в нашем семействе, потому что, уж коли на то пошло, доктор Клэр – заблудший колеоптеролог, на протяжении двадцати лет преследовала фантомную разновидность жука-скакуна (монаха-скакуна, Cicindela nosferatie), в существовании которого не была окончательно убеждена даже она сама. Отец же наш, Текумсе Илайя Спивет – немногословный и задумчивый ковбой-объездчик, из тех, что зайдут в комнату, скажут что-нибудь вроде «Сверчка не одурачишь», да с тем и выйдут. Из тех людей, что родились лет этак на сто позже своего времени.{6}
– Он там, наверное, уже устал ждать, Т. В. Подошел бы ты к телефону, – промолвила доктор Клэр. Она явно обнаружила в C. purpurea lauta на кончике булавки что-то интересное: брови у нее поехали вверх, потом вниз, потом снова вверх, она развернулась на каблуках и скрылась в доме.
– Мне надо закончить с кукурузой, – сообщила Грейси.
– Ерунда какая! – возмутился я.
– Нет, надо, – твердо возразила она.
– Только попробуй, – пригрозил я, – и я не стану тебе помогать с костюмом на Хэллоуин.
Грейси чуть помолчала, прикидывая серьезность угрозы, и снова повторила:
– Надо, и закончу.
И решительно ухватила очередной початок.
Я с подчеркнутой аккуратностью снял с головы налобную лупу, закрыл блокнот и положил на него карандаш, по диагонали, стараясь всем видом убедить Грейси, что скоро вернусь – что вся эта история со схемой еще не закончена.
Проходя мимо двери в кабинет доктора Клэр, я видел, как она сражается с огромным таксономическим словарем, причем открывает его одной рукой, потому что во второй все еще держит булавку с жуком. Вот такой-то я и буду вспоминать мою мать, когда (и если) ее не станет: как она уравновешивает хрупкий экземпляр насекомого против громоздкой системы, к которой оно принадлежит.
Попасть на кухню, где стоял телефон, я мог бесконечным множеством разных маршрутов, каждый из которых содержал свои «за и против». Маршрут «холл-буфетная» был самым прямым, но и самым скучным. Маршрут «вверх-вниз по лестнице» предоставлял максимальную физическую нагрузку, но из-за неизбежной смены высоты над уровнем моря я начинал испытывать легкое головокружение. Сейчас же в горячке момента я остановился на маршруте, которым пользовался редко, особенно если по дому рыскал отец. Осторожно приоткрыв некрашеную сосновую дверь, я проскользнул в сумрак Ковбойской гостиной.
Из всех комнат дома только Ковбойская была явственно отцовской. Он отстаивал права на нее с молчаливой яростью, которой никто даже и не пробовал бросать вызов. Отец редко говорил, все больше мямлил что-то нечленораздельное, но как-то за обедом, когда Грейси принялась настойчиво вещать о том, что стоило бы превратить Ковбойскую в нормальную человеческую гостиную, где «нормальные» люди могли бы расслабиться и вести «нормальные» человеческие разговоры, отец медленно вскипал над своим пюре, пока мы все не услышали какое-то звяканье и, оглядевшись, не поняли, что он раздавил в кулаке рюмку для виски. Лейтону это понравилось. Я помню, он просто в восторг пришел.
– Это последний уголок во всем доме, где я могу приткнуться и сбросить сапоги, – заявил отец. С ладони у него прямо в пюре стекали кровавые струйки. На том и закончилось.
Ковбойская была своего рода музеем. Перед смертью мой прадед Текумсе Реджинальд Спивет{7} подарил моему шестилетнему отцу на день рождения кусок медной руды с карьера концерна «Анаконда». Он таскал камни с карьера в самом начале века, в те времена, когда Бьютт был процветающим горнодобывающим центром и самым крупным городом между Миннеаполисом и Сиэтлом. Кусок руды так зачаровал моего отца, что тот со временем принялся от случая к случаю собирать всякую всячину, щедро разбросанную под открытым небом.
На северной стене Ковбойской гостиной, рядом со здоровенным распятием, к которому отец каждое утро почтительно притрагивался, голая лампочка без абажура неловко освещала алтарь Билли Кида: шкурки гремучих змей, пыльные кожаные ковбойские штаны и древний кольт сорок пятого калибра обрамляли портрет знаменитого пирата прерий. Папа с Лейтоном попыхтели, составляя эту композицию. Может, со стороны и странно видеть, что Господу и западному бандиту воздаются равные почести, но именно так у нас на Коппертоп-ранчо дело и обстояло: отец руководствовался неписанным Ковбойским кодексом, впечатанным в него его любимыми вестернами ничуть не хуже любого стиха из Библии.
Лейтон всегда считал, что лучше Ковбойской ничего на свете нет, ну разве что жареный сыр. По воскресеньям после церкви они с отцом до вечера просиживали там и смотрели бесконечные вестерны по телевизору, стоявшему в юго-восточном углу комнаты. Сзади хранилась обширнейшая, очень тщательно подобранная коллекция видеокассет. «Красная река», «Дилижанс», «Искатели», «Скачи по высокогорью», «Моя дорогая Клементина», «Человек, который застрелил Либерти Вэланса», «Монти Уолш», «Сокровища Сьерра-Мадре» – я не смотрел эти фильмы, но столько из них впитал осмотическим путем, что они стали для меня не сокровищами кинематографии, а самыми частыми и личными снами. Часто, когда я приходил домой из школы, меня встречала приглушенная пальба и лихорадочный стук копыт на экране чудного телевизора, отцовского варианта вечного огня. Самому отцу недосуг было смотреть телевизор в разгар рабочего дня, но, сдается, ему нравилось, что кино так и идет без остановки внутри, пока он снаружи.
И все же не только телевизор придавал Ковбойской гостиной ее особенную атмосферу{8}. Там было полно всевозможного старого ковбойского хлама: лассо, удила, недоуздки, стремена, сапоги, изношенные вдрызг за десять тысяч миль по прериям, кофейные кружки, даже пара женских чулок, некогда принадлежавших одному чудаковатому ковбою из Оклахомы – по его словам, они помогали ему не сбиваться с пути. Повсюду виднелись блекнущие и окончательно поблекшие фотографии безымянных наездников на безымянных скакунах. Мыльный Уильямс в бешеной скачке на Светлячке – гибкая фигура изогнута самым немыслимым образом, но каким-то чудом еще удерживается на спине брыкающегося жеребца. Все равно что смотреть на удачный брак.{9}
На западной стене, за которой каждый вечер заходило солнце, отец повесил индейское одеяло из конского волоса и портрет самого первоначального Текумсе и его брата Тенскватава, шамана племени шауни. А на каминной полке над фарфоровым вертепом даже высилась мраморная статуэтка бородатого финского бога Вяйнемейнена, которого мой отец объявлял первым ковбоем еще до открытия Дикого Запада. Он не видел ни малейшего противоречия в сочетании языческого божка со сценой рождения Христа.
– Иисус любит всех ковбоев, – говаривал он.
Если спросите меня – а отец никогда не спрашивал, – так устроенный мистером Т. И. Спиветом мавзолей Старого Запада запечатлел мир, которого, в первую очередь, и вовсе никогда не существовало. Нет, конечно, во второй половине девятнадцатого века настоящие ковбои еще не перевелись, но к тому времени, как Голливуд начал лепить образ Запада из вестернов, бароны колючей проволоки давным-давно уже раскроили равнины на обнесенные заборами ранчо, а эра долгих перегонов безвозвратно миновала. Мужественные парни в кожаных штанах, высоких сапогах и выцветших на солнце ковбойских шляпах уже не гнали стада на тысячи миль от колючих равнин Техаса к северу по ровным просторам безбрежных земель, населенных враждебными племенами команчей и дакота, чтобы наконец объявиться в каком-нибудь оживленном перевалочном железнодорожном пункте в Канзасе, откуда коров отправляли на восток. Сдается мне, отца привлекали не столько реальные ковбои тех давних дней, сколько меланхоличные отзвуки долгих перегонов – меланхолия, пропитывавшая все до единого фильмы в коллекции за телевизором. Фальсифицированные воспоминания – причем даже не его лично, а фальсифицированные общекультурные воспоминания – вот что грело отца, когда он усаживался в заповедной Ковбойской комнате, поставив сапоги у порога и с поразительной регулярностью каждые сорок пять секунд поднося ко рту стакан с виски.{10}
Я никогда не подкалывал отца по поводу противоречивости выставки в его Ковбойской комнате – и не только потому, что заработл бы лишь первоклассную порку, но и потому, что сам, в свою очередь, грешу некоторой тоской по Дикому Западу. По субботам я отправлялся в город и отдавал дань почтения архивам Бьютта. Забившись в уголок с «Джуси фрутом» и лупой, я штудировал исторические карты Льюиса, Фремона и губернатора Уоррена. В те дни Запад раскинулся широко и вольготно, а первые картографы корпуса инженеров-топографов с утра пораньше пили черный кофе у задка фургона с походной кухней и смотрели на совершенно безымянные еще горы, которые к концу дня предстояло добавить к стремительно растущему вместилищу картографического знания. Эти картографы были завоевателями в самом основном значении слова, ибо на протяжении девятнадцатого века понемногу, кусочек за кусочком, преображали огромный неизведанный континент в великий механизм известного, нанесенного на карту, засвидетельствованного – переводили его из мифологии в царство эмпирической науки. Именно это преображение и было для меня прежним Западом: неизбежное нарастание знания, решительное занесение великих Транс-Миссисипских территорий на схему, которую можно добавить ко всем остальным подобным схемам.
Мой личный музей Старого Запада находился наверху, в моей комнате, в копиях старых карт Льюиса и Кларка, научных диаграммах и зарисовках. Если бы однажды жарким летним днем вы бы заглянули ко мне и спросили, зачем я до сих пор перерисовываю их работы, хотя сам прекрасно знаю, что они неточны, я бы и не нашел, что ответить, разве вот только – что на свете не существовало еще ни одной по-настоящему точной карты, а союз правды и красоты всегда недолговечен.
– Алло? – сказал я в трубку, наматывая провод на мизинец.{11}
– Мистер Т. В. Спивет?
Мужской голос на том конце провода чуточку шепелявил, вплетая в каждое произнесенное «с» еле слышное «ф» – ни дать ни взять пекарь, легонько приминающий пальцами кусок теста. Вообще-то из меня никудышный телефонный собеседник: я всегда начинаю представлять себе, что происходит на том конце, а из-за этого сплошь да рядом забываю вовремя отвечать.
– Да, – осторожно произнес я, стараясь не воображать, как взятый крупным планом, точно в кино, язык незнакомца скользит по зубам, а на телефонную трубку летят крохотные капельки слюны.
– Что ж, мистер Спивет, здравствуйте. Это мистер Г. Х. Джибсен, заместитель секретаря Смитсоновского института по вопросам оформления и иллюстраций. Должен сказать, непростая была задача, до вас дозвониться. Мне вот только что показалось, что связь прервалась…
– Простите, – перебил я, – Грейси вредничала.
На том конце провода наступило молчание. Слышалось лишь какое-то тиканье на заднем плане – как тикают напольные часы, если открыть дверцу, – а потом мой собеседник промолвил:
– Не поймите меня превратно… но у вас такой молодой голос. Я и впрямь говорю с мистером Т. В. Спиветом?
В устах этого человека наша фамилия звучала как-то шипяще и взрывчато – словно такой специальный звук, чтобы кота со стола шугать. Ох, и слюны же, наверное, на трубке! Наверняка. А он ее время от времени вытирает носовым платком – тем самым, который тактично прячет за отворотом воротника, специально для этой цели.
– Да, – согласился я, со всех сил стараясь не упустить нити взрослого разговора, – я довольно молод.
– Но вы и в самом деле тот самый Т. В. Спивет, приславший на нашу выставку по дарвинизму и теории разумного замысла ту в высшей степени элегантную диаграмму, отображающую, как Carabidae brachinus смешивает и исторгает из брюшка кипящий секрет?
Жук-бомбардир. Я убил на этот рисунок четыре месяца.
– Да, – заверил я. – И кстати, все собирался сказать вам раньше – там вышла небольшая ошибка в подписи к одной из секретирующих желез…
– Замечательно, замечательно. Ваш голос на миг ввел меня в заблуждение. – Мистер Джибсен засмеялся, потом вроде бы как совладал с собой. – Мистер Спивет… знаете ли вы, сколько отзывов мы получили на ваше изображение бомбардира? Мы увеличили его – во много раз – и сделали центральным экспонатом выставки, с задней подсветкой, все честь по чести. В смысле, ну, вы понимаете, сторонники теории разумного замысла столько шума подняли из-за этой своей неупрощаемой сложности – их излюбленное ключевое выражение, а здесь, в Замке, ну, то есть в музее, оно уже хуже любого бранного. Но как они пришли на выставку, а там прямо в центре – ваши серии зарисовок желез внутренней секреции… Вот им и она самая! Упрощенная сложность!
Чем возбужденнее он становился, тем сильнее и чаще пришепетывал. Мне уже эта картинка – капельки слюны на трубке, носовой платок – все мысли затмила, и я лихорадочно пытался сообразить, что бы такого сказать. Ну, в смысле, кроме «брызги». Взрослые называют это светской беседой. Так что я очень светски спросил:
– Так вы работаете в Смитсоновском институте?
– О! Да, мистер Спивет, именно там. Собственно, многие бы вам сказали, что я фактически всем тут заправляю… эээ… продвигаю развитие и распространение знаний, как было поручено нам законодателями и окончательно утверждено сто пятьдесят лет назад президентом Эндрю Джексоном… хотя с нынешней администрацией и не подумаешь.{12}
Он засмеялся, и я услышал на заднем фоне, как скрипит его кресло – точно аплодируя словам.
– С ума сойти! – сказал я и наконец, впервые за весь наш разговор, сумел отрешиться от пришепетывания и осознать, с кем вообще говорю. Вот тут-то меня и накрыло! Стоя на нашей кухне, с ее неровным полом и несусветным изобилием зубочисток, я воображал себе, как телефонная трубка посредством медных проводов, бегущих через Канзас и Средний Запад в долину Потомака, связана с захламленным кабинетом мистера Джибсена в Замке Смитсоновского института.{13}
Смитсоновский институт! Чердак целой нации!
Хотя я подробнейше изучил и даже перерисовал кое-какие подробности с чертежей Смитсоновского замка, но все равно еще не слишком четко представлял себе институт.
Сдается мне, чтобы по-настоящему впитать атмосферу какого-нибудь места – или, заимствуя одно из выражений Грейси, «проникнуться» им, – надо сперва получить доступ к шведскому столу для всех органов чувств, познакомиться с ним лично, а не понаслышке. Такие данные не соберешь, пока сам лично не побываешь там, не учуешь запах у ворот, не вдохнешь затхлый воздух галерей, не пооббиваешь носы ботинок о реально-существующие, привязанные к месту координаты. Ясное же дело, ввергающая в священный трепет, как в храме – аж волосы дыбом – атмосфера такого места, как Смитсоновский институт, порождалась не архитектурой его стен, но обширной, эклектичной кармой коллекций, хранящихся в этих стенах.
Мистер Джибсен все еще что-то вещал на том конце провода, чуть растягивая слова на манер жителей восточного побережья, и я снова прислушался к его плавному, интеллигентному голосу.
– Да, тут это целая история, – говорил он. – Но, думаю, люди науки вроде нас с вами сейчас в прямом смысле слова стоят на распутье. Количество посетителей падает, причем заметно – конечно, говорю это сугубо конфиденциально, поскольку теперь вы один из нас… но, признаться, это внушает опасения. Никогда еще, со времен Галилея… или, по крайней мере, Стокса… Я хочу сказать, наша страна неизъяснимым образом словно бы пытается повернуть историю вспять, отменить сто пятьдесят лет дарвиновской теории… Подчас может показаться, будто бы «Бигль» вообще не пускался в плаванье.
Это мне кое о чем напомнило.
– А вы так и не прислали мне выпуск «Бомби – жук-бомбардир», – перебил я. – А в письме обещали.
– О! Ха-ха-ха! Какое чувство юмора! Ну-ну, мистер Спивет, мы же с вами увидимся, и я лично обо всем позабочусь.
Я промолчал, а он добавил:
– Но, разумеется, мы можем все равно выслать вам экземпляр! Просто я хочу сказать, это ж скорее шутка – что вы поместили эту книгу в один ряд со своими иллюстрациями. Я сам первый всегда всей душой за здоровую дискуссию, но книга… она ведь детская! Это самое настоящее коварство! Именно то, с чем мы и боремся! Они используют детские книжки, чтобы подорвать основы науки!
– А я люблю детские книжки, – возразил я. – Грейси говорит, она их уже не читает, но я-то знаю – читает, как миленькая. У нее в шкафу заначка, я сам видел.
– Грейси? – переспросил мой собеседник. – Грейси? Это, надо думать, ваша жена? Я был бы рад познакомиться со всем вашим семейством!
Хотелось бы мне, чтоб Грейси услыхала, как он произносит ее имя – с этим вот забавным пришепетыванием, «Грейсши», точно название какой-нибудь злокозненной тропической болезни.
– Мы с ней как раз лущили кукурузу, когда вы… – начал я, но осекся.
– Словом, мистер Спивет, смею сказать, это большая честь, наконец иметь возможность поговорить с вами. – Он сделал небольшую паузу. – Вы ведь живете в Монтане, верно?
– Да, – подтвердил я.
– Знаете, а ведь и я, по невероятному совпадению, родился в Хелене и жил там до двух лет. В моих воспоминаниях этот штат всегда был местом особенным, даже мифическим. Я частенько гадал, как бы все сложилось, если бы я остался там и, как говорится, вырос на приволье. Но наша семья перебралась в Балтимор, и… словом, уж такова жизнь. – Он вздохнул. – Так где конкретно вы живете?
– На ранчо Коппертоп. 4,73 мили к северу от Дивайда и 14,92 мили к юго-юго-востоку от Бьютта.
– Надо бы мне как-нибудь самому нагрянуть к вам в гости. Но послушайте, мистер Спивет, у нас тут для вас восхитительные новости.
– Долгота сто двенадцать градусов, сорок четыре минуты и девятнадцать секунд, широта сорок пять градусов, сорок девять минут и двадцать семь секунд. Во всяком случае, в моей спальне – насчет остальных помещений на память не скажу.
– Невероятно, мистер Спивет. Ваш талант подмечать все мелочи явственно сказался в тех иллюстрациях и диаграммах, что вы нам присылали. Потрясающе!
– Наш адрес – номер сорок восемь по Крейзи-свид-крик-роуд, – закончил я и тут же пожалел, потому что оставалась же еще вероятность, что этот человек не
а вовсе даже похититель детей из Северной Дакоты. Так что я добавил, чтоб сбить его со следа: – Ну, может, этот, а может, и нет.
– Великолепно, великолепно, мистер Спивет. Послушайте, я перейду прямо к делу и буду говорить напрямик. Вы получили нашу самую престижную награду – премию Бэйрда за популяризацию достижений науки.
После короткой паузы я спросил:
– Спенсер Ф. Бэйрд{14}, второй секретарь Смитсоновского института? А у него есть какая-то премия?
– Да, мистер Спивет. Я знаю, вы не подавали документов на нее, но Терри Йорн подал портфолио от вашего имени. И, честно говоря… знаете, до той минуты мы видели лишь маленькие кусочки из того, что вы для нас сделали, но это портфолио! И… и нам тут же захотелось устроить вокруг него целую выставку.
– Терри Йорн? – Сперва я не узнал этого имени: так, проснувшись утром, иной раз не узнаешь собственной спальни. Затем постепенно на мысленной карте проступили его черты: доктор Йорн, мой наставник и партнер по «Богглу»; доктор Йорн – огромные черные очки, высокие белые носки, порхающие пальцы, смех, больше похожий на икоту и словно бы исходящий из запрятанного в глубине тела какого-то инородного механизма… Доктор Йорн? Я считал его другом и научным руководителем, а тут вдруг узнаю, что он тайно подал от моего имени документы на премию в Вашингтоне? Премию, учрежденную взрослыми и для взрослых! Мне захотелось убежать, закрыться у себя в комнате и никогда оттуда не выходить.
– Само собой, вы еще успеете его поблагодарить, – продолжал тем временем мистер Джибсен. – Однако всему свое время. Перво-наперво мы просим вас как можно скорее прилететь в Вашингтон, в Замок, как мы его называем – произнести торжественную речь и объявить, чему именно посвятите ближайший год… над этим вам, конечно, еще надо подумать. В следующий четверг у нас будет гала-концерт в честь сто пятьдесят первой годовщины существования института, и мы надеялись, вы станете одним из ключевых участников, поскольку ваши труды отражают наши самые передовые взгляды – наглядная… гм, наглядный научный подход, к которому в эти дни Смитсоновский институт более всего и стремится. В наше время наука и в самом деле переживает огромные трудности, и мы намерены бороться с противником его же оружием… мы должны потрудиться, чтобы завоевать аудиторию… нашу аудиторию.
– Понимаете… – пробормотал я, – на следующей неделе у меня начинается школа.
– О да. Разумеется. Доктор Йорн не предоставил мне вашей биографии, так что ситуация… гм… вышла слегка неловкая, но могу ли я в таком случае прямо вот сейчас и осведомиться, где вы работаете? Мы тут все были изрядно заняты, так что я еще не выкроил времени позвонить президенту вашего университета и сообщить чудесные новости, но позвольте вас заверить, это всегда успеется, даже вот так поздно, в самый последний миг… Полагаю, вы работаете у Терри в университете Монтаны? Знаете, я довольно-таки на короткой ноге с президентом Гэмблом.
Тут только я разом осознал вся чудовищную нелепость происходящего. Я отчетливо увидел, что моя беседа с шепелявым мистером Джибсеном прошла по нарастающей целый ряд недоразумений, основанных на неполной, а возможно, даже и ложной информации. Год назад доктор Йорн подал в Смитсоновский институт мою первую иллюстрацию якобы от настоящего коллеги – и мне, с одной стороны, неловко было принимать участие в обмане, а с другой, эту неловкость перевешивала тайная надежда, что, может, я и в самом деле в каком-то смысле прихожусь доктору Йорну коллегой, по крайней мере, собратом по духу. А потом, когда самую первую иллюстрацию – шмель-каннибал, поедающий другого шмеля – приняли и даже напечатали, мы с доктором Йорном это дело отпраздновали, хотя и украдкой, потому что моя мама так ничего и не знала. Доктор Йорн приехал из Бозмана, дважды преодолев континентальный водораздел (сперва двигаясь на запад по направлению к Бьютту, а потом на юг к Дивайду), забрал меня с ранчо и угостил мороженым в историческом центре Бьютта.
Мы сидели на скамейке, поедали мороженое с орешками и смотрели на холмы, ощетинившиеся силуэтами вышек над устьями старых шахт.{15}
– А ведь когда-то рабочие залезали в эти вагонетки и спускались в них на три тысячи футов. Смена длилась по восемь часов, – промолвил доктор Йорн. – На восемь часов мир сжимался до темного, жаркого, пропахшего едким потом колодца в три фута шириной. Весь город жил сменами. Восемь часов вкалываешь в шахте, восемь пьянствуешь по барам, восемь отсыпаешься в постели. Гостиницы сдавали кровати только на восемь часов, потому что так выжимали в три раза больше. Можешь себе представить?
– А вы бы пошли в шахтеры, если бы жили здесь в те времена? – спросил я.
– А разве у меня был бы выбор? – отозвался доктор Йорн. – Тогда тут водилось не слишком-то много колеоптерологов.
Потом мы отправились к перевалу Паупстон собирать коллекцию бабочек. Некоторое время мы молчали, преследуя шустрых чешуекрылых. Позже, когда мы лежали на траве, рассматривая высокие стебли, доктор Йорн вдруг сказал:
– Знаешь, это все очень быстро получилось.
– Что?
– Многие всю жизнь ждут вот такой вот публикации.
Снова пауза.
– Как доктор Клэр? – наконец уточнил я.
– Твоя мать знает, что делает, – торопливо заверил доктор Йорн и снова немного помолчал, глядя на горы. – Она выдающаяся женщина.{16}
– В самом деле?
Доктор Йорн не ответил.
– Думаете, она в конце концов найдет своего жука? – не унимался я.
Доктор Йорн внезапно метнулся с сачком за можжевельниковой голубянкой, Callophrys gryneus, но промазал. Легкокрылое созданьице унеслось ввысь, словно потешаясь над его стараниями. Доктор Йорн, отдуваясь, уселся на корточки в зарослях хризотамнуса. По природе он был не бог весть какой атлет.
– Знаешь, Т. В., мы ведь можем и обождать, – пыхтя, проговорил он. – Смитсоновский институт никуда не денется. Если ты нервничаешь, нам вовсе не обязательно посылать это все прямо сейчас.
– Но мне нравится для них рисовать, – отозвался я. – Они клевые.
Мы снова помолчали, обшаривая заросли, но бабочек простыл и след.
– Рано или поздно придется ей все рассказать, – промолвил доктор Йорн по дороге обратно к машине. – Она будет гордиться тобой.
– Расскажу, – пообещал я. – В свое время.
Только это самое свое время все никак не приходило. Для всех, кроме самой доктора Клэр, было совершенно очевидно: упорная одержимость монахом-скакуном, которого за двадцать лет так и не удалось обнаружить, сгубила карьеру моей матери и не дала ей внести в систематику все те многочисленные усовершенствования, на которые она, по твердому моему убеждению, была бы способна. Я не сомневался: захоти только доктор Клэр – и она стала бы одним из самых известных ученых мира. Но монах-скакун мертвой хваткой впился в доктора Клэр, и почему-то это мешало мне рассказать ей о моей карьере – карьере, которой не предполагалось вообще, но которая необъяснимым образом расцветала, все набирая и набирая обороты.
Наша тайная переписка со Смитсоновским институтом продолжалась, а вместе с ней продолжалось и двойное жульничанье: родители ничего не подозревали, а редакция в Вашингтоне считала меня доктором наук. При пособничестве доктора Йорна я регулярно рассылал работы не только в Смитсоновский институт, но также в «Сайнс», «Сайнтифик Америкэн», «Дискавери» и даже «Иллюстрированный спортивный журнал для детей».
Проекты мои были самой разной направленности. Встречались среди них иллюстрации: колония работящих муравьев-листорезов и многочисленные разноцветные чешуекрылые; развернутые анатомические схемы устройства кровеносной системы мечехвоста, выполненные на уровне электронной микроскопии диаграммы сенсорных сенсилл в антеннах Anopheles gambiae – малярийного комара.
Ну и, само собой, карты: канализационная система города Вашингтон (округ Колумбия) в 1959 году; постепенное уменьшение численности индейцев на Высоких равнинах на протяжении последних двух веков; три противоречащие друг другу гипотетические проекции береговой линии США через триста лет, отображающие три конкурирующие теории о глобальном потеплении и таянии полярных льдов.
И, наконец, моя любимая – семифутовая диаграмма самки жука-бомбардира, смешивающей кипящий секрет. На то, чтоб составить, нарисовать и подписать эту диаграмму, у меня ушло четыре месяца, а в результате я заполучил такой жуткий кашель, что неделю не ходил в школу.
Но доктор Йорн, тот самый, что так колебался на перевале Пайпстон с сачком в руках, судя по всему, настолько проникся моей потенциальной карьерой, что взял да и подал мою работу – причем без моего ведома или согласия! – на премию Бэйрда. Удивительно незрелое решение, как-то не по-взрослому. Мне казалось, ему бы положено быть моим наставником. С другой-то стороны – а много ли я знал о заманчивом мире взрослых?
Я не так-то часто вспоминал, что мне всего двенадцать. В жизни и без того слишком много хлопот, не хватало еще думать о всяких пустяках вроде возраста – но сейчас, столкнувшись со столь глубоким недоразумением, порожденным, между прочим, вполне взрослыми людьми, я вдруг в полной мере, остро и болезненно, прочувствовал всю неимоверную тяжесть своей юности. Причем – по непонятным причинам – ощущения эти сосредотачивались вокруг артерий у меня в запястьях. Также я осознал вдруг, что мистер Г. Х. Джибсен, разговаривающий со мной чуть ли не с другого конца света, хотя изначально и питал некоторые подозрения насчет моего певучего мальчишеского голоса, теперь считает меня совершенно взрослым, да еще и коллегой.
Я понял, что стою перед величайшей развилкой.
Налево – равнины. Можно прекратить недоразумение, объяснить мистеру Джибсену, что, говоря о необходимости со следующей недели ходить в школу, я имел в виду, что буду посещать центральную среднюю школу города Бьютта, а вовсе не обучать студентов в университете штата Монтана. Можно вежливо извиниться, поблагодарить за награду и объяснить, что лучше, наверное, отдать ее другому – кому-нибудь, кто по праву может водить машину и голосовать, а также способен на коктейльной вечеринке отпустить шутку-другую о налогах. Да, тем самым я подставлю доктора Йорна, но ведь он сам первый меня подставил. И это будет благородным поступком – из разряда того, как поступил бы мой отец, повинуясь этому своему ковбойскому кодексу чести.
Направо – горы. Можно соврать. Врать всю дорогу до Вашингтона, а пожалуй, что и там, затворившись в гостиничном номере, пропахшем старыми окурками и моющими средствами, а иллюстрации, карты и пресс-релизы подсовывать под дверь, точно современный волшебник Изумрудного города. Или даже нанять какого-нибудь актера подходящего возраста, этакого ковбоистого рубаху-парня – а что, ковбой-ученый, отличная идея – вашингтонцам понравится остроглазый самородок из Монтаны. Или самому переодеться. Может, сменить прическу?
– Мистер Спивет? – нарушил ход моих мыслей Джибсен. – Вы еще тут?
– Да. Еще тут.
– Так мы можем на вас рассчитывать? Было бы здорово, если бы вы приехали не позднее следующего четверга, чтобы произнести речь на публике. Все будут в восторге.
Кухня у нас старая-престарая. Зубочистки, огнеупорный винил – и никакого ответа на томящий меня вопрос. Я поймал себя на том, что гадаю, а как бы поступил Лейтон. Лейтон, даже в доме не снимавший шпор с сапог, собиравший коллекцию старых пистолетов, а однажды, после просмотра фильма «Инопланетянин», даже скатившийся прямо с крыши на детской тележке, облаченный лишь в пижаму с космонавтами. Лейтон, мечтавший увидеть Вашингтон, потому что там живет президент. Лейтон не колебался бы.
Но я-то не Лейтон. Мне его героизм и не снился. Мое место – за письменным столом у себя в комнате, где можно неспешно зарисовывать Монтану во всей ее целостности.
– Мистер Джибсен, – промолвил я, сам чуть не начав пришепетывать. – Спасибо огромное за предложение – я очень удивлен, честное слово. Однако принять его я не могу. У меня очень много работы, и… ну… словом, огромное спасибо, всего доброго.
И я повесил трубку, не дав ему возможности возразить.
Глава 2
Карта 22–3 августа. Из блокнота З100
Трубка опустилась на рычаг, связь между Вашингтоном и ранчо Коппертоп прервалась. Я представил себе, как в каком-то маленьком среднезападном отделении связи служащая в очках в роговой оправе выдергивает штекер из гнезда, и этот рывок отдается у нее в наушниках тихим хлопком. Служащая поворачивается к товарке по работе и возобновляет беседу о смывке лака для ногтей – беседу, длящуюся весь день, потому что ее постоянно прерывают.
На обратном пути я помедлил у двери в кабинет доктора Клэр. На столе у нее громоздилось уже пять гигантских таксономических справочников в кожаных переплетах. Прижав указательный палец левой руки к какой-то строчке в одном из огромных томов, она быстро-быстро водила указательным пальцем правой по более мелким таксономиям – точно исполняя миниатюрное танго с блошками.
Она заметила, что я стою в дверях.
– Думаю, скорее всего, это новый подвид, – промолвила она, не отрывая пальцев от страницы, но глядя при этом на меня. – На брюшном стерните присутствует ямка, ранее нигде не описанная… то есть как мне кажется. Конечно, всегда есть вероятность, что… но, кажется, нет.
– Не знаешь, где отец? – спросил я.
– Мне кажется…
– Не знаешь, где… – снова начал я.
– Кто звонил?
– Из Смитсоновского института.
Доктор Клэр засмеялась. Это с ней случалось так редко, что сейчас я совершенно не ожидал. По-моему, от удивления чуть не подскочил.
– Ублюдки, – заявила она. – Если когда-нибудь будешь работать на большой институт, просто помни, что все они там – по определению – ублюдки. На каждом шагу бюрократическая любезная неэффективность.
– А как же перепончатокрылые? – спросил я. – У них тоже своя бюрократия.
– Ну, муравьиная колония вся сплошь состоит из самок. Совсем другое дело. А Смитсоновский институт – с давних времен чисто мужской клуб. У муравьев нет раздутого эго.
– Спасибо, доктор Клэр, – сказал я, поворачиваясь уходить.
– Вы там уже закончили? – спросила она. – А то я скоро начну готовить.{17}
Когда я вернулся на крыльцо, Грейси как раз заканчивала последний початок.
– Грейси! – воскликнул я. – Ну что? Сколько попалось плохих?
– А вот не скажу, – буркнула она.
– Ну Грейси! Ты весь эксперимент загубишь!
– Ты висел на телефоне часов шесть, не меньше. Мне было скучно.
– Что ты сделала с плохими?
– Повыбрасывала их во двор Очхорику.