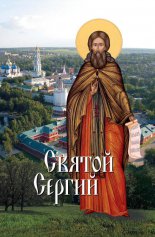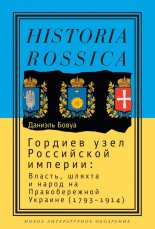О Набокове и прочем. Статьи, рецензии, публикации Мельников Николай
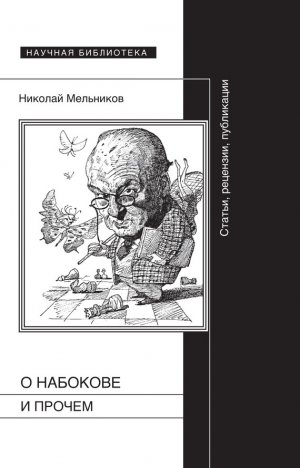
Я знаю, что вы восхищаетесь Роб-Грийе. А как вы относитесь к другим писателям, которых условно объединяют в группу под ярлыком «антироман»: к Клоду Симону? Мишелю Бютору? Раймону Кено{184}, прекрасному писателю, который, не будучи членом l'cole,[57] предвосхитил ее в нескольких планах?
«Exercice de style»[58] Кено — потрясающее произведение, шедевр; это и в самом деле одно из величайших творений французской литературы{185}. Мне очень нравится «Зази» Кено, мне запомнились отличные эссе, которые он опубликовал в «Нувель ревю франсез». Однажды мы встретились на одном приеме и разговорились о другой известной fillette.[59] Мне не интересен Бютор. Но Роб-Грийе так отлчается от них! Нельзя и не надо сваливать всех в одну кучу. Между прочим, когда мы были в гостях у Роб-Грийе, его маленькая хорошенькая жена, юная актриса, оделась la gamine,[60] разыгрывая в мою честь Лолиту, она не вышла из роли и на следующий день, когда мы встретились в ресторане на ленче, на который нас пригласил один издатель. Разлив всем, кроме нее, вино, официант спросил: «Кока-колу, мадемуазель?». Получилось очень смешно, и Роб-Грийе, который на фотографиях всегда такой мрачный, разразился смехом.
Кто-то назвал новый роман «детективом, воспринятым всерьез» (и в этом тоже влияние французского издания «Отчаяния»). Пародируя этот жанр или нет, но вы относитесь к нему вполне «серьезно», если принять во внимание, сколько раз вы преобразовывали возможности этого жанра. Скажите, почему вы так часто обращаетесь к нему?
В детстве я обожал Шерлока Холмса и отца Брауна, может, в этом разгадка.
Вы сказали однажды, что Роб-Грийе перемещается с одного психологического уровня на другой. «Психологического» — в лучшем смысле этого слова. Вы психологический писатель?
Полагаю, писатели любого ранга — психологи. Если уж говорить о предтечах «нового романа», следует вспомнить о Франце Элленсе{186}, бельгийце, очень важной фигуре. Вы слышали о нем?
Нет. А когда он был в расцвете сил, когда писал? В постбодлеровский период{187}.
Не можете рассказать подробнее?
Элленс был высоким, тощим, уравновешенным, очень достойным человеком, с которым я часто встречался в Бельгии в тридцатые годы, когда я читал лекции в большой аудитории для эмигрантов. В обширном творческом наследии Элленса есть три-четыре книги, которые намного лучше прочих. Мне особенно нравился роман «La femme partage»[61] (1929). Я пытался найти издателя для этого романа в Штатах — поначалу вроде бы договорился с Лафлином, но ничего не вышло. Об Элленсе написано очень много хвалебных статей, его любят в Бельгии; те немногие друзья, что у него сохранились в Париже, старались упрочить его авторитет. Стыдно, что его читают меньше, чем чудовищного мсье Камю и еще более чудовищного мсье Сартра.
Сказанное вами об Элленсе и Кено — чрезвычайно интересно еще и потому, что журналисты полагают, что более выгодно и «эффектно» подчеркивать ваши отрицательные отзывы в адрес других писателей.
Да. Это — готовый к печати отзыв. Вообще-то я человек добрый, искренний, простодушный, не терплю фальши в искусстве. Я испытываю глубочайшую любовь к Герберту Уэллсу, особенно к его романам «Машина времени», «Человек-невидимка», «Земля слепых», «Война миров» и фантастическому роману о Луне — «Первые люди на Луне».
И напоследок — пища для ума. Сэр, в чем смысл жизни? (Далее, после этого вопроса, в машинописном тексте интервьюера следует скверная копия фотографии Толстого.)
За рецептами обращайтесь к стр. 000 (так напечатано в сноске отредактированного машинописного экземпляра моих «Стихотворений и задач», который я только что получил). Другими словами — давайте дождемся верстки.
Перевод А.Г. Николаевской
Апрель 1971
Интервью Олдену Уитмену
{188}Сэр, через несколько дней вам исполнится семьдесят два года, то есть вы перейдете библейские «лет наших семьдесят»{189}. Что вызывает в вас этот праздник, если это для вас праздник?
«Лет наших семьдесят» звучит, без сомнения, весьма солидно в дни, когда продолжительность жизни едва достигает половины этого срока. Во всяком случае, петербургские педиатры никогда не предполагали, что я смогу дожить до праздника, о котором вы говорите: юбилей счастливого долгожителя, сохранившего парадоксальную невозмутимость, силу воли, интерес к работе и вину, здоровую концентрацию на редком виде какого-нибудь жучка или ритмической фразе. Другой момент, который, может быть, помогает мне, — я подвержен приступам веры в сбивающие с толку предрассудки: число, сон, случайное совпадение могут подействовать на меня, стать для меня чем-то навязчивым — не в плане абсурдных страхов, а как пример непонятной (в целом довольно стесняющей) научной загадки, которую невозможно сформулировать, а тем более решить.
Ваша жизнь превзошла ожидания, которые были у вас в юности?
Моя жизнь намного превзошла амбиции детства и юности. В первом десятилетии нашего уходящего века, путешествуя со своей семьей по Западной Европе, я думал, лежа ночью под экзотическим эвкалиптом, что значит быть изгнанником, тоскующим по далекой, грустной и (точный эпитет!) неутолимой России. Ленин и политика, проводимая им, чудесным образом реализовали эту фантазию. В двенадцать лет моей любимой мечтой была поездка в Каракорум в поисках бабочек. Двадцать пять лет спустя я успешно отправил себя, в роли отца героя (см. мой роман «Дар»), обследовать с сачком в руке горы Центральной Азии. В пятнадцать летя представлял себя всемирно известным семидесятилетним автором с волнистой седой гривой. Сегодня я практически лыс.
Если бы пожелания в день рождения были связаны только с лошадьми, что бы вы пожелали себе? Пегаса, только Пегаса.
Говорят, вы работаете над новым романом. У него уже есть рабочее название? И не могли бы вы вкратце рассказать, о чем он?
Рабочее название романа, над которым я сейчас работаю, — «Просвечивающие предметы», а краткое изложение — пусть оно будет покрыто непроницаемой мглой. Сейчас ремонтируют фасад нашего отеля в Монтрё, вот я и добрался до крайней южной точки Португалии в поисках тихого местечка, где можно было бы писать (прибой и грохот ветра не в счет). Я пишу на разрозненных справочных карточках (мой текст уже существует на невидимых шпонах), которые я постепенно заполняю и сортирую, в процессе этого мне чаще требуется точилка, чем карандаш, но я говорил уже об этом несколько раз, участвуя в questionnaires (опросах) — слово, написание которого мне приходится всякий раз смотреть в словаре, с которым я не разлучаюсь во время моих путешествий — в словаре Уэбстера для учащихся, 1970 года — в нем, между прочим, написано, что «Quassia»[62] происходит от «Quassi», то есть негра из Суринама, раба восемнадцатого века, изобретшего лекарство от глистов для белых детей. С другой стороны, ни один из моих собственных неологизмов или новых вариантов использования слова не включен в этот словарь. Ни iridule (перламутровое облачко в «Бледном огне»), ни racemosa (разновидность вишни), ни несколько поэтических терминов, таких, как scud и tilt (см. мой комментарий к «Евгению Онегину»).
На «Аду» было много откликов в прессе. Кто из критиков, на ваш взгляд, особенно точен в своих наблюдениях и почему?
За исключением нескольких беспомощных писак{190}, которые не способны были продвинуться дальше первых глав, американские рецензенты оказались на удивление проницательны относительно моего самого космополитического и поэтического романа. Что же до английской прессы, то замечания проницательных критиков тоже весьма доброжелательны, а фигляры оказались еще более глупыми, чем обычно, тогда как мой неизменный духовный поводырь Филип Тойнби{191}, похоже, еще более удручен «Адой», нежели «Бледным огнем». Я не запоминаю подробностей рецензий, а сейчас несколько горных гряд отделяют меня от моего архива; но вообще-то мы с женой давным-давно перестали раскладывать газетные вырезки по ящикам, о которых потом забываем, вместо этого наш толковый секретарь помещает их в большие альбомы, в результате я гораздо лучше информирован, чем раньше, о всяких пересудах и сплетнях. Отвечу на ваш вопрос прямо: главная любезность, которую я жду от серьезных критиков, — способность понять, что какое бы выражение или образ я ни использовал, моя цель — не стремиться быть шутливо-вульгарным или гротескно-непонятным, о выразить, что я чувствую и думаю, как можно правдивее и осмысленнее.
Ваш роман «Mary» имеет в США успех. Что вы испытали, когда ваш так давно написанный роман готовился к печати в английской версии?
В своем предисловии к английскому переводу моего первого русского романа, написанного сорок восемь лет назад, я подчеркнул природу параллелей между первой любовью автора в 1915 году и влюбленностью Ганина, который вспоминает о ней, как о своем собственном чувстве в стилизованном мире «Машеньки». Я возвращался к этой юношеской любви в моей автобиографии, начатой в сороковые годы (это центральная точка периода, отделявшего «Машеньку» от «Mary»), наверно потому теперешнее воскресение романа несколько странно и не вызывает особого трепета. И тем не менее я испытываю нечто другое, более абстрактный, хотя не менее благодарный трепет, когда говорю себе, что судьба не только сохранила хрупкую находку от разрухи и забвения, но позволила мне достаточно долго наблюдать, как разворачивают хорошо сохранившуюся мумию.
Если бы вы писали сценарий для музыкальной комедии «Лолита», что бы вы сделали самым смешным моментом?
Самым смешным было бы, если б я самолично попытался ее исполнить.
Перевод А.Г. Николаевской
Июнь 1971
Интервью Израэлю Шинкеру
{192}Что вы делаете, чтобы приготовиться к суровым испытаниям жизни?
Перед тем как принять ванну и позавтракать, я каждое утро бреюсь, чтобы по первому требованию быть готовым к дальнему полету.
Какие литературные качества вы стремитесь обрести и каким образом?
Стремлюсь овладеть самыми лучшими словами во всех доступных лексических, ассоциативных и ритмических звучаниях, чтобы выразить, как можно точнее, то, что стремишься выразить.
Есть ли у вас литературные грехи, за которые вам придется когда-нибудь держать ответ, и как вы станете защищаться?
Мой грех в том, что на страницах моих книг слишком много политических болванов, а среди моих знакомых — интеллектуальных мошенников. В том, что был слишком привередлив в выборе мишеней.
Каково ваше положение в литературном мире? Замечательный, прелестный вид отсюда.
Какие проблемы ставит перед вами ваше «ego»?
Лингвистическая проблема — уникальный акт эволюции мимикрии, благодаря которому на русском языке «ego» означает «его».
Что претендует сегодня на роль властителя ваших дум?
Луга. Луга с бабочками Scarce Heath на севере России и Grinell's Blue в Южной Калифорнии.
Каково ваше мнение о том, что человек восстает из грязи?
Великолепное зрелище. Хотя жаль, что остатки грязи прилипают к отравленным наркотиками мозгам.
Что нам следует думать о Смерти?
«Оставь меня в покое, молвит унылая Смерть»[63] — фальшивая надпись на пустой гробнице.
Какие типы власти вы приемлете, а какие нет?
Чтобы не ошибиться, я признаю одну власть — власть искусства над халтурой, триумф магии над брутальностью.
Какие глобальные проблемы оставляют вас равнодушным, а какие волнуют больше всего?
Чем масштабнее идея, тем меньше интереса я проявляю к ней. Самый большой отклик в моем сердце вызывают микроскопические пятнышки света.
Что мы можем (должны?) сделать, чтобы истина не ускользала от нас?
Можно (должно) пригласить высококвалифицированного корректора, чтобы быть спокойным, что ошибки и пропуски не исказили ускользающую истину интервью, коли газета взяла на себя труд опубликовать это интервью с автором, более всего озабоченным, чтобы его фраза была воспроизведена точно.
Перевод А.Г. Николаевской
Сентябрь 1971
Интервью Полю Суфрэну
{193}Я читал ваше высказывание о том, что в истинном художественном произведении подлинный конфликт возникает не между героями, а между автором и миром{194}. Не поясните свою мысль?
Думаю, что я сказал «между автором и читателем», а не «миром», ибо тогда бы получилась бессмысленная формула, потому что творческий художник создает свой собственный мир или миры. Он вступает в конфликт с читательской аудиторией, ибо он идеальный читатель своих произведений, и другие читатели очень часто — просто двигающие беззвучно губами призраки. С другой стороны, хороший читатель должен делать яростные усилия, когда вступает в противоборство с трудным автором, но его усилия будут вознаграждены, как только усядется пыль.
И что это за подлинный конфликт?
Конфликт, с которым я обычно сталкиваюсь.
Во многих ваших работах вы создаете мир вымысла и иллюзии — я называю его миром Алисы-в-Стране-чудес. Какова связь этого мира с вашей реальной борьбой с реальным миром?
«Алиса в стране чудес» — особая книга особого автора со своими каламбурами, каверзами и капризами. Если внимательно ее читать, то вскоре обнаружится — как юмористическое противостояние — наличие вполне прочного и довольно сентиментального мира, скрывающегося за полуотстраненной мечтой. К тому же Льюис Кэрролл любил маленьких девочек, а я нет.
Вымысел и иллюзии могут иногда вызвать впечатление, что вы мистифицируете читателя и что ваша проза состоит из загадок. Что вы посоветуете людям, утверждающим, что вы просто-напросто непонятны?
Посоветую им решать кроссворды в воскресных газетах.
Стараетесь ли вы озадачивать людей и играть с ними в разнообразные игры?
Как же это было бы скучно!
В некоторых ваших произведениях доминирует прошлое. А что вы думаете о настоящем и будущем?
Моя концепция «ткани времени» несколько напоминает концепцию, изложенную в четвертой части «Ады». Настоящее лишь пик прошлого, а будущего нет.
Находите ли вы какие-то отрицательные стороны в том, что пишете на нескольких языках?
Невозможно следить за постоянно меняющимся сленгом.
А каковы преимущества?
Можно передать точный нюанс, переключаясь с языка на язык, с английского, на котором я сейчас говорю, на взрывной французский или мягко шуршащий русский.
Джордж Стайнер объединил вас с Сэмюэлом Беккетом и Хорхе Луи Борхесом{195}, назвав вас троих вероятными кандидатами на титул гения в современной литературе. Что вы думаете по этому поводу?
Упомянутых драматурга и эссеиста воспринимают в наши дни с таким религиозным трепетом, что в этом триптихе я чувствовал бы себя разбойником меж двух Христосов. Впрочем, веселым разбойником.
Перевод А.Г. Николаевской
Октябрь 1971
Телеинтервью Курту Хоффману
Можно представить себе различные виды времени, как, например, «прикладное время» — время, относящееся к событиям, которое мы измеряем посредством часов и календарей; но эти типы времени неминуемо подпорчены нашим представлением о пространстве, пространственной последовательности, протяженности и частях пространства. Когда мы говорим о «ходе времени», то представляем себе некую абстрактную реку, которая протекает через некий обобщенный пейзаж. Прикладное время, измеримые иллюзии времени, полезны для историков с физиками и их целей, меня они не интересуют, как не интересуют они и мое творение — Вана Вина в четвертой части моей «Ады».
И он, и я в этой книге пытаемся исследовать суть времени, не его ход. Ван упоминает о возможности быть «любителем Времени, эпикурейцем длительности», о способности чувственно восхищаться тканью времени «в его плоти и в его протяженности, в его устремлении и в его складках, в самой неосязаемости его дымчатой кисеи, в прохладе его непрерывности». Он также убежден, что «Время — питательная среда для метафор».
Время, пусть и родственное ритму, не просто ритм, который бы предусматривал движение, — Время недвижимо. Величайшее открытие Вана в том, что он воспринимает Время как впадину, темнеющую между двумя ритмическими ударами, узкую и бездонную тишину именно между ударами, а не как сами удары, которые только сковывают Время. В этом смысле человеческая жизнь не пульсирующее сердце, а упущенный им удар.
Чистое Время, Осязающее Время, Реальное Время, Время, свободное от содержания и контекста, — именно такое Время описывается под моим чутким руководством созданным мной героем. Прошлое также является частью этой материи, частью настоящего, однако предстает как бы вне фокуса. Прошлое — это постоянное накопление образов, но наш мозг — не идеальный орган постоянной ретроспекции, и лучшее, на что мы способны, — это подхватывать и стараться удержать проблески радужного света, проносящиеся в памяти. Это удерживание и есть искусство, художественный отбор, художественное смешение, художественная перестановка реальных событий. Плохой мемуарист ретуширует прошлое и в результате получается пересиненная или порозовевшая фотография, сделанная чужаком и предназначенная утолить сентиментальную тоску по утраченному. Хороший мемуарист, с другой стороны, делает все возможное, чтобы максимально сохранить правдивость детали. Одним из способов достижения цели для него становится правильный выбор места на холсте, куда ляжет точный мазок явленного памятью цвета.
Итак, сочетание и наложение вспоминаемых подробностей является главным фактором творческого процесса восстановления прошлого. А это означает исследование не только индивидуального прошлого, но также и прошлого семьи в поисках духовного родства, своего предварения, смутных намеков на свое яркое и мощное Настоящее. Эта забава, разумеется, хороша для преклонного возраста. Прослеживание пращура до самого его логовища мало чем отличается от мальчишеских поисков птичьего гнезда или мячика, укатившегося в траву. Рождественскую елку детства сменяет фамильное древо.
Как автор нескольких статей по чешуекрылым, таких, как «Неарктические представители рода Lycaeides», я испытываю некий трепет, обнаруживая, что Николай Козлов, дед моей матери по материнской линии, появившийся на свет два века тому назад и первым возглавивший Российскую Императорскую медицинскую академию, написал статью под названием «О сужении яремной дыры у душевнобольных»{197}, с чем замечательно перекликаются мои «Неарктические представители и т. п.». И не менее идеальной представляется мне связь между пяденицей Набокова, маленькой американской бабочкой, названной в мою честь, и рекой Набокова в Nova Zembla{198}, названной так в честь моего прадеда, который участвовал в начале девятнадцатого века в арктической экспедиции. Обо всем этом я узнал довольно поздно. У нас в семье неодобрительно относились к разговорам о предках; запрет исходил от отца, который с крайним презрением воспринимал малейшее проявление, даже признак снобизма. Стоит мне только представить, сколь многими сведениями я мог воспользоваться для своих мемуаров, я все-таки сожалею, что подобных разговоров у нас не велось. Просто не принято это было у нас в семье шестьдесят лет тому назад, за двенадцать сотен миль отсюда.
Мой отец, Владимир Набоков, был государственный деятель, либерал, член первого российского парламента, ревнитель закона и справедливости в непростых обстоятельствах империи. Он родился в 1870 году, отправился в изгнание в 1919 году, а через три года в Берлине был убит двумя фашистскими бандитами, пытаясь заслонить собой друга, профессора Милюкова.
В Санкт-Петербургской губернии Набоковы соседствовали поместьями с семейством Рукавишниковых. Моя мать, Елена (1876–1939), была дочерью Ивана Рукавишникова, помещика и филантропа.
Мой дед со стороны отца, Дмитрий Набоков (1827–1904), при двух царях в течение восьми лет занимал пост министра юстиции (1878–1885).
Предков моей бабки с ее отцовской стороны, фон Корфов, можно проследить до четырнадцатого века, а в женской линии у них длинной вереницей тянутся фон Тизенгаузены, среди которых был Энгельбрехт фон Тизенгаузен из Лифляндии, принимавший около 1200 г. участие в третьем и четвертом Крестовых походах. Другим прямым моим предком является Кангранде делла Скала{199}, князь Веронский, давший приют изгнаннику Данте Алигьери, и его герб (две большие собаки, придерживающие лестницу) украшает «Декамерон» Боккаччо (1353). Внучка делла Скала, Беатриче, сочеталась в 1370 году браком с графом Вильгельмом Эттингенским, внуком толстяка Болко Третьего, герцога Силезского. Их дочь вышла замуж за некоего фон Вальдбурга, и трое Вальдбургов, один Киттлиц, за ними двое Поленцев и десяток Остен-Сакенов, потом Вильгельм-Карл фон Корф с Элеонорой фон дер Остен-Сакен явились впоследствии прародителями деда моей бабки с отцовской стороны, Николая, павшего в сражении 12 июня 1812 года. Его жена Антуанетта Граун, бабка моей бабки, приходилась внучкой композитору Карлу-Генриху Грауну (1701–1759).
Мой первый роман на русском языке был написан в Берлине в 1924 году — то была «Машенька», и она же стала первой из переведенных моих книг и вышла на немецком под названием «Sie kommt — kommt Sie?»[64] в издательстве «Ульштейн» в 1928 году. Последующие семь моих романов были также написаны в Берлине, и действие в них повсюду, целиком или отчасти, происходит в Берлине. Таков вклад Германии в атмосферу и в само написание всех моих восьми русских романов, созданных в Берлине. Переехав туда в 1921 году из Англии, я едва владел немецким, слегка приобщившись к нему во время предыдущего наезда в Берлин весной 1910 года, когда мы с братом, а также наш учитель русского лечили там зубы у американского дантиста. Учась в Кембриджском университете, я поддерживал свой русский чтением русской литературы, основного моего предмета, а также сочинением на русском ужасающего количества стихов. Едва я перебрался в Берлин, меня охватил панический страх, будто, учась бегло говорить по-немецки, я подпорчу драгоценные залежи своего русского языка. Создать языковой заслон оказалось легче оттого, что я обитал в узком кругу друзей, русских эмигрантов, и читал исключительно русские газеты, журналы и книги. Единственными прорывами в сферу местного языка стали для меня обмен любезностями с постоянно меняющимися квартирными хозяевами и хозяйками, а также повседневное общение в магазине, типа: Ich mchte etwas Schinken.[65] Теперь я жалею, что в немецком не преуспел; жалею с позиций культурного человека. Тем немногим, что я в том направлении предпринял, явились мои юношеские переводы вокальных произведений на слова Гейне для одной русской певицы-контральто, которой, надо отметить, было важно, чтобы мелодичные гласные полностью совпадали по звучанию, и потому я переиначил Ich grolle nicht в «Нет, злобы нет…» вместо старого, трудного для голосового исполнения «Я не сержусь…». Впоследствии я читал Гете и Кафку en regard,[66] как и Гомера с Горацием. И, разумеется, с детских лет я корпел с помощью словаря над большим количеством немецких книг о бабочках.
В Америке, где я всю прозу писал на английском, ситуация оказалась иной. Уже с раннего детства я говорил по-английски так же легко, как и по-русски. В Европе еще в тридцатые годы я написал по-английски один роман{200}, к тому же перевел на английский два своих русских романа. В языковом, если не в эмоциональном, плане этот переезд оказался вполне переносим. Всевозможные терзания возместились для меня тем, что в Америке я написал русские стихи, неизмеримо превосходящие все, написанные мною в Европе.
Серьезно я занимался чешуекрылыми всего восемь лет в сороковые годы, преимущественно в Гарварде, где работал научным сотрудником отдела энтомологии Музея сравнительной зоологии. Мне пришлось в какой-то степени исполнять обязанности музейного хранителя, но в основном моя работа состояла в классификации определенной разновидности маленьких бабочек-голубянок в зависимости от строения гениталий их самцов. Эти занятия требовали постоянного сидения за микроскопом, и так как я по шесть часов в день проводил за ним, то окончательно испортил зрение; между тем, с другой стороны, годы работы в Гарвардском музее остаются самыми радостными и волнующими в моей сознательной жизни. Летом мы с женой отправлялись охотиться за бабочками, в основном в Скалистые горы. В последние пятнадцать летя занимался коллекционированием повсюду, в Северной Америке и в Европе, но не опубликовал ни одной научной статьи о бабочках, поскольку создание новых романов и переводы старых поглощали слишком много времени: миниатюрные цеплялки бабочек-самцов ничтожны в сравнении с орлиными когтями литературы, разрывающими меня денно и нощно. Моя энтомологическая библиотечка в Монтрё, признаюсь, скромнее тех кип литературы о бабочках, которыми я зачитывался в детстве.
Я открыл и описал несколько видов и подвидов бабочек, преимущественно из Нового Света. В подобных случаях имя открывателя, воспроизведенное латинским алфавитом, добавляется к изображенному курсивом названию, данному им тому или иному существу. Несколько бабочек и один ночной мотылек названы в мою честь: в названия насекомых моя фамилия включена в виде «nabokovi», за которым уже следует имя открывателя. Кроме того, в Северной Америке существует некий род Nabokovia Хемминга. Все мои американские коллекции хранятся в музеях Нью-Йорка, Бостона и Итаки. Бабочки, которых я ловил в последнее десятилетие, чаще всего в Швейцарии и Италии, пока еще не разложены. Они все еще в бумаге, вернее, в маленьких лощеных конвертиках, уложенных в жестяные коробки. Со временем бабочки будут выложены на влажные полотенца, затем пришпилены, расправлены, снова высушены на дощатых подставках, и наконец снабжены ярлыком и помещены в застекленные ящики специального шкафа, и будут храниться, надеюсь, в роскошном энтомологическом музее Лозанны.
Я всегда был ненасытным книгочеем, и теперь, как и в детские годы, отсвет ночника на томике при кровати для меня на весь день желанный якорь и путеводная звезда. Из иных острых удовольствий назову телетрансляцию футбольного матча, порой бокал вина или треугольный глоток баночного пива, солнечные ванны на лужайке, а также сочинение шахматных задач. Возможно, самое неординарное — это безмятежное течение семейной жизни, которая на всем своем длительном протяжении — почти полвека — на всех этапах нашей жизни в изгнании совершенно сбивала с толку и окружающие злые силы, и докучливых посланцев от внешних обстоятельств. Многие мои произведения посвящены моей жене, и ее портрет часто каким-то таинственным образом проявляется в отраженном свете внутренних зеркал моих книг. Мы поженились в Берлине, в апреле 1925 года, в разгар сочинения мною первого русского романа. Мы были до смешного бедны, ее отец разорен, моя мать-вдова существовала на жалкую пенсию. Мы с женой жили в мрачных комнатках, которые снимали в западном районе Берлина, найдя приют у полуголодного семейства немецких военных; я давал уроки тенниса и английского, а через девять лет, в 1934 году, на заре новой эры родился наш единственный сын. В конце тридцатых мы эмигрировали во Францию. Мои произведения начали переводить, мои публичные чтения в Париже и других местах стали весьма популярны; но вот пришел конец моей европейской жизни: в мае 1940 года мы переехали в Америку.
У советских политиков довольно смешная провинциальная манера аплодировать рукоплещущей им аудитории. Надеюсь, меня не обвинят в лукавом самодовольстве, если я скажу в ответ на ваши комплименты, что имею самых замечательных читателей, о каких писатель может только мечтать. Считаю себя американским писателем, родившимся в России, получившим образование в Англии, взращенным на западноевропейской культуре; я чувствую в себе это сочетание, но даже и столь явный сливовый пудинг не в состоянии разобраться, из чего он состоит, в особенности пока его озаряет бледный огонь свечек. И Филд, и Аппель, и Проффер, и многие другие в США, и Циммер в Германии, и Вивиан Даркблоом (известный в Кембридже своей застенчивостью) — все они обогатили своей эрудицией мое творческое вдохновение, что и принесло блистательные результаты. Мне бы хотелось сказать еще и о моих героических читателях из России, но не позволяет, помимо чувства ответственности, избыток всяких чувств, с которыми я пока не могу совладать разумным путем.
Непревзойденная почтовая служба. Ни надоедливых демонстраций, ни яростных забастовок. Альпийские бабочки. Фантастические закаты — достаточно взгляда на запад из окна — усыпают блестками озеро, дробя багряное солнце! К тому же — неожиданная прелесть метафорического заката в очаровательных окрестностях.
Фраза представляет собой софизм, поскольку, если ее утверждение справедливо, то она сама — «суета», а если не справедливо, тогда при чем тут «всё». Вы утверждаете, будто это — главный мой девиз. Да что вы, неужто и в самом деле в моей прозе столько обреченности и «крушения надежд»? Гумберт терпит крах, это очевидно; кое-кто из других моих негодяев тоже терпит крах; полицейские государства терпят полнейший крах в моих романах и рассказах; однако любимые мои создания, мои блистательные герои — в «Даре», в «Приглашении на казнь», в «Аде», в «Подвиге» и т. п., — в конечном счете оказываются победителями. По правде говоря, я верю, что в один прекрасный день явится переоценщик, который объявит, что я совсем не легкомысленная жар-птица, но убежденный моралист, изобличающий грех, бичующий глупость, высмеивающий пошлость и жестокость, утверждающий главенство нежности, таланта и чувства гордости.
Перевод Оксаны Кириченко
Февраль 1972
Интервью Симоне Морини
{201}Мир был и остается для вас открытым. С вашим прустовским чувством места что так привлекает вас в Монтрё?
Мое чувство места скорее набоковское, чем прустовское. Что касается Монтрё, здесь много привлекательных моментов — приятные люди, близость гор, исправная почта, квартира в комфортабельном отеле. Мы живем в старой части «Палас-отеля», фактически в его исконной части, той, что существовала и сто пятьдесят лет назад (на старых эстампах 1840 года или около того видно здание гостиницы в его первоначальном виде и различимы наши будущие окна). Наши апартаменты состоят из нескольких маленьких комнат с двумя с половиной ваннами — результат недавнего слияния двух квартир. Последовательность расположения такова: кухня, гостиная-столовая, комната моей жены, моя комната, бывшая кухонька, теперь заполненная моими бумагами, и бывшая комната нашего сына, превращенная в кабинет. Квартира забита книгами, картотечными ящиками и папками. То, что весьма помпезно называется библиотекой, представляет собой заднюю комнату, в которой собраны мои опубликованные работы, и есть еще дополнительные полки на чердаке, слуховое окно которого часто посещают голуби и клушицы. Я привожу это мелочно-дотошное описание, чтобы опровергнуть искажения в интервью{202}, недавно опубликованном в другом нью-йоркском журнале, — длинной штуке с досадными лжецитатами, неверной интонацией и фальшивым обменом репликами, в продолжение которого я, оказывается, пренебрежительно отзываюсь об ученых трудах своего дорогого друга как об исполненных «педантизма» и отпускаю двусмысленные шуточки{203} по поводу трагической судьбы мужественного писателя.
Содержится ли доля правды в слухах о том, что вы подумываете навсегда оставить Монтрё?
Ну, ходят слухи, что каждый из живущих ныне в Монтрё рано или поздно покинет его навсегда.
«Лолита» представляет собой удивительный «Бедекер»{204} по Соединенным Штатам. Что очаровывало вас в американских мотелях?
Очарование было чисто утилитарным. В течение нескольких сезонов и по много тысяч миль за каждый сезон моя жена возила меня на автомобиле («плимут», «олдсмобиль», «бьюик», «бьюик спешл», «импала» — в таком порядке моделей) с единственной целью — собирать чешуекрылых; все они находятся теперь в трех музеях (Естественной истории в Нью-Йорке, Сравнительной зоологии в Гарварде и Ком-сток-холл в Корнелле). Обычно мы проводили день или два в каждом мотеле, но иногда, если охота бывала удачной, задерживались в одном месте на несколько недель. Основным raison d'tre[67] мотеля была возможность выйти из дома прямо в осиновую рощу с цветущими люпинами или взобраться на дикий горный склон. Мы совершали многочисленные вылазки и по дороге между мотелями. Все это я опишу в своей новой книге воспоминаний, «Продолжай, память», в которой, помимо любви к бабочкам, рассказывается о многих любопытных вещах — занятных случаях в Корнелле и Гарварде, веселых перебранках с издателями, моей дружбе с Эдмундом Уилсоном и так далее.
В поисках бабочек вы бывали в Вайоминге и Колорадо. Какими вы нашли эти места?
Моя жена и я собирали бабочек не только в Вайоминге и Колорадо, но и в большинстве других штатов, а также в Канаде. Список географических пунктов, которые мы посетили между 1940 и 1960 годами, занял бы много страниц. Каждая бабочка, убитая профессиональным сдавливанием торакса, немедленно опускается в маленький лощеный конверт; около тридцати таких конвертов умещается в одном походном контейнере, который, наряду с сачком, составляет мой единственный атрибут охоты. При соблюдении надлежащих условий хранения пойманные экземпляры могут содержаться в этих конвертах, до того как быть расправленными и уложенными под стекло, любое количество лет. На каждом конверте надписывается точное название местности и дата, которые заносятся также в карманный дневничок. Хотя пойманные мной образцы хранятся теперь в американских музеях, я сохранил сотни этикеток и записей. Вот всего несколько случайно выбранных заметок.
Дорога к Терри пику от Шоссе 85, близ Лида, 6500–7000 футов, в Черных горах Южной Дакоты, 20 июля 1958 г.
Над дорогой Томбой, между Социальным туннелем и шахтой Буллион, на высоте около 10500 футов, близ Теллурида, округ Сан-Мигель, зап. Колорадо, 3 июля 1951 г.
Близ Карнера, между Олбани и Шенектади, Нью-Йорк,
2 июня 1950 г.
Близ Колумбайн-Лодж, Эстес-парк, вост. Колорадо, около 9000 футов, 5 июня 1947 г.
Содовая гора, Орегон, ок. 5500 футов, 2 августа 1953 г.
Над Порталом, дорога к Растлер-парку, на высоте от 5500 до 8ооо футов, горы Чирикахуа, Аризона, 30 апреля 1953 г.
Ферни, в трех милях на восток от Элко, Британская Колумбия, 10 июля 1958 г.
Гранитный перевал, горы Бигхорн, 8950 футов, вост. Вайоминг, 17 июля 1958 г.
Близ озера Кроли, Бишоп, Калифорния, ок. 7000 футов, 3 июня 1953 г.
Близ Гатлинбурга, Теннесси, 21 апреля 1959 г. И так далее, и так далее.
Куда вы теперь ездите за бабочками?
В разные чудесные места в Вале, кантон Тессан; в Гризон; в итальянские горы; на острова в Средиземном море; в горы Южной Франции и иные местности. В основном я специализируюсь на европейских и североамериканских бабочках, живущих на больших высотах, и никогда не бывал в тропиках.
Маленькие горные поезда, взбирающиеся к альпийским лугам, через солнце и тень, над скальной породой или хвойным лесом, приемлемы в пути и восхитительны в пункте назначения, доставляя тебя к исходной точке путешествия, занимающего целый день. Все же мой любимый способ передвижения — канатная дорога, и особенно кресельный подъемник. Я нахожу чарующим и призрачным, в лучшем смысле слова, скользить, сидя в этом магическом кресле под утренним солнцем, от долины до границы леса, наблюдая сверху за собственной тенью — с призраком сачка в призраке сжатой руки, — следить, как ее сидящий силуэт мягко поднимается вдоль цветущего склона, меж танцующими бархатницами и проносящимися перламутровками. Когда-нибудь ловец бабочек погрузится в еще более мечтательную явь, плывя над горами, уносимый прицепленной к его спине крохотной ракетой.
Как вы обычно путешествовали в прошлом, отправляясь за бабочками? Разбивали вы, например, лагерь?
Юношей семнадцати лет, в канун русской революции, я серьезно планировал (будучи независимым обладателем унаследованного состояния) лепидоптерологическую экспедицию в Среднюю Азию, и она, естественно, была бы сопряжена с многочисленными лагерными стоянками. Ранее, в возрасте, скажем, семи или восьми лет, я редко забредал дальше полей и лесов нашего имения под Санкт-Петербургом. В двенадцать, собираясь отправиться в какое-нибудь местечко в полудюжине или более миль от дома, я пользовался велосипедом, привязывая сачок к раме; но проходимых на колесах лесных тропинок было немного. Можно было, конечно, добраться туда верхом, но из-за наших свирепых русских слепней оставлять коня на привязи в лесу на долгое время представлялось невозможным. Мой горячий гнедой однажды чуть не залез на дерево, к которому был привязан, пытаясь избавиться от них: крупных тварей с водянисто-шелковыми глазами и тигриными тельцами, и серых карликов, с еще более болезнетворным хоботком, но очень вялых. Разделаться с двумя или тремя из этих выцветших пьяниц, присосавшихся к шее моего рысака, одним ударом затянутой в перчатку руки доставляло мне замечательное эмфатическое облегчение (это может не понравиться специалисту по двукрылым). Так или иначе, во время своих походов за бабочками я всегда предпочитал ходьбу любым другим способам передвижения (не считая, разумеется, летающего сиденья, лениво парящего над травянистыми латками и скалистыми склонами неизведанной горы или порхающего над самой цветущей крышей тропического леса), ибо когда вы идете пешком, в особенности по хорошо изученной вами местности, существует изысканное наслаждение в том, чтобы, отклоняясь от выбранного маршрута, посетить ту или иную прогалину, лесистый островок, комбинацию почвы и флоры — заглянуть в гости к знакомой бабочке в среде ее обитания, взглянуть, вылезла ли она из кокона, и если да, как она поживает.
Каков ваш идеал превосходного гранд-отеля?
Абсолютная тишина, никакого радио за стеной и в лифте, гремящих наверху шагов и храпа снизу, никаких гондольеров, кутящих через дорогу, и пьяных в коридорах. Вспоминаю ужасную сценку (а это было в пятизвездочном паласе, на роскошь и уединенность которого указывал помещенный в путеводителе знак в форме красной певчей птички!).
Заслышав шум прямо за дверью своей спальни, я высунул голову, готовя проклятие — которое улетучилось, едва я увидел, что происходит в коридоре. Американец с наружностью путешествующего бизнесмена плелся, спотыкаясь, по коридору с бутылкой виски, а его сын, мальчик лет двенадцати, пытался его утихомирить, повторяя: «Пожалуйста, папа, пожалуйста, пойдем спать», — что напомнило мне схожую ситуацию в чеховском рассказе{205}.
Что, на ваш взгляд, изменилось в стиле путешествий за последние шестьдесят лет? Вы ведь любили спальные вагоны.
О да. В первые годы этого века в витрине бюро путешествий на Невском проспекте была выставлена модель дубово-коричневого международного спального вагона трех футов в длину. В своем изящном правдоподобии он намного превосходил крашеную жесть моих заводных поездов. К сожалению, модель не продавалась. Внутри можно было разглядеть голубую обивку, тисненую кожу стен купе, полированные поверхности, зеркала в рамах, прикроватные светильники в форме тюльпанов и другие сводящие с ума детали. Широкие окна чередовались с более узкими, одиночные со сдвоенными, а некоторые были из матовго стекла. В нескольких купе уже были разобраны постели.
Великолепный и славный тогда Норд-экспресс (он стал совсем другим после Первой мировой войны, когда его элегантный карий окрас сменился на нуворишский голубой), состоявший исключительно из таких международных вагонов, ходил дважды в неделю, соединяя Санкт-Петербург с Парижем. Я бы сказал, непосредственно с Парижем, если бы пассажирам не приходилось пересаживаться с одного на другой, отдаленно напоминающий первый поезд на русско-германской границе (Вержболово — Эйдкунен), где широкая и ленивая русская шестидесяти с половиной дюймовая колея сменялась пятидесяти шести с половиной дюймовым европейским стандартом и уголь заменял березовые поленья.
В дальнем уголке памяти я могу, кажется, различить пять таких поездок в Париж, причем конечным пунктом назначения были Ривьера или Биарриц. В 1909-м, год, который я сейчас вспомнил, наша компания состояла из одиннадцати человек и одной таксы. В перчатках и дорожной шляпе, в купе, которое он делил с нашим воспитателем, сидит, читая книгу, мой отец. Моего брата и меня отделяет от них умывальная комната. Моя мать и ее служанка Наташа занимают купе, соседнее с нашим. Далее следуют две моих младших сестры, их английская гувернантка, мисс Лавингтон (позже ставшая гувернанткой царских детей), и русская няня. Непарный в нашей компании, отцовский лакей Осип (которого спустя десять лет педантичные большевики расстреляли за то, что тот присвоил наши велосипеды, вместо того чтобы передать их народу) ехал в купе с незнакомцем (Фероди, известный французский актер).
Исчез плюмаж пара, исчезли гром и пламя, ушла романтика железной дороги. Популярный ныне train rouge[68] — всего лишь скоростной трамвай. Что касается европейских спальных вагонов, они теперь серые и вульгарные. «Одиночка», которой я обычно езжу, — это чахлое купе с угловым столиком, скрывающим несоразмерные туалетные приспособления (не очень отличается от фарсового американского «купе», где, чтобы добраться до искомого предмета, необходимо встать и подпереть плечом собственную кровать подобно Лазарю). Все же для человека с прошлым какое-то тающее очарование цепляется за международные спальные поезда, доставляющие вас прямо из Лозанны в Рим или с Сицилии в Пьемонт. Правда, тема вагона-ресторана изгажена. Сандвичи и вино продают лоточники на станциях, а ваш собственный пластиковый завтрак готовит изможденный полуодетый проводник в своей неряшливой каморке по соседству со зловонным вагонным туалетом; однако детские мгновения волнения и чуда иногда возвращаются благодаря тайне вздыхающих остановок в ночи или первому утреннему проблеску моря и скал.
Что вы думаете о суперсамолетах?
Я думаю, что рекламным отделам авиакомпаний, старающимся проиллюстрировать простор пассажирского салона, следует прекратить изображать невозможных детей, вертящихся между их безмятежной матерью и пытающимся читать незнакомцем с седыми висками. В остальном эти огромные машины — шедевры технологии. Я никогда не перелетал через Атлантику, но совершал упоительные перелеты самолетами «Свисс Эйр» и «Эр Франс». В них подают отличное спиртное, а вид с малых высот завораживающе прелестен.
Что вы думаете о багаже? Полагаете ли вы, что он тоже утерял изысканность?
Хороший багаж всегда приятен взгляду, и сейчас продается много красивых предметов багажа. Стиль, конечно, изменился. С нами нет больше слоновьих размеров дорожного кофра, образец которого появляется в визуально приятной, а в остальном абсурдной киноверсии посредственной, но все же правдоподобной «Смерти в Венеции» Манна. Я все еще бережно храню элегантный, элегантно потертый образчик багажа, некогда принадлежавший моей матери. Его путешествия в пространстве подошли к концу, но он все мягко жужжит, летя сквозь время, ибо я храню в нем старые семейные письма и такие любопытные документы, как свидетельство о моем рождении. Я на пару лет младше этого старинного чемодана, пятидесяти сантиметров в длину на тридцать шесть в ширину и шестнадцать в высоту, строго говоря, несколько увеличенного в размерах ncessaire de voyage[69] свиной кожи, с инициалами «H.N.», искусно шитыми густым серебром под такой же короной. Его купили в 1897 году для свадебного путешествия моей матери во Флоренцию. В 1917 он перевез из Санкт-Петербурга в Крым, а затем в Лондон, горстку драгоценностей. Около 1920 года он уступил ростовщику свои дорогие шкатулки из хрусталя и серебра, и хитро натянутые на внутренней стороне крышки кожаные карманы опустели. Утрата, однако, была более чем щедро возмещена за те тридцать лет, что он пропутешествовал со мной — из Праги в Париж, из Сен-Назара в Нью-Йорк и через зеркала более чем двухсот комнат в мотелях и арендованных домах, в сорока шести штатах. То, что самым долговечным предметом из нашего русского наследства оказался дорожный чемодан, представляется мне одновременно логичным и эмблематичным.
Что для вас является «совершенным путешествием»?
Любая первая прогулка в любом новом месте — особенно там, где до меня не был ни один лепидоптеролог. В Европе все еще остались неисследованные горы, а я пока могу проходить по двадцать километров в день. Обычный странник может испытать при такой прогулке укол удовольствия (безоблачное утро, деревня еще спит, одна сторона улицы уже залита солнцем, надо попытаться купить английские газеты на обратном пути, вот, кажется, поворот, точно, тропинка в Катаратту), но холодный металл палки сачка в моей правой руке усиливает удовольствие до почти непереносимого блаженства.
Перевод Марка Дадяна
Октябрь 1972
Интервью «покладистому анониму»
{206}Я хотел бы попросить вас прокомментировать две русские книги. Первая — «Доктор Живаго». Как я понимаю, вы всегда отказывались писать о ней?
Около пятнадцати лет назад, когда советский официоз подверг роман Пастернака лицемерным нападкам (для того чтобы тиражи зарубежных изданий постоянно росли, а выручку прикарманить и тратить на пропаганду, которую советские власти вели за рубежом), когда затравленного и загнанного в тупик писателя американская пресса превратила в икону, когда его «Живаго» стал состязаться в рейтинге бестселлеров с моей «Лолитой», мне представилась возможность ответить на предложение Роберта Бингема из нью-йоркской газеты «Репортер» написать на роман рецензию.
И вы отказались?
О да. Недавно я нашел в своих архивах черновик того ответа, датированного 8 ноябрем 1958 года, он был написан в Голдуин-Смит-холле (Итака, штат Нью-Йорк). Я написал Бингему, что существует несколько причин, мешающих мне свободно высказывать свое мнение в прессе.{207} Очевидная причина — страх навредить автору. Хотя я никогда не был влиятельным критиком, я живо представил себе стайку писак, стремящихся превзойти мою «эксцентричную» откровенность, что в конечном счете приведет к тому, что тиражи станут падать, тем самым планы большевиков будут разрушены, а их заложник окажется, как никогда, уязвим. Были и другие причины, но я, безусловно, оставляю в стороне тот момент, который мог бы изменить мое решение и в конце концов заставить меня написать эту сокрушительную статью, — воодушевляющая перспектива увидеть, как какой-нибудь осел или гусь объявляет факт ее появления ущемленным самолюбием соперника.
Вы поделились своими мыслями о «Докторе Живаго» с Робертом Бингемом?
Я сказал ему то, что думаю и по сей день. Любой интеллигентный русский человек увидел бы, что книга пробольшевистская и исторически фальшивая, и не только потому, что автор игнорирует либеральную революцию весны 1917 года, а его святой доктор принимает с бредовой радостью большевистский coup d'Etat[70] — и все это в полном соответствии с линией партии. Оставив в стороне политику, считаю, что книга — жалкая, топорная, тривиальная, мелодраматическая, с банальными ситуациями, сладострастнми адвокатами, неправдоподобными барышнями и банальными совпадениями.
И тем не менее вы высокого мнения о Пастернаке как о поэте?
Да, я горячо приветствовал тот факт, что ему присудили Нобелевскую премию, — у него очень сильные стихи. В «Живаго», однако, проза не достигает тех же высот, что его поэзия. То там, то здесь — в описании природы, в метафоре — слышны отголоски его поэтического таланта, но эти случайные фиоритуры не в состоянии спасти роман от провинциальной банальности, столь типичной для советской литературы последних пятидесяти лет. Именно эта связь с советской традицией внушила любовь к книге нашему прогрессивному читателю. Я глубоко сочувствую тяжкой судьбе Пастернака в полицейском государстве, но ни вульгарный стиль «Живаго», ни философия, ищущая пристанище в болезненно слащавом христианстве, не в силах превратить это сочувствие в энтузиазм собрата по ремеслу.
Однако книга стала чем-то вроде классики. Чем вы объясняете ее успех?
Я только знаю, что современными русскими читателями — читателями, которые представляют лучшую подпольную часть русской интеллигенции, теми, кто добывает и распространяет работы авторов-диссидентов, — «Доктор Живаго» не принимается с таким бесспорным, всепоглощающим восторгом, как воспринимается (или, по крайней мере, воспринимался) американцами. Когда роман был опубликован в Америке, левые идеалисты пришли в восторг, едва обнаружили в нем доказательства того, что и при советской власти может быть создана «великая книга». Для них это было торжеством ленинизма. Их утешало, что ее автор вопреки всему остался на стороне ангелоподобных старых большевиков и что в его романе нет ничего, хотя бы отдаленно напоминающего неукротимое презрение истинного изгнанника к зверскому режиму, насажденному Лениным.
Давайте теперь обратимся… (Текст на этом обрывается.)
Перевод А.Г. Николаевской
Ноябрь 1972
Интервью Клоду Жанно
Вы написали выдающиеся литературные произведения как по-английски, так и по-русски. Случай в мировой литературе почти что уникальный.
Случай, о котором вы говорите, не «почти что», а попросту уникальный. Вероятно, в каких-то тайниках мировой литературы, ежели очень постараться, можно обнаружить авторов, которые начали карьеру с написания десятка романов на одном языке, а затем, после сорока, написали бы еще десяток на другом, но мне неизвестны писатели, у которых серии романов на том и на другом языке обладали бы одинаковой художественной ценностью. Поспешу добавить, что Джозеф Конрад никогда не писал книг на польском языке.
Вы провели юношеские годы в России, затем жили то в Англии, то в Германии, то в Соединенных Штатах. И вот теперь обосновались в Швейцарии. Почему? Вы намерены там остаться?
Я проживаю в Швейцарии по семейным причинам. Для ваших читателей они не представляют никакого интереса. Мне очень нравится Швейцария, но каждую весну я ощущаю щемящую тоску по Америке, моей любимой родине. В течение последних десяти лет я бывал там лишь дважды. Путешествие на корабле слишком продолжительно, а летать я ненавижу. Тем не менее на будущий год я планирую побаловать себя доброй порцией калифорнийского солнца.
Как вам жилось в довоенной Франции? Вас издавали. А с кем из литературного мира вы общались и для кого писали?
В промежутке между двух войн наибольшую часть моей читательской аудитории составляли эмигрировавшие русские интеллигенты. Помимо авторских гонораров за публикации, к 1935 году приносивших мне доход, достаточный для жизни (учитывая большое количество газет и журналов в Берлине, Париже, Праге и т. д.), я также получал деньги за чтение своих стихов и прозы на публичных вечерах перед русской аудиторией. В тридцатые годы я был в коротких отношениях с некоторыми французскими писателями: с Супервьелем, Поланом, с литераторами из редакций «Нувель ревю франсез» и «Мезюр».
Однажды мне довелось прочесть лекцию по-французски, в рамках цикла, задуманного Габриэлем Марселем. Чтения эти должна была торжественно открыть одна венгерская романистка{209}, тогда опубликовавшая «бестселлер» «Кот, который ловит рыбу» или «На рыбалке с котом», теперь уж не припомню; но вдруг в последнюю минуту она заболевает, и в шесть часов вечера мне звонит Марсель{210} и умоляет ее заменить. Все, что у меня было под рукой в качестве лекционного материала, — статья о Пушкине для «Нувель ревю франсез», которую я только что завершил. И вот я приезжаю и что же вижу? В зале аншлаг, ибо венгерскую колонию предупредить не успели и, более того, позвали нескольких моих друзей: Поля и Люси Леон, моего переводчика Дени Роша, мадам Тарр, Алданова, Бунина, Керенского. Первым, кто подошел пожать мне руку, был венгерский консул, принесший мне свои соболезнования, будучи в полной уверенности, что имеет дело с мужем писательницы. Едва я приступил к докладу, в зале зашикали; в первом ряду, прямо посередине национальной сборной Венгрии по футболу, восседал Джеймс Джойс, которого чета Леон попросила прийти меня послушать.
«Другие берега» — книга воспоминания и изгнания. Тема эмиграции занимает значительную часть вашего творчества. Я имею в виду, в частности, такие романы, как «Дар» и особенно «Пнин». Занимает ли тема эмиграции основополагающее место в вашем творчестве? Остаетесь ли вы в душе русским писателем или чувствуете себя писателем-космополитом?
Эмигрантская критика частенько обвиняла мои первые романы, опубликованные между 1925 и 1940 русскоязычными издательствами в Берлине и Париже, в излишней космополитичности, точно так же как в школьные годы мои учителя находили, что я употребляю чересчур много французских и английских выражений в домашних сочинениях. Славянская душа не самая моя сильная сторона. Русский я знаю в совершенстве и помню каждую тропинку, каждый мелодичный посвист иволги в парке моего детства. Но это все. Рискуя разбить сердце моих русских читателей, с гордостью говорю, что являюсь американским писателем. К слову, мы с сыном полностью перевели все мои русские произведения на английский, тогда как изо всех моих английских романов в русском переводе вышла только «Лолита» (что заняло у меня целый год работы). Эта книга (как и все мои другие книги) запрещена в России, хотя отдельные экземпляры туда тихой сапой проникают постоянно.
Нынешним летом все зачитывались «Защитой Лужина». В герое угадываются черты Бобби Фишера{211}. Вы чрезвычайно продвинутый любитель шахматной игры.
Не вижу ни малейшего сходства между Фишером и моим Лужиным, человеком обрюзглым, кротким, угрюмым и трогательным. До пятидесяти лет я был очень сильным игроком, но более всего меня всегда занимало составление шахматных задач. Еще совсем недавно восемнадцать из них появились в сборнике «Poems and problems» («Стихи и задачи»). Я печатал многие этюды в «Санди Таймс» и в английском журнале «Проблемист».
Что вы думаете по поводу кубриковской киноэкранизации «Лолиты», к сценарию которой вы сами, кажется, приложили руку?
Правда то, что я написал фильмовую пьесу. Правда и то, что Кубрик использовал ее лишь на три четверти, изменив в ней разнообразные детали, которые я так удачно скомпоновал. Его фильм великолепен, с чудесными актерами, вот только нимфетка там совершенно не моя.
Я считаю, что «Бледный огонь» ваш самый выдающийся роман. Того же мнения придерживается и Роб-Грийе. Во многом это сложное произведение. Вы не могли бы поговорить о нем? И заодно прояснить вашу концепцию романа?
У меня нет никакой концепции романа. Осмелюсь даже сказать, что «роман» в виде общей идеи не существует. Я ненавижу общие идеи. Для меня «Госпожа Бовари» столь отличается от «Воспитания чувств», а они вместе столь отличаются от нелепой «Пармской обители» или от пошлого «Постороннего», что фраза «романы Флобера, Стендаля, Камю» не имеет для меня ни малейшего смысла. Я полагаю, что «Вуайер» («Подглядчик»), «Ревность», «В Лабиринте» бесконечно выше всего, что я читал из французского «романа» на протяжении лет тридцати, но должен добавить, что озвученные моим другом Роб-Грийе теории оставляют меня совершенно безразличным.
Французам явно не повезло с «Адой»{212}, слишком уж долго они находятся в ожидании перевода. Так ли исключительно важны эти проблемы перевода? Мне бы хотелось, чтобы вы познакомили нас с сюжетом «Ады».
Я в достаточной мере владею тремя языками — русским, английским и французским, дабы контролировать каждую деталь в переводе моих книг. Я настаиваю на том, чтобы перевод был достоверным, без малейших упущений и погрешностей. Я прошу, чтобы предметы, части моих пейзажей оставались узнаваемыми и чтобы мне не подсовывали какую-то «пурпурную тень», когда я пишу «purple shade» — фиолетовая тень. Я всегда готов сам заниматься тем, что требует точности или специальных знаний.
Только я ответственен за золотые песчинки стихов, инкрустированных в мою прозу, за так называемую «непереводимую» игру слов, за бархатистость той или иной метафоры, за концовку той или иной фразы и за все точные термины из ботаники, орнитологии и энтомологии, которые раздражают плохого читателя моих романов. Единственное, в чем переводчик обязан разбираться до тонкостей, — это язык, на котором написан мой текст; однако же я более с грустью, нежели с удивлением замечаю, что маститые переводчики с английского на французский чувствуют себя уютно, только работая с клише. Любая оригинальность сбивает их с толку.
Вы написали новый роман. О чем?
Название этого только что появившегося в Америке романа — «Просвечивающие предметы». Некое бестелесное существо — душа недавно умершего от болезни печени романиста — повествует о трудностях, которые испытывают привидения в восприятии нашего мира, в том, чтобы не отстать от нашего настоящего и не погрузиться в прошлое сквозь просвечивающие человеческие вещи. Это весьма забавный роман. Но он не для всех.
Ваше творчество критика менее известно во Франции, чем творчество романиста. Тем не менее я нахожу, что оно обладает первостатейной важностью, в том числе еще и потому, что проливает свет на вашу концепцию литературы и технику письма. Я говорю прежде всего о вашей книге о Пушкине.
Я не совсем понимаю, почему бы какому-нибудь французскому ученому не взяться за дословный прозаический перевод «Евгения Онегина». С теми комментариями и пояснениями, которыми я снабдил мое английское четырехтомное издание. Откуда это свежеиспеченное безразличие французского читателя к по-настоящему значительным произведениям?
Вы питаете большую неприязнь к Достоевскому. Почему?
Ненавижу «ангажированных» писателей, расхожие убеждения и помпезный стиль.
Кто из нынешних писателей вам интересен? Что вы, в частности, думаете о Гомбровиче{213} и о школе «нового романа»?
Я ничего не читал Гомбровича и плохо представляю себе, что такое «школа» романа, старого или нового.
Перевод Александра Маркевича
<1973?>
Интервью анониму
{214}Критики испытывают затруднения при определении темы романа «Просвечивающие предметы»{215}.
Его тема — всего лишь производимое из-за кипарисовой запредельности исследование сцепления случайных судеб. Несколько внимательных читателей из числа литературных обозревателей написали о нем прекрасные строки. Однако ни они, ни, конечно же, заурядные критиканы не усмотрели структурного узла моей истории. Могу я разъяснить ее простую и изящную суть?
Сделайте одолжение.
Позвольте мне процитировать отрывок из первой страницы романа, озадачивший мудрецов и сбивший столку простаков: «Когда мы сосредотачиваемся на любом предмете материального мира… само наше внимание непроизвольно погружает нас в его историю».[71] На протяжении книги приведено несколько примеров такого проникновения сквозь «натянутую пленку» настоящего. Так, излагается история жизни карандаша. В другой, более поздней главе, рассматривается прошлое убогой комнатки, в которой, вместо того чтобы фиксировать внимание на Персоне и проститутке, призрачный наблюдатель уплывает в середину прошлого столетия и видит русского путешественника, грустного Достоевского, занимающего эту комнату, где-то между швейцарским игорным домом и Италией.
Другой критик сказал...
Да, я подхожу к этому. Рецензенты моей книжки совершили легкомысленную ошибку, предположив, что видение сквозь предметы есть профессиональная функция романиста. На самом деле подобное обобщение не только уныло и банально, но и неверно по существу. В отличие от таинственного наблюдателя или наблюдателей в «Просвечивающих предметах» романист, подобно всем смертным, чувствует себя более уютно на поверхности настоящего, чем в иле прошлого.
Итак, кто же он, этот наблюдатель; кто эти выделенные курсивом «мы» в четырнадцатой строке романа; кто, Бога ради, этот «я» в его самой первой строке?
Отгадка, друг мой, настолько проста, что становится почти неловко приводить ее. Но вот она. Случайным, но занятно действенным компонентом моего романа является г-н R., американский писатель немецкого происхождения. Он пишет по-английски правильнее, чем говорит на этом языке. В разговоре R. обнаруживает досадную привычку то и дело вставлять автоматическое «знаете ли» немецкого эмигранта и, что еще более неприятно, злоупотреблять тривиальнейшими, неверно использованными, искаженными американскими клише. Хороший пример — это его незваное, хотя и благонамеренное предостережение в последней строчке последней главы: «Легче, сынок, сама, знаешь, пойдет».
Некоторые критики увидели в г-не R. портрет или пародию на г-на Н.{216}
Совершенно верно. Их привела к этой догадке обычная легковесность мысли, ибо, полагаю, оба этих писателя — натурализовавшиеся граждане США и оба они проживают, или проживали, в Швейцарии. Когда начинаются «Просвечивающие предметы», г-н R. уже мертв, и его последнее письмо отослано в «хранилище» в конторе его издателя (см. двадцать первую главу). Оставшийся в живых писатель, конечно же, несравненно более искусный художник, чем г-н R., и к тому же последний, в своих «Транслятициях», почти прыскает ядом зависти в невыносимо улыбающегося Адама вон Либрикова (девятнадцатая глава), анаграмматический псевдоним, расшифровать который может и ребенок. На пороге моего романа Хью Персона встречает призрак или призраки — возможно, его умершего отца или умершей жены; или, что более вероятно, покойного мсье Кронига, бывшего директора отеля «Аскот»; еще более вероятно, фантом г-на R. Это предвещает триллер: чей призрак будет вмешиваться в сюжет? Как я уже поведал в своей экзегезе: в последней строчке книги новопреставившегося Хью приветствует ни кто иной, как лишенный телесной оболочки, но от этого не менее гротескный г-н R.
Понятно. И чем вы собираетесь заняться теперь, барон Либриков? Новым романом? Мемуарами? Утиранием носа болванам?
Почти завершены две книжки рассказов и сборник эссе{217}, и в проем двери уже просунул ножку новый чудесный роман{218}. Что до утирания носов болванам, я никогда этим не занимаюсь. Мои книги, все мои книги, адресованы не «болванам»; не кретинам, полагающим, что я обожаю длинные латинизированные слова; не ученым психам, находящим в моих романах сексуальные или религиозные аллегории; нет, мои книги адресованы Адаму фон Л., моей семье, нескольким проницательным друзьям и всем родственным мне душам во всех закоулках мира, от библиотечных кабинок Америки до кошмарных глубин России.
Перевод Марка Дадяна
Март 1973
Интервью Мати Лаансу
{219}Как вы относитесь к Нобелевской премии{220} по литературе? Люди, серьезно изучавшие ваши книги, определенно считают вас величайшим из ныне живущих авторов. Учитывая это, как вы объясняете достойное сожаления невнимание Нобелевского комитета к вашим произведениям? Может быть, дело в географических границах и идеологических различиях?
Ваш первый вопрос столь точно и приятно составлен, что меня смущает та расплывчатость, с которой я вынужден сформулировать свой ответ. На протяжении последних трех или четырех десятилетий я иногда лениво размышлял о привлекательном сходстве между началом названия этой знаменитой премии и началом моей собственной фамилии: Н, О, Б — Н, А, Б, какая восхитительная повторяемость букв! Аллитерация, однако, обманчива. Ее магия не в силах установить счастливой связи между лаврами и челом. С другой стороны, я осознаю, что как писатель не уступаю, скажем, Рабиндранату Тагору (1913) или Грации Деледде{221} (1926); и в то же самое время в мире, конечно же, существует немало некоронованных авторов, лелеющих то же тщетное чувство. Что касается догадки, высказанной в конце вашего вопроса, я могу лишь вновь выразить уверенность, что честных судей не должно останавливать мое геополитическое положение — положение непрогрессивно мыслящего американского изгнанника из канувшей в небытие России. Вся эта ситуация может показаться несколько экстравагантной; но было бы абсурдом называть ее безнадежной. В конце концов, давайте не забывать, что и другой русский, находившийся в положении, очень схожем с моим, все-таки получил эту премию. Его имя, несомненно, вам знакомо. Я, разумеется, говорю об Иване Бунине (1933).
Сейчас часто можно услышать слово «ответственность». Какую ответственность вы несете перед детьми как «взрослый», в антропологическом смысле?