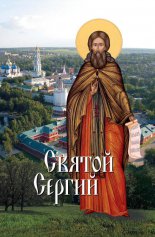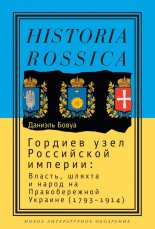О Набокове и прочем. Статьи, рецензии, публикации Мельников Николай
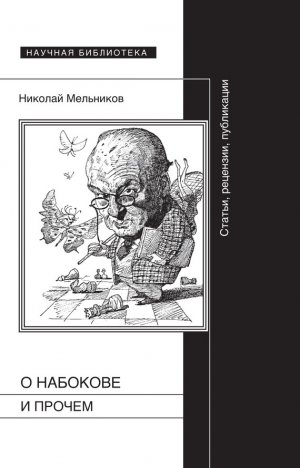
Кларенс Браун{133} из Принстона выявил поразительные параллели в ваших сочинениях. Он говорит, что вы «чрезвычайно часто повторяетесь» и что совершенно различными способами вы, по существу, говорите одно и то же. Он указывает, что судьба — это «муза Набокова». Осознаете ли вы, что «повторяетесь» или, говоря иначе, что вы сознательно стремитесь к единству всех ваших книг?
Не думаю, что читал эссе Кларенса Брауна, но, кажется, в его словах что-то есть. Писатели, зависимые от других, кажутся разнообразными, поскольку они подражают многим и из прошлого, и из настоящего. В то время как художественная индивидуальность может воспроизводить только саму себя.
Думаете ли вы, что литературная критика сколько-нибудь целенаправлнна: вообще или конкретно в отношении ваших книг? Бывает ли она поучительна?
Цель критики — сказать что-нибудь о книге, которую критик читал или не читал. Критика может быть поучительной в том смысле, что она дает читателям и автору книги некоторое представление либо об уме критика, либо о его искренности, либо и о том и о другом.
А роль редактора? Помог ли вам когда-нибудь редактор чисто литературным советом?
Под «редактором», я полагаю, вы подразумеваете корректора. Среди последних мне встречались чистые создания, обладавшие бесконечным чувством такта и мягкостью, которые обсуждали со мной точку с запятой так, словно это был вопрос чести, — а им действительно часто становятся вопросы искусства. Но я сталкивался также с некоторыми напыщенными грубиянами, которые пытались покровительственно «давать советы», на что я моментально отвечал громовым «оставить как было!».
Вы энтомолог, который подкрадывается к жертвам? Если да, то не отпугивает ли их ваш смех?
Напротив, он убаюкивает их до вялого состояния уверенности в собственной безопасности, которое испытывает насекомое, когда имитирует мертвый лист. Хотя я не то чтобы большой охотник до чтения рецензий на мои произведения, я припоминаю эссе некой юной дамы{134}, которая пыталась найти в моей прозе энтомологические символы. Эссе могло бы получиться забавным, если бы она знала хоть что-нибудь о чешуекрылых. Увы, она проявила полное невежество, и из-за путаницы в употребляемых ею терминах эссе выглядело фальшиво и глупо.
Что вы можете сказать о вашем отчуждении от так называемой «белой» русской эмиграции?
Ну, исторически я сам из «белых» русских, поскольку все русские, покинувшие Россию в первые годы большевистской тирании из-за враждебного отношения к ней, как это сделала и моя семья, были и остаются «белыми» русскими в широком смысле слова. Но эти эмигранты были разбиты на такое же количество социальных группировок и политических фракций, какое существовало в стране до большевистского переворота. Я не имею ничего общего с белыми эмигрантами из «черной сотни», равно как и с так называемыми «большевизанами», то есть «розовыми». С другой стороны, у меня есть друзья среди интеллигентных конституционных монархистов, также как и среди интеллектуальных социалистов-революционеров. Мой отец был старомодным либералом, и я не возражаю, когда и меня называют старомодным либералом.
Что вы можете сказать о вашем отчуждении от современной России?
Я испытываю глубокое недоверие к разрекламированной фальшивой оттепели; меня не оставляет сознание того, что совершенные там беззакония невозможно искупить. Я чувствую полнейшее равнодушие ко всему, что движет сегодняшним советским патриотом; и глубокое удовлетворение оттого, что уже в 1918 году я распознал meshchanstvo (мелкобуржуазное самодовольство, филистерскую сущность) ленинизма.
Как вы сегодня относитесь к поэтам Блоку, Мандельштаму и другим, которые писали до того, как вы покинули Россию?
Я читал их в детстве, более полувека назад. С того самого времени я страстно люблю лирику Блока. Его длинные вещи слабы, а его знаменитая поэма «Двенадцать», сознательно написанная фальшивым «примитивным» стилем, с розовым картонным Иисусом Христом, приклеенным в конце, — ужасна. Что касается Мандельштама, то его я тоже знал наизусть, но он доставлял мне не столь пылкое наслаждение. Сегодня сквозь призму трагической судьбы его поэзия кажется более великой, чем она есть на самом деле{135}. Я хочу заметить кстати, что преподаватели литературы до сих пор относят этих двух поэтов к разным школам. Но есть только одна школа — школа таланта.
Я знаю, что ваши сочинения читаются и подвергаются нападкам в Советском Союзе. Как бы вы отнеслись к советскому их изданию?
Ну, пускай печатают, если хотят. Кстати, «Эдишнз Виктор» печатает репринтное русское издание 1939 года «Приглашения на казнь», а нью-йоркское издательство «Федра» публикует мой русский перевод «Лолиты». Я уверен, что советское правительство будет радо официально признать роман, вроде бы содержащий пророческую картину гитлеровского режима, и роман, как полагают, клеймящий американскую систему мотелей.
Вы когда-нибудь вступали в контакт с советскими гражданами? Как это было?
Никаких контактов с ними я практически не имею, хотя однажды из чистого любопытства в начале тридцатых или в конце двадцатых годов я согласился встретиться с представителем большевистской России, который изо всех сил старался убедить эмигрировавших писателей и художников вернуться обратно в загон. У него была двойная фамилия, Тарасов-что-то{136}, и он был автором какой-то повестушки под названием «Шоколад». Мне захотелось немного поиграть с ним. Я спросил, позволят ли мне свободно писать и, если мне там не понравится, покинуть Россию. Он ответил, что у меня не будет времени для праздных мыслей о заграничных поездках, настолько глубоко я буду погружен в счастливое созерцание своего отечества. Я буду совершенно свободен выбирать любую, сказал он, из многочисленных тем, которые Советская Россия разрешает писателю освещать, таких, как колхозы, фабрики, леса в Псевдостане, ну и множество других увлекательных предметов. Я сказал, что колхозы и т. п. нагоняют на меня скуку, и мой коварный обольститель вскоре сдался. Ему больше повезло с композитором Прокофьевым.
Вы считаете себя американцем?
Да, считаю. Но я такой же американец, как апрель в Аризоне. Флора, фауна, воздух западных штатов — все это связывает меня с азиатской и арктической Россией. Я слишком многим обязан русскому языку и пейзажу, чтобы быть эмоционально причастным, скажем, к американской почвеннической литературе, или индейским танцам, или тыквенному пирогу в духовном плане; однако я действительно чувствую теплую и беззаботную гордость, когда показываю свой зеленый американский паспорт на европейских границах. Грубая критика американской политики оскорбляет и огорчает меня. Во внутренней политике я убежденный противник расизма, во внешней — я определенно на стороне правительства. И если у меня есть сомнения, я всегда пользуюсь простым методом, выбирая ту линию поведения, которая будет особенно неприятна красным и Расселам{137}.
Вы причисляете себя к какому-нибудь сообществу?
Вообще-то нет. В уме я могу перечислить довольно много людей, к которым хорошо отношусь, но они составили бы весьма разношерстную и дисгармоничную компанию, если их собрать вместе в реальной жизни на реальном острове. С другой стороны, я бы сказал, что чувствую себя довольно уютно в обществе американских интеллектуалов, читавших мои книги.
Каково ваше мнение об академической среде — помогает ли она писателю творить? Можете ли вы конкретно рассказать о пользе или вреде от вашего преподавания в Корнеллском университете?
Первоклассная библиотека в комфортабельном университетском городке — хорошая среда для писателя. Хотя, конечно, существует проблема воспитания молодежи. Я помню (правда, это было не в Корнелле), как однажды во время каникул студент принес в читальный зал радиоприемник. Он умудрился заявить, что 1) он слушал «классическую» музыку, что 2) он делал это «тихо» и что 3) «летом здесь не особо много читателей». Там был я, множество читателей в лице одного человека.
Не могли бы вы рассказать об отношениях с сегодняшней литературной общественностью? С Эдмундом Уилсоном, Мэри Маккарти, с редакторами журналов и издателями, которые вас печатают?
Единственный случай моего сотрудничества с другим писателем — перевод «Моцарта и Сальери» Пушкина для журнала «Нью рипаблик», сделанный совместно с Эдмундом Уилсоном двадцать пять лет назад, — довольно парадоксальное воспоминание, если учесть, что он выставил себя в прошлом году в весьма глупом свете, имея наглость подвергать сомнению мое понимание «Евгения Онегина»{138}. С другой стороны, Мэри Маккарти{139} показала недавно в том же «Нью рипаблик», что очень добра ко мне, хотя мне и кажется, что она добавила слишком много ванили в бледный огонь сливового пудинга Кинбота. Я предпочитаю не касаться здесь своих отношений с Жиродиа. В журнале «Эвергрин» я ответил на его подлую статью в антологии «Олимпия». В остальных случаях мои отношения с издателями превосходные. Воспоминание о сердечной дружбе с Кэтрин Уайт и Биллом Максвеллом из «Нью-Йоркера» вызвало бы и у самого высокомерного писателя только чувство благодарности и удовольствия.
Может быть, вы расскажете о том, как работаете? Вы пишете по заранее составленной схеме? Перескакиваете с одного места на другое или пишете от начала и до конца?
Образ вещи предшествует ей. Я заполняю пустые клетки в кроссворде в любом угодном мне месте. Эти кусочки я записываю на справочные карточки, пока роман не будет окончен. У меня достаточно гибкое расписание, но я довольно требовательно отношусь к своим инструментам: разлинованные бристольские карточки и хорошо отточенные карандаши, не слишком твердые и с ластиком на конце.
Существует ли определенная картина мира, которую вы хотели бы создать? Прошлое очень важно для вас даже в таком романе о «будущем», как «Под знаком незаконнорожденных». Можно ли сказать, что вы подвержены ностальгии? В какое время вы хотели бы жить?
В грядущие дни бесшумных самолетов и изящных летательных аппаратов, безоблачных серебристых небес и универсальной системы мягких подземных дорог, куда, подобно «морлокам», будут сосланы грузовики. Что касается прошлого, то я бы не возражал против возвращения из некоторых уголков временного пространства таких позабытых удобств, как мешковатые штаны и длинные глубокие ванны.
Знаете, вам совершенно необязательно отвечать на все мои «кинботовские» вопросы.
Но я не собираюсь отказываться даже от самых каверзных из них. Так что давайте продолжим.
Чем бы вы хотели больше всего заниматься, кроме литературы?
Ну конечно же ловлей бабочек и их изучением. Удовольствие от литературного вдохновения и вознаграждение за него — ничто по сравнению с восторгом открытия нового органа под микроскопом или еще неизвестного вида в горах Ирана или Перу. Вполне вероятно, что, не будь революции в России, я бы целиком посвятил себя энтомологии и вообще не писал бы никаких романов.
Что наиболее характерно для «poshlust» в современной литературе? Искушала ли она вас когда-нибудь? Поддавались ли вы на это искушение?
Пошлость (английскими буквами лучше написать «poshlost») имеет много нюансов, и, очевидно, я недостаточно ясно описал их в моей маленькой книге о Гоголе, если вы считаете, что можно спрашивать кого-нибудь, искушает ли его пошлость. Всякий банальный хлам, вульгарные клише, филистерство во всех его проявлениях, подражание подражанию, ложная глубина, грубая, тупая и лживая псевдолитература — вот очевидные примеры пошлости. Если же мы хотим пригвоздить пошлость в современной литературе, то мы должны искать ее во фрейдовском символизме, в изъеденных молью мифологиях, в социальной критике, в гуманистических посланиях, в политических аллегориях, в излишней заботе о расе или классе и в журналистских общих местах, о которых все мы знаем. Пошлость слышна в заявлениях типа «Америка не лучше России» или «мы все разделяем вину Германии». Ростки пошлости расцветают в таких выражениях и словах, как «момент истины», «харизма», «экзистенциальный» (употребленном серьезно), «диалог» (о политических переговорах между странами) и «изобразительный язык» (когда говорят о каком-нибудь мазиле). Перечислять на одном дыхании Освенцим, Хиросиму и Вьетнам — это возмутительная пошлость. Быть членом клуба для избранных, в котором единственная еврейская фамилия принадлежит казначею, — это модная пошлость. Расхожие журналы часто печатают пошлость, но она проскальзывает и в некоторых высоколобых эссе. Пошлость называет мистера Глупца великим поэтом, а мистера Хитреца великим романистом. Одним из излюбленных мест выращивания пошлости всегда была художественная выставка; там ее производят так называемые скульпторы, использующие инструменты рабочих со свалки, создающие колченогих кретинов из нержавейки, дзен-буддистские радиоприемники, птиц из вонючего полистирола, вещи, отысканные в отхожих местах, пушечные ядра, консервные банки. Там мы любуемся образцами обоев так называемых художников-абстракционистов, восхищаемся фрейдистским сюрреализмом, грязными кляксами в форме росы, чернильными пятнами из тестов Роршаха{140} — все это по-своему так же банально, как академические «Сентябрьские утра» и «Флорентийские цветочницы» полувековой давности. Это длинный список, и, конечно, у каждого в нем есть свой bte noire, свой домашний черный кот. Самое невыносимое для меня — авиареклама: подобострастная девка подносит закуски парочке молодых пассажиров — она в экстазе взирает на бутерброд с огурцом, а он с тоской любуется стюардессой. И «Смерть в Венеции» сюда же. Видите, какой диапазон.
Есть ли современные писатели, за творчеством которых вы с удовольствием следите?
Есть несколько таких писателей, но я не буду их называть. Анонимное удовольствие никому не причиняет вреда.
Но есть и такие, за которыми вы следите с болью?
Нет. Многие признанные писатели для меня просто не существуют. Их имена высечены на пустых могилах, их книги — бутафория, а сами они, на мой литературный вкус, совершенные ничтожества. Брехт, Фолкнер, Камю и многие другие ничего не значат для меня, и я должен бороться с подозрением в заговоре против моего мозга, когда вижу, как критики и собратья-писатели преспокойно принимают за «великую литературу» совокупления леди Чаттерлей или претенциозную бессмыслицу этого совершеннейшего мошенника мистера Паунда. Я заметил, что в некоторых домах он заменил доктора Швейцера.
Как поклонник Борхеса и Джойса, вы, кажется, разделяете их склонность дразнить читателя всякими фокусами, каламбурами и загадками. Какими, на ваш взгляд, должны быть отношения между читателем и писателем?
Я не припоминаю никаких каламбуров у Борхеса, правда, я читал его только в переводе. Вообще-то его изящные сказочки и миниатюрные минотавры не имеют ничего общего с громадными механизмами Джойса. Я также не нахожу большого количества загадок в «Улиссе» — в этом самом прозрачном из романов. С другой стороны, я терпеть не могу «Поминки по Финнегану», где злокачественное разрастание прихотливой словесной ткани едва ли искупает это ужасное фольклорное веселье и простую, слишком понятную аллегорию.
Чему вы научились у Джойса?
Ничему.
Вы это серьезно?
Джеймс Джойс не оказал на меня вообще никакого влияния. Моя первая и короткая встреча с «Улиссом» произошла около 1920 года в Кембриджском университете, когда один мой приятель, Петр Мрозовский, привез книгу из Парижа и, шумно расхаживая взад-вперед по моей комнате, зачитал мне несколько пикантных отрывков из монолога Молли, который, entre nous soit dit,[42] самая слабая глава в книге. Только пятнадцать лет спустя, когда я был уже вполне сложившимся писателем, не склонным учиться чему-нибудь новому или забывать что-нибудь старое, я прочел «Улисса», и он мне необычайно понравился. Я равнодушно отношусь к «Поминкам по Финнегану», как и ко всякой региональной литературе, написанной на диалекте, даже если это диалект гения.
Разве вы не пишете книгу о Джойсе?
Да, но не только о нем. Я намереваюсь напечатать несколько эссе, каждое страниц на двадцать, посвященных различным произведениям, таким, как «Улисс», «Госпожа Бовари», «Превращение» Кафки, «Дон Кихот» и некоторым другим, — все они основаны на текстах моих корнеллских и гарвардских лекций. Я с удовольствием вспоминаю, как перед шестьюстами студентами и к вящему замешательству и ужасу некоторых более консервативных коллег разнес в клочья «Дон Кихота», грязную и грубую рухлядь.
А влияние других? Пушкина, например?/p>
В определенной степени, не более чем в случае с Толстым или Тургеневым, на которых оказало влияние достоинство и чистота творчества Пушкина.
А Гоголь?
Я старался ничему у него не учиться. Как учитель он сомнителен и опасен. В худших своих проявлениях, например в украинских вещах, он никчемный писатель, в лучших — он ни с кем не сравним и неподражаем.
Можете назвать еще кого-нибудь?
Г.Дж. Уэллс, великий художник, любимый писатель в детстве. «Пылкие друзья», «Анна-Вероника», «Машина времени», «Страна слепых» — эти произведения далеко превосходят все, что Беннет, Конрад или вообще кто-либо из современников Уэллса мог написать. На его социологические размышления можно спокойно не обращать внимания, но его выдумки и фантазии превосходны. Помню ужасную минуту во время ужина в нашем санкт-петербургском доме, когда Зинаида Венгерова, переводчица Уэллса, заявила ему, вскинув голову: «Вы знаете, из всех ваших сочинений мне больше всего нравится "Затерянный мир"». — «Она имеет в виду войну, где марсиане понесли такие потери», — быстро подсказал мой отец.
Научились ли вы чему-нибудь у ваших студентов в Корнелле? Или это было лишь решение финансового вопроса? Дала ли вам преподавательская работа что-нибудь ценное?
Мой метод преподавания исключал возможность прямого общения со студентами. В лучшем случае они восстановили несколько потраченных на них клеточек моего мозга во время экзаменов. Каждая прочитанная мной лекция была тщательно, любовно написана и отпечатана, потом я неторопливо читал ее в аудитории, иногда останавливаясь, чтобы переписать предложение, иногда — повторить абзац, желая подстегнуть память, что, однако, редко вызывало какие-либо изменения в ритме записывающих рук. Я был рад видеть в аудитории немногочисленных знатоков стенографии, надеясь, что они передадут собранную ими информацию менее удачливым товарищам. Я тщетно пытался заменить свое физическое присутствие на кафедре магнитофонными записями, которые передавались бы по радиосети колледжа. С другой стороны, мне доставляло большое удовольствие слышать одобрительные смешки в разных концах аудитории в том или ином месте моей лекции. Лучшую награду я получаю от тех бывших моих студентов, которые десять или пятнадцать лет спустя пишут мне, что теперь они понимают, чего я от них хотел, когда учил их представлять себе ту прическу Эммы Бовари, название которой было неправильно переведено, или расположение комнат в квартире Замзы, или двух гомосексуалистов в «Анне Карениной». Не знаю, научился ли я чему-нибудь во время преподавания, но, во всяком случае, я собрал огромное количество ценной информации, анализируя дюжину романов для студентов. Моя зарплата, как вы, может быть, знаете, была не особенно высокой.
Не расскажете ли вы о вкладе жены в вашу работу?
Она выполняла роль советчицы и судьи, когда я писал свои первые произведения в начале двадцатых годов. Я читал ей все рассказы и романы как минимум дважды. Она их все перечитывала, печатая, исправляя верстки и проверяя переводы на различные языки. Однажды в Итаке, штат Нью-Йорк, в 1950 году она остановила меня, заставив отложить и обдумать мое решение, когда я, замученный сомнениями и техническими трудностями, уже нес в сад сжигать первые главы «Лолиты».
Как вы относитесь к переводам ваших книг?
В случае с языками, которые мы с женой знаем или на которых можем читать: английский, русский, французский и в какой-то степени немецкий и итальянский, — я придерживаюсь метода тщательной проверки каждого предложения. Что касается японских или турецких вариантов, то я стараюсь не думать о вопиющих ошибках, которыми, наверное, пестрит каждая страница.
Каковы ваши планы на будущее?
Я пишу новый роман, но пока я не могу говорить об этом. Другой проект, который я вынашиваю уже некоторое время, — публикация полного текста сценария «Лолиты», написанного для Кубрика. Хотя из него взято как раз достаточно материала, чтобы оправдать мою законную роль автора сценария, фильм всего лишь неясный и слабый отблеск той великолепной картины, которая кадр за кадром, сцена за сценой представлялась мне во время шестимесячной работы на вилле в Лос-Анджелесе. Я не имею в виду, что фильм Кубрика посредственный; он по-своему первоклассный, но это не то, что я написал. Кино часто придает роману оттенок пошлости, искажает и огрубляет его в своем кривом зеркале. Я думаю, что в фильме Кубрик избежал этого недостатка, но я никогда не пойму, почему он не последовал моим указаниям и картинам моего воображения. Очень жаль; но, во всяком случае, я смогу дать людям возможность прочитать пьесу «Лолита» в ее первозданной форме.
Если бы у вас была возможность остаться в истории в качестве автора одной и только одной книги, какую бы из них вы выбрали?
Ту, которую я пишу или, скорее, мечтаю написать. На самом же деле меня будут помнить благодаря «Лолите» и моему переводу «Евгения Онегина».
Чувствуете ли вы как писатель какой-нибудь явный или тайный недостаток в своем творчестве?
Отсутствие естественного словарного запаса. Странное признание, но это правда. Из двух инструментов, находящихся в моем распоряжении, один — мой родной язык — я уже не могу использовать, и дело здесь не только в отсутствии русской читательской аудитории, но еще и в том, что напряженность литературной жизни в русской среде постепенно упала с тех пор, как я обратился к английскому в 1940 году. Мой английский, второй инструмент, которым я всегда обладал, негибкий, искусственный язык, может быть, и подходит для описания заката или насекомого, но не может не обнаружить синтаксической бедности и незнания местных средств выражения, когда мне нужна кратчайшая дорога между складом и магазином. Старый «роллс-ройс» не всегда предпочтителен обыкновенному джипу.
Что вы думаете о табели о рангах современных писателей?
Да, я заметил, что в этом отношении наши профессиональные критики являются подлинными создателями репутаций. Кто в списке, кто вне его, и где прошлогодний снег. Все это очень забавно. Мне немного жаль быть отстраненным. Никто не может решить, то ли я американский писатель средних лет, то ли старый русский писатель, то ли безродный уродец без возраста.
О чем вы больше всего сожалеете в жизни?
О том, что не приехал в Америку раньше. Я хотел бы жить в Нью-Йорке в 30-х годах. Если бы мои русские романы были тогда переведены, они могли бы вызвать шок и преподать хороший урок просоветским энтузиастам.
Есть ли в вашей нынешней славе явно отрицательные стороны?
Вся слава принадлежит «Лолите», а не мне. Я всего лишь незаметнейший писатель с непроизносимым именем.
Перевод Дениса Федосова
Февраль 1968
Интервью Мартину Эсслину
{141}Как В. Н. живет и отдыхает?
Одна наша давнишняя русская приятельница, живущая теперь в Париже, на днях проведала нас и вспомнила, что сорок лет назад она устроила в Берлине литературный вечер и мне в числе других вопросов задали вопрос о том, где бы я хотел жить, а я ответил: «В большом удобном отеле». Именно так мы с женой сейчас и живем. Приблизительно через год самолетом (она) или пароходом (мы вместе) отправляемся в страну, ставшую нам второй родиной, но должен сознаться, я слишком ленивый путешественник, если дело не касается охоты на бабочек. Для этого мы обычно ездим в Италию, где живет мой сын, оперный певец, он же мой переводчик (с русского на английский): итальянский он освоил, пока учился вокалу, и это знание позволяет ему следить за переводами моих произведений на итальянский. Мой же языковой багаж ограничен словами «avanti»[43] и «prego».[44]
Я просыпаюсь в шесть-семь утра, до десяти тридцати пишу обычно за конторкой, поставленной в самом освещенном углу комнаты, раньше в годы моей преподавательской деятельности она стояла в светлых аудиториях. Первый получасовой перерыв я делаю где-то в полдевятого, завтракаю с женой, просматриваю почту. Письма, авторы которых сообщают мне, что собрали большую коллекцию автографов (Сомерсета Моэма, Абу Абделя, Карена Короны, Чарльза Доджсона{142}-младшего и т. д.) и хотели бы присовокупить мой автограф (при этом ошибаясь в написании моей фамилии), я отправляю в мусорную корзину, вместе с вложенными туда конвертом, маркой и моей фотографией. Около одиннадцати я ложусь в ванну с горячей водой и отмокаю в ней минут двадцать с губкой на голове, которую терзают писательские заботы, увы, вторгающиеся в мою нирвану. После прогулки с женой вдоль озера — легкий завтрак и двухчасовой сон, а потом я работаю до обеда, до семи вечера.
Американский друг подарил нам «scrabble» с кириллицей, изготовленный в Ньютауне (штат Коннектикут), после обеда мы играем пару часов в русский «скребл». Потом я читаю в постели газеты и журналы или же какую-нибудь книжку, присланную издателем, который считает ее своей удачей. Между одиннадцатью и двенадцатью начинается моя борьба с бессонницей. Таков у меня обычный режим жизни в холодное время года. Лето я провожу, охотясь за бабочками на поросших цветами склонах и горных осыпях; и конечно же, после того как прошагаешь пятнадцать, а то и больше миль, спишь еще хуже, чем зимой. Мое последнее спасение в борьбе с бессонницей — составление шахматных задач. Недавно две задачи опубликовали (в «Санди Таймс» и «Ивнинг Ньюс»), и я радовался, по-моему, больше, чем полвека назад в Санкт-Петербурге, когда появились мои первые стихи.
Социальное окружение В. Н.
Утки-хохлатки и чомги у Женевского озера. Кое-кто из приятных людей, персонажей моего нового романа. Сестра Елена, она живет в Женеве. Новые знакомые из Лозанны и Вёве. Неиссякаемый поток блистательных американцев-интеллектуалов, приезжающих ко мне в мой приют, — на узкой прибрежной полосе, залитой лучами закатного солнца, дивно отражающимися в воде. Некий господин Ван Вин, который через день спускается с гор, где он живет в маленьком домике, чтобы встретиться на перекрестке с темноволосой леди, чье имя я не могу разглашать, а я наблюдаю за ним со своей башни из слоновой кости. Кто еще? М-р Вивиан Бадлоок{143}.
Что думает В.Н. по поводу своего творчества?
В целом я не испытываю к нему враждебных чувств. Безграничная скромность и то, что принято называть «самоуничижением», — добродетели, которые едва ли помогают полностью сосредоточиться на своем творчестве, — особенно когда человек лишен этих добродетелей. Процесс творчества я разделяю на четыре этапа. Сначала — обдумывание (включая записи, которые кажутся случайными, а ведь они — наконечники тайных стрел поиска), потом собственно письмо и письмо набело на специальных карточках, которые заказывает для меня владелец магазинчика канцелярских принадлежностей: «специальных», потому что те, что продаются здесь, разлинованы с обеих сторон, а если, пока вы пишете, какую-нибудь карточку сдует на пол ваш порыв вдохновения, вы подберете ее и не глядя станете писать дальше, то может случиться, — и случалось, что вы будете писать на обороте, пронумеровав карточку, скажем, номером сто семь, а потом не сможете найти сто третью, которая на другой стороне сто седьмой и которую вы уже исписали. Когда беловик карточек готов, моя жена, прочитав его, исправив ошибки и проверив, разборчиво ли я написал, отдает машинистке, владеющей английским; чтение гранок — следующий этап этой третьей стадии. Когда книга выходит, возникает проблема авторских прав. Я владею тремя языками — пишу свои книги на любом из них, а не только говорю (в этом смысле практически все писатели Америки, с которыми я знаком или был знаком, включая уйму людей, занимающихся переложением текстов, строго говоря, — одноязычные). Я сам перевел «Лолиту» на русский (недавно ее опубликовали в Нью-Йорке в издательстве «Федра»), я в состоянии следить еще за французскими переводами моих романов и вносить правку. Этот процесс подразумевает непрерывную борьбу с ляпами и грубыми ошибками, но, с другой стороны, благодаря ему я «прохожу» четвертую, последнюю стадию — перечитываю собственное произведение спустя несколько месяцев после того, как оно впервые было опубликовано на языке оригинала. Как я оценю его? Буду ли по-прежнему доволен им? Будет ли от него исходить тот же свет, что излучал замысел? Должен бы; так на самом деле и бывает.
Что думает В.Н. о современном мире, о современной политике, о современных писателях, о наркоманах, которым «Лолита» может показаться «мещанкой»?
Сомневаюсь, можем ли мы говорить об объективном существовании «современного мира», о котором художник имеет какое-то определенное, веское мнение. Конечно, и раньше пытались делать это, но порой доходили в своих попытках до абсурда. Лет сто назад в России самые красноречивые, авторитетные литературные критики были леваками, радикалами, прагматиками, увлеченными политикой судьями, требовавшими от русских прозаиков и поэтов, чтобы они отражали и подвергали суровому анализу современную им действительность. В те давние времена, в той далекой стране типичный критик настаивал на том, чтобы художник слова был «репортером на злобу дня», социальным комментатором, корреспондентом, освещающим классовую борьбу. Это происходило за полвека до того, как большевики не только вновь обратились к этой мрачной, так называемой прогрессивной (а на самом деле регрессивной) традиции шестидесятых и семидесятых годов прошлого века, но, как мы знаем, и усилили ее. В былые времена, без сомнения, великие поэты или несравненный писатель, автор «Анны Карениной» (по-английски ее фамилию следует писать без «а» на конце, ведь она не была балериной), не обращали внимания на прогрессистов-обывателей левого толка, требовавших от Тютчева или Толстого, чтобы те воспроизводили социально-политические выверты демагогов, вещавших с импровизированных трибун, а не описывали любовные похождения аристократов или красоты природы. Стоит мне сегодня услышать в Америке или Англии ретро-прогрессивного критика, требующего от автора больше социальных комментариев, меньше художественной фантазии, как я немедленно вспоминаю о невыносимо скучных принципах, декларируемых в правление Александра II, которые потом зловещим образом обернулись декретами мрачного полицейского государства (угрюмое лицо Косыгина куда более точное воплощение тьмы и тоски, чем ухарские усы Сталина). Общепринятое представление о «современном мире», постоянно витающее в воздухе, относится к тому же типу абстракций, что и, скажем, «четвертичный период» в палеонтологии. Подлинно современным миром я считаю тот, что создает художник, его мираж, который становится новым миром (по-русски это так и звучит) самим актом освещения этим художником времени, в котором он живет. Мой мираж возникает в моей пустыне, засушливом, но дышащем страстью месте, где на одинокой пальме висит табличка «Караванам путь запрещен». Конечно, существуют светлые головы, чьи караваны общезначимых идей куда-то ведут — к пестрым базарам, фотогеничным соборам, но независимый писатель не получит большой пользы, если станет тащиться за ними в хвосте.
Я хотел бы также договориться о специфическом определении термина «политика», что грозит вновь завести нас в далекое прошлое. Позвольте мне упростить проблему, сказав, что у себя дома, равно как и во время публичных выступлений (когда усмиряю лощеного иностранца, который с радостью присоединяется к нашим доморощенным манифестантам, костерящим на чем свет стоит Америку), я ограничиваюсь заявлением: «Что плохо для красных, хорошо для меня». Воздержусь от деталей (ибо они способны загнать мою мысль в слалом из оговорок и вводных слов), которые сделают очевидным, что у меня нет четко выраженных политических взглядов или, скорее, что взгляды, которых я придерживаюсь, незаметно переходят в некий расплывчатый старообразный либерализм. Гораздо менее расплывчато — вполне твердо, даже убежденно — я знаю, что все во мне восстает и негодует при виде брутального фарса, который разыгрывают тоталитарные государства, вроде России, и ее уродливые наросты, вроде Китая. Внутри меня — бездна, зияющая между колючей проволокой, символом полицейского государства, и бесконечной свободой мысли в Америке и Западной Европе.
Мне претят писатели, занимающиеся рэкетом социальной критики. Я презираю примитивные причуды обывателя, щеголяющего бранными словами. Я не желаю хвалить роман только на том основании, что он написан храбрым чернокожим из Африки или смельчаком из России — или представителем какой-то определенной группы в Америке. По правде говоря, малейший привкус национальной, народной, классовой, масонской, религиозной, любой другой общественной группы волей-неволей настраивает меня против произведения, не позволяет мне в полной мере насладиться предложенным плодом, равно как и нектаром таланта, если таковой там имеется. Я мог бы назвать несколько современных художников слова, которых я читаю ради чистого удовольствия, а не пользы ради, но не стану этого делать. Мне представляются комичными союзы некоторых писателей, которые объединяются под лозунгами типа: Саре Codpiece Peace Resistance, или Welsh Working-Upperclass Rehabilitation, или New Hairwave School. Порой мне доводится слышать скулеж критиков, возмущающихся, что я не люблю писателей, которых они боготворят, — таких, как Фолкнер, Манн, Камю, Драйзер и, конечно же, Достоевский. Но могу заверить их: предавая анафеме определенного сорта писателей, я нисколько не ущемляю благополучия истцов, для которых образы моих жертв превратились в органичные галактики преклонения. Берусь доказать, что на самом деле произведения этих писателей существуют независимо и отдельно от аффектированного восторга, пульсирующего в душах разбушевавшихся незнакомцев.
Наркоманы, особенно среди молодежи, — конформисты, они сбиваются в тесные группки, а я пишу не для групп и не одобряю групповую терапию (большая сцена во фрейдистском фарсе); как я часто повторял, я пишу для самого себя — множащегося, знакомого феномена на горизонте мерцающих пустынь. Молодые тупицы, привыкшие к наркотикам, не смогут прочитать «Лолиту» или любую другую мою книгу; некоторые и читать-то не умеют. Позвольте заметить, что square[45] стало сленгом, ибо ничто так быстро не устаревает, как радикально настроенная молодежь, ничто так не пошло, не буржуазно, не глупо, как этот бизнес оболванивания наркотиками. Полвека назад среди щеголей Петербурга была мода нюхать кокаин и слушать жуликоватых ориенталистов. Лучшая часть моих американских читателей, люди со светлыми головами, оставили этих чудаков с их причудами далеко позади себя. Я знал коммуниста, который так увлекся борьбой с антибольшевистскими группировками, используя вместо оружия наркотики, что сам стал наркоманом, и погрузился в нирвану, а затем, по закону метемпсихоза, превратился в ленивца. Он сейчас, должно быть, пасется где-нибудь на травянистом склоне Тибета, если находчивый пастух не приладил его на подкладку для своего плаща.
Перевод А.Г. Николаевской
Сентябрь 1968
Интервью Николасу Гарнхэму
{144}Вы утверждали, что в своих романах не ставите перед собой «ни социальных целей, ни моральных задач». Какова же функция романов — конкретно ваших и вообще романа?
Одна из функций всех моих романов — доказать, что роман как таковой не существует вообще. Книга, которую я создаю, — дело личное и частное. Когда я работаю над ней, я не преследую никаких целей, кроме одной — создать книгу. Я работаю трудно, работаю долго над словом, пока оно в конце концов не подарит мне ощущение абсолютной власти над ним и чувство удовольствия. Если читателю, в свою очередь, приходится потрудиться — еще лучше. Искусство дается трудно. Легкое искусство — это то, что вы видите на современных художественных выставках ремесленных поделок и бессмысленной мазни.
В своих предисловиях вы постоянно высмеиваете Фрейда, венского шарлатана.
Чего ради я должен пускать чужака на порог своего сознания? Может быть, я раньше говорил об этом, но намерен повторить: терпеть не могу не одного, а четырех докторов — доктора Фрейда, доктора Живаго, доктора Швейцера и доктора Кастро. Конечно, первый «снимает с тебя одежды», как говорят в прозекторской. Я не хочу, чтобы меня посещали серые, скучные сны австрийского маньяка со старым зонтиком. Считаю также, что фрейдистская теория ведет к серьезным этическим последствиям, например, когда грязному убийце с мозгами солитера смягчают приговор только потому, что в детстве его слишком много — или слишком мало — порола мать, причем и тот и другой «довод» срабатывает. Фрейдистский рэкет представляется мне таким же фарсом, как и гигантский кусок полированного дерева с дыркой посередине, ровным счетом ничего не выражающий, разве что рожу обывателя с разинутым от удивления ртом, когда ему говорят, что перед ним работа величайшего скульптора, здравствующего и поныне пещерного человека.
Роман, над которым вы сейчас работаете, я надеюсь, о «времени»? Каким вы представляете себе «время»?
Мой новый роман (сейчас в нем восемьсот страниц машинописного текста) — семейная хроника, действие в основном происходит в Америке нашей мечты. Одна из его пяти частей посвящена моему пониманию концепции времени. Я провел скальпелем по пространству-времени, и пространство оказалось опухолью, которую я отправил в плаванье по водной хляби. Не будучи особенно просвещенным по части физики, я не принимаю хитроумные формулы Эйнштейна, но ведь для того чтобы быть атеистом, не обязательно знать теологию. В моих героинях течет русская и ирландская кровь. Одна из них фигурирует на семистах страницах моего романа и умирает в юности, а ее сестра остается со мной до счастливого конца, когда в праздничном пироге величиной с крышку от люка зажигают девяносто пять свечей.
Скажите, пожалуйста, кого из писателей вы любите и кто оказал на вас влияние?
Я бы предпочел говорить о современных книгах, которые вызывают во мне отвращение с первого раза: исповедальные истории о сексуальных меньшинствах, жалобы гомосексуалистов, антиамериканские просовьетнамские проповеди, плутовские анекдоты для подростков, приперченные непристойностями. Это отличный пример навязываемой классификации: книги валяются унылыми грудами, их названия не запоминаются, их авторы безлики, неотличимы один от другого. Что же касается влияния, оказанного на меня кем-то из писателей, могу сказать, что никто конкретно — ни живой, ни мертвый — на меня влияния не оказал, я никогда не был членом какого бы то ни было клуба, не примыкал ни к какому направлению. На самом деле я не принадлежу ни одному континенту. Я курсирующий над Атлантикой челнок; до чего же синее там небо, мое собственное небо, вдали от классификаций и безмозглых простаков!
Правила игры в шахматы и в покер, похоже, очень привлекают вас и соответствуют фаталистическому взгляду на мир. Не могли бы вы объяснить роль судьбы в ваших романах?
Я оставляю решение этих загадок моим ученым комментаторам, их соловьиным трелям в яблочном саду знаний. Говоря беспристрастно, я не нахожу основополагающих идей, таких, как идея судьбы, в своих романах, по крайней мере там нет ни одной идеи, которая нашла бы ясное выражение в словах числом меньше, чем количество слов, которое я затратил на ту или иную книгу. Более того, сами по себе игры меня не интересуют. Они подразумевают участие других людей, меня же привлекает сольная партия — к примеру, шахматные задачи, которые я составляю в бесстрастном одиночестве.
В ваших книгах очень часто встречаются упоминания популярных фильмов и бульварных книг. Похоже, вы получаете удовольствие, погружаясь в атмосферу этой поп-культуры. Вам лично нравятся подобные произведения, и как они соотносятся с той функцией, которую они выполняют в ваших произведениях?
Я с отвращением отношусь в бульварному чтиву и к популярным музыкальным ансамблям, презираю музыку притонов и ночлежек, не воспринимаю научную фантастику с девками и громилами, со всякими там «suspense» и «suspensory».[46] Меня с души воротит от дешевых фильмов — в них калеки насилуют под столом монашек{145}, голые девки трутся грудями о смуглые тела отвратных молодых самцов. И, положа руку на сердце, не думаю, что я чаще высмеиваю эту макулатуру, чем другие писатели, которые, как и я, верят, что хороший смех — самое лучшее средство для борьбы с вредителями.
Что означает для вас изгнание, жизнь вдали от России?
Хорошо известный тип художника, вечного изгнанника, даже если он и не покидал родных мест, — фигура, с которой я ощущаю духовную близость; в более конкретном смысле «изгнание» для художника означает лишь одно — запрет на его книги. Все мои книги, включая самую первую, которую я написал сорок три года назад на изъеденном молью диванчике в немецких меблирашках, запрещены в стране, где я родился. Это потеря для России, а не для меня.
Ваши произведения вызывают ощущение, что созданное вами бытие гораздо достовернее обыденной унылой реальности. Для вас категории воображения, мечты и реальности тоже весьма определенные понятия, а если да, то каковы они?
То, как вы употребляете слово «реальность», сбивает меня с толку. Конечно, существует некая усредненная реальность, которую мы все осознаем, но это не есть истинная реальность: это реальность общих идей, условных форм банальной обыденности, передовицы на злободневную тему. Если вы имеете в виду под обыденной реальностью так называемый реализм старых романов, банальность Бальзака, Сомерсета Моэма или Д.Г. Лоуренса — привожу самые удручающие примеры, — тогда вы правы, что реальность, сфабрикованная посредственностью, — уныла, а выдуманные миры приобретают, напротив, черты нереальности и мечты. Парадоксально, но единственно реальные, аутентичные миры — те, что кажутся нам необычными. Когда созданные мною фантазии сделают образцом для подражания, они тоже станут предметом обыденной усредненной реальности, которая, в свою очередь, тоже будет фальшивой, но уже в новом контексте, которого мы пока не можем себе представить. Обыденная реальность начинает разлагаться, от нее исходит зловоние, как только художник перестает своим творчеством одушевлять субъективно осознанный им материал.
Справедливо ли замечание, что вы воспринимаете жизнь как смешную, но злую шутку?
Вы используете слово «жизнь» так, что я не могу задействовать все его мерцающее смысловое многообразие. Чья жизнь? Какая жизнь? Жизнь не существует без притяжательного местоимения. Жизнь Ленина отличается, скажем, от жизни Джеймса Джойса также, как пригоршня камней отличается от бриллианта голубой воды, хотя они оба жили в изгнании в Швейцарии и оба очень много писали. Или возьмем судьбы Оскара Уайльда и Льюиса Кэрролла — один щеголял своим пороком и оказался за решеткой, другой таил свой маленький, но гораздо более тяжкий грех за дверями фотолаборатории с проявителями, а в результате стал великим детским писателем всех времен и народов. Я не несу ответственности за эти фарсы из подлинной жизни. Моя собственная жизнь была несравненно счастливее и здоровее, чем жизнь Чингис-хана, который, говорят, был отцом первого Набока, мелкого татарского хана двенадцатого века, женившегося на русской девице, — а в те годы русская культура достигла своего расцвета. Что же до жизни моих героев, не все они гротескны и трагичны: Федору в «Даре» выпали преданная любовь и раннее признание его гениальности, Джон Шейд в «Бледном огне» живет напряженной внутренней жизнью, совсем не соприкасаясь с тем, что вы называете шуткой. Вы, должно быть, путаете меня с Достоевским.
Перевод А.Г. Николаевской
Март 1969
Интервью Марте Даффи и Р. 3.Шеппарду
{146}В ритме и тоне повествования книг «Память, говори» и «Ада», а также в том, как вы и Ван образно воспроизводите прошлое, прослеживается некоторое сходство. Есть ли соответствие между вами и вашим героем?
Чем более талантливы и более разговорчивы герои, тем вероятней ожидать от них сходства с автором и в тоне, и по складу ума. К этой привычной путанице я отношусь достаточно спокойно, в особенности потому, что не нахожу особого сходства — как, знаете ли, не видишь в себе черт родственника, который тебе несимпатичен. Ван Вин мне отвратителен.
Я усматриваю тесную связь между следующими двумя цитатами: «Признаюсь, я не верю во время. Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой» («Память, говори») и — «Чистое Время, осязающее Время, реальное Время, Время, свободное от содержания, контекста и комментария-репортажа. Вот мое время и моя тема. Все остальное — цифра или некий компонент пространства» («Ада»). Не подхватите ли меня на своем ковре-самолете, чтобы я смог лучше понять, как оживает время в истории о Ване и Аде?
В своем исследовании времени мой герой разграничивает понятия сути и структуры, содержания времени и его едва уловимой субстанции. Я не делал подобного противопоставления в «Память, говори», где старался точнее воспроизводить рисунок моего прошлого. Подозреваю, что Ван Вин, управляющий воображением хуже меня, художественно преобразил в своей нетребовательной старости много моментов своей молодости.
Раньше вы заявляли о своем равнодушии к музыке, однако в «Аде» описываете время как «ритм… чуткие паузы между ударами». Что это за ритмы — музыкальные, акустические, физические, умственные, какие?
Эти «паузы», которые как бы выявляют серые промежутки времени между черными прутьями пространства, гораздо более походят на интервалы между монотонными щелчками метронома, чем на разнообразные ритмы музыки или стиха.
Если, как вы выразились, ««идеи» вскармливают посредственность», почему же Ван, который отнюдь не посредственность, принимается к концу романа излагать свои идеи в отношении времени? Что это, чванливость Вана? Или просто автор так комментирует или же пародирует собственное произведение?
Под «идеями» я понимаю главным образом общие представления, простодушные большие идеи, пропитывающие так называемый великий роман, которые со временем неизбежно становятся дутыми банальностями и как мертвые киты выбрасываются на берег. Не вижу никакой связи между всем этим и тем небольшим фрагментом, где у меня описывается ученый спор вокруг одной мудреной загадки.
Ван бросает: «мы — путешественники в весьма странном мире», и именно в этом ключе читатель воспринимает «Аду». Всем известна ваша склонность к рисованию — а можно ли нарисовать ваш вымышленный мир? Вы говорили, что беретесь писать на карточках тогда, когда у вас уже сложилось в голове общее представление о будущей книге. Когда именно в эту картину стали вписываться Терра, Антитерра, Демония, Ардис и т. п.? Почему летописи Терры отстают на пятьдесят лет? И еще: всевозможные измышления и технические придумки (как, например, оборудованный подслушивающими устройствами гарем князя Земского) кажутся явным анахронизмом. Почему?
По отношению к Терре Антитерра выступает неким анахроническим миром — в этом и вся штука.
В фильме Роберта Хьюза о вас вы говорите, что в «Аде» метафоры начинают оживать и превращаются в рассказ… «истекают кровью и затем истощаются». Будьте добры, поясните!
Это относится к метафорам главы о Ткани Времени в «Аде»; постепенно и элегантно они образуют некий рассказ — рассказ человека, пересекающего в автомобиле Швейцарию с востока на запад; а потом образы вновь гаснут.
Было ли вам «Аду» писать трудней остальных книг? Если да, не расскажете ли о главных своих трудностях?
«Аду» физически было сочинять гораздо сложней, чем предыдущие мои романы, потому что она длиннее. Справочных карточек, на которых я писал и переписывал весь сюжет карандашом, оказалось в конце концов примерно 2500 штук; с них у мадам Каллье, моей машинистки со времен «Бледного огня», вышло 850 машинописных страниц. Над главой о Ткани Времени я начал работать лет десять тому назад в Итаке, в глубинке штата Нью-Йорк, но лишь в феврале 1966 года роман целиком перешел в то состояние, которое можно и нужно было воплотить в слове. Толчком послужил телефонный звонок Ады (который теперь попал в предпоследнюю главу книги).
Вы называете «Аду» «семейным романом». Скажите, ваше переиначивание начальной фразы «Анны Карениной» — пародия или вы считаете, что ваша версия в действительности более справедлива? Является ли для вас инцест одним из множества вероятных путей к достижению счастья? Счастливы ли Вины в Ардисе — или лишь в воспоминаниях об Ардисе?
Если бы я воспользовался инцестом, чтобы показать возможную дорогу к счастью или к бедам, то стал бы автором дидактического бестселлера, напичканного общими идеями. На самом деле инцест как таковой меня ни в малейшей степени не волнует. Мне просто нравится созвучие bl в словах siblings, bloom, blue, bliss, sable. Начальные строки «Ады» открывают собой серию атак, которые на всем протяжении книги ведутся против тех переводчиков беззащитных шедевров, кто предает их авторов своими «преобразованиями», проистекающими от невежества и самомнения.
Отделяете ли вы Вана-писателя от Вана-ученого? Как создатель этого образа, какого вы придерживаетесь мнения о творчестве Вана? Не является ли «Ада» отчасти книгой о внутреннем мире творческого человека? В фильме Хьюза вы говорите об иллюзорных ходах в романах и в шахматах. Не делает ли Ван в своей книге ложные ходы?
Объективные или по крайней мере почти объективные суждения о трудах Вана достаточно четко выражены в описании его «Писем с Терры», а также в двух-трех других его сочинениях. Я — или некто вместо меня, — определенно на стороне Вана в отношении его антивенской{147} лекции по поводу снов.
Является ли Ада музой творца? Достаточно ли хорошо Ван понимает ее? Создается впечатление, будто она возникает в этой истории каждый раз, чтобы драматизировать один за другим этапы жизни Вана. Заимствуя первую строку из «Приглашения к путешествию» в своем стихотворении к ней, не дает ли он понять, что близок чувству Бодлера: «aimer et mourir аи pays qui te ressemble»?[47]
Мысль интересная, но не моя.
Сексуальность двенадцатилетней Ады не может не вызвать сравнения с Лолитой. Существует ли в вашем воображении какая-либо еще параллель между двумя этими девочками? Так же любите вы Аду, как Лолиту? Согласны ли со словами Вана, будто «умненькие детки все не без порока»?
То, что Ада и Лолита лишаются девственности в одном и том же возрасте, пожалуй, единственная зацепка для сравнения. При всем этом Лолита — уменьшительное от Долорес — маленькая испанская цыганка, многократно появляющаяся в «Аде».
Как-то вы обронили, что считаете себя «абсолютным монистом». Пожалуйста, поясните.
Монизм, проповедующий всеединство действительности, можно назвать неабсолютным, если, скажем, «разум» потихоньку отпочковывается от «материи» в рассуждениях путаника-мониста или нетвердого материалиста.
Каковы ваши творческие планы на будущее? Вы упоминали о намерении опубликовать книгу о Джойсе и Кафке, а также ваши корнеллские лекции. Скоро ли они появятся в печати? Не подумываете ли создать новый роман? Имеются ли у вас сейчас такие планы? Как насчет поэзии?
В последние месяцы я работаю по заказу «Макгро-Хилл» над переводом на английский некоторых моих русских стихов (начиная с 1916 года и по настоящее время). В 1968 году я закончил работу над новой редакцией моего «Евгения Онегина», которая выйдет в «Принстон Пресс» и будет еще более восхитительной и чудовищно скрупулезной, чем первая.
Подумываете ли вы о возвращении в Америку? Например, в Калифорнию, о чем вы упоминали пару лет назад? Не скажете ли, почему вы уехали из Соединенных Штатов? Считаете ли вы себя до сих пор в чем-то американцем?
Я и есть американец, я ощущаю себя американцем, и мне нравится быть американцем. Я живу в Европе по семейным соображениям, но я плачу подоходный налог в казну США с каждого заработанного мной цента здесь или за границей. Частенько, особенно весной, мечтаю провести в Калифорнии пурпурно-перистый закат своей жизни среди ее дельфиниумов и дубов и в спокойной тиши университетских библиотек.
Хотелось бы вам снова преподавать или читать лекции?
Нет. При всей моей любви к преподаванию сейчас мне было бы очень обременительно готовить лекции и читать их, даже используя магнитофон. В этом смысле я уже давно пришел к выводу, что лучшее преподавание — магнитофонная запись лекции, которую студент прокручивает сколько хочет или сколько нужно в своей звуконепроницаемой кабинке. А в конце года под присмотром прохаживающихся вдоль столов наставников пусть держит старомодный, трудный, четырехчасовой экзамен.
Привлекает ли вас работа над экранизацией «Ады»? На мой взгляд, «Ада» — роман, наполненный такой живой, осязаемой красотой, с его наслаивающимися друг на друга зримыми образами, — просто создана для кинематографа. Ходят слухи, будто кинематографисты стекаются в Монтрё, читают книгу, торгуются. Вы встречались с ними? Много ли вопросов они задают, спрашивают ли вашего совета?
Это верно, киношники действительно стекаются ко мне в отель в Монтрё — яркие умы, великие чародеи. Верно и то, что мне и в самом деле хотелось бы написать или помочь в написании сценария для «Ады».
Наиболее забавные места в ваших последних романах связаны с вождением автомобиля и дорожными проблемами (включая образ самого автора и его исследование времени, а также содержимого автомобильного «бардачка»). Водите ли вы машину? Нравится ли вам это занятие? Много ли путешествуете? Какие средства передвижения предпочитаете? Планируете ли путешествовать в будущем году или нет?
Летом 1915 года на севере России я, жаждущий приключений юноша шестнадцати лет, заметил как-то, что наш шофер оставил семейный открытый автомобиль с заведенным мотором перед гаражом (который размещался в громадной конюшне нашего сельского поместья); я тут же сел за руль, после чего автомобиль, совершив несколько судорожных подскоков, завяз в ближайшей канаве. Это был мой первый опыт автомобилевождения. Во второй и в последний раз я сел за руль через тридцать пять лет, где-то в Штатах, когда жена доверила мне его всего на несколько секунд и когда я чуть не врезался в единственную машину, стоявшую у дальнего конца громадной парковочной площадки. Между 1949 и 1959 годами мы с женой, которая водит, наездили более 150 000 миль по всей Северной Америке — в основном в погоне за бабочками.
Похоже, что Сэлинджер и Апдайк — единственные ценимые вами американские писатели. Не добавите ли вы иных имен к этому списку? Читали ли вы последний социально-политический репортаж Нормана Мейлера («Армии ночи»)? Если да, увлекла ли вас эта книга? Привлекает ли вас конкретно кто-либо из американских поэтов?
Ваш вопрос кое-что мне напомнил: знаете, хоть это просто нелепо, но мне было предложено в прошлом году в компании с другими тремя писателями освещать политический съезд в Чикаго. Естественно, я не поехал и до сих пор считаю, что это была некая шутка со стороны журнала «Эсквайр» — пригласить меня, который не способен отличить демократа от республиканца, к тому же ненавидит сборища и демонстрации.
Каково ваше мнение о таких русских писателях, как Солженицын, Абрам Терц, Андрей Вознесенский, которые завоевали широкую популярность в США за последние годы?
Я могу оценивать коллег по творчеству только с литературной точки зрения, что потребовало бы в случае со смелыми русскими людьми, упомянутыми вами, профессионального исследования не только их достоинств, но и недостатков. Не думаю, что подобная объективность справедлива в свете политического преследования, которому они подвергаются.
Как часто вы видитесь с сыном? Каким образом вы сотрудничаете с ним в переводах ваших произведений? Работаете ли вместе с самого начала или же предпочитаете роль редактора и консультанта?
Мы избрали жизнь в центре Европы, чтобы находиться поближе к сыну, который обосновался в Милане. Видимся с ним не так часто, как хотелось бы теперь, когда карьера оперного певца (у него превосходный бас) заставляет его гастролировать в различных странах. Это некоторым образом лишает смысла наше проживание в Европе. Кроме того, сын не может уделять столько же, сколько и раньше, времени нашим совместным переводам моих старых произведений.
В «Аде» Ван заявляет, что человек, утрачивающий память, обречен жить в раю среди гитаристов, а не среди великих или даже средних писателей. С кем бы вы предпочли соседствовать на небесах?
Было бы здорово слышать дикий хохот Шекспира, узнавшего, что же такое Фрейд (поджариваемый в другом месте) сотворил из его пьес. Неплохо было бы удовлетворить собственное чувство справедливости при виде того, что Г. Дж. Уэллса чаще приглашают на празднества под кипарисами, чем несколько сомнительного Конрада. И мне так бы хотелось услыхать от Пушкина, что его дуэль с Рылеевым в мае 1820 года все-таки имела место в парке Батово (впоследствии — имении моей бабки), как я рискнул предположить в 1964 году.
Не можете ли описать вкратце эмигрантскую жизнь двадцатых — тридцатых годов? Скажем, где именно вы работали тренером по теннису? Кого вы обучали? Альфред Аппель писал, что, по-видимому, вы читали лекции эмигрантам. Если это так, на какую тему? Похоже, вы довольно много путешествовали. Это правда?
Я давал уроки тенниса тем же людям или знакомым тех же людей, кому давал уроки английского и французского языков примерно в 1921 году, когда я все еще циркулировал между Кембриджем и Берлином, где мой отец был соредактором ежедневной эмигрантской русской газеты и где я более или менее капитально осел после его гибели в 1922 году. В тридцатые годы разные эмигрантские организации часто приглашали меня выступать с публичными чтениями моей прозы и поэзии. В связи с этим я наведывался в Париж, Прагу, Брюссель и Лондон, но вот в один прекрасный день 1939 года мой коллега по перу и близкий друг Алданов мне сказал: «Послушайте, будущим летом или через год я приглашен читать лекции в Стэнфорде, в Калифорнии, но поехать не смогу, так, может быть, вы меня замените?» Вот таким-то образом и начал закручиваться третий виток спирали моей жизни.
Где и когда вы встретили свою будущую жену? Где и когда вы поженились? Может быть, вы или она расскажете вкратце о ее происхождении и о ее юности? В каком городе, в какой стране начали вы за ней ухаживать? Если я не ошибаюсь, она тоже русская, может быть вы или кто-либо из ваших братьев или сестер знали ее еще в детстве?
Я встретил мою жену, Веру Слоним, на одном из эмигрантских благотворительных балов в Берлине, на которых у русских барышень считалось модным продавать пунш, книги, цветы и игрушки. Ее отец был санкт-петербургский юрист и промышленник, у которого все отняла революция. Мы могли бы встретиться и годами раньше на каком-нибудь сборище в Санкт-Петербурге, у наших общих друзей. Поженились мы в 1925 году и сначала жили исключительно трудно.
Аппель и другие утверждают, будто ваш курс художественной литературы в Корнелле был менее интересен студентам литературного факультета, чем участницам женских организаций, представителям студенческих землячеств и спортсменам. Знали ли вы об этом? Если это правда, то причиной тому была ваша слава «читать лекции ярко и смешно». Эта аттестация противоречит вашему собственному представлению о себе как о бесстрастном лекторе. Немогли бы вы немного подробней рассказать о себе как о преподавателе, поскольку этот период непременно должен войти в нашу статью о вас. Как вы тогда относились к студентам? Они именовали весь большой курс «Похаб. литом». Что их так шокировало, вы или шедевры европейской литературы? Способно ли их вообще что-либо шокировать? Что вы думаете о проблемах преподавания в нынешних более активных, падких до публичных протестов студенческих городках?
За семнадцать лет моей педагогической деятельности группы случались разные от семестра к семестру. Действительно, вспоминаю, что мой стиль и принципы раздражали и озадачивали таких студентов литературного факультета (а также их профессоров), кто привык к «серьезным» курсам, заполненным «течениями», «школами», «мифами», «символами», «социальным звучанием», а также некой химерой, именуемой «атмосфера мысли». На самом деле нет ничего легче таких вот «серьезных» курсов, когда считается, будто студенту нужно знать не сами произведения, а рассуждения о них. На моих занятиях студенты должны были обсуждать конкретные детали, а не общие представления. «Похаб. лит.» — шутка, доставшаяся мне по наследству: так звались лекции моего предшественника, грустного, тихого, сильно пьющего малого, больше интересовавшегося сексуальной жизнью писателей, чем их произведениями. Студенты-активисты и манифестанты нынешнего десятилетия, наверное, либо прекратят посещать мой курс после пары прослушанных лекций, или же для них все закончится жирным «неудом», если не смогут ответить во время экзамена на вопрос: «Раскройте тему двойного сновидения на примере двух пар сновидцев: Стивен Дедалус — Блум и Вронский — Анна». Ни один из моих вопросов ни в коей мере не предполагал отстаивания какой-либо модной интерпретации или критической оценки в угоду пожеланиям педагога. Все мои вопросы ставились с единственной целью: во что бы то ни стало определить, достаточно ли тщательно студент усваивает и впитывает произведения, включенные в мой курс.
Теперь я вижу: если даже вы не разделяете Ванову шкалу «психобаллов», то она вам не вполне чужда. Вы, как и он, страдаете бессонницей?
В «Память, говори» я описал бессонницы моего детства. Они по-прежнему часто преследуют меня по ночам. Да, существуют спасительные таблетки, но я их боюсь. Ненавижу лекарства. Мне, черт побери, с лихвой хватает привычных своих галлюцинаций. Объективно говоря, в жизни не встречал более ясного, более одинокого, более гармоничного безумства, чем мое.
Немедленно следом за упомянутым высказыванием Ван предостерегает от assassine pun, «каламбура-убийцы». Вы, несомненно, блестящий и неутомимый каламбурист, так что вполне естественно просить вас кратко охарактеризовать тот каламбур для нашего Времени{148}, которое, видит Бог, насквозь продырявлено пулями крайне неуклюжего, но настойчивого убийцы.
В своем стихотворении о поэзии как он ее видит Верлен{149} предостерегает поэта, чтобы тот не использовал la pointe assassine, то есть не вставлял в конце стихотворения эпиграмму или мораль, убивающую самое стихотворение. Меня позабавила эта игра вокруг «point», так что даже сам акт запрещения превращается в каламбур.
Вы всегда были любителем Шерлока Холмса. Как это вы утратили вкус к детективному жанру. Почему?
За крайне небольшими исключениями, детективная литература представляет собой некий коллаж более или менее оригинальных загадок и шаблонной литературщины.
Почему вы так не любите диалог в художественном творчестве?
Диалог может быть превосходен, если стилизован драматически или комически или же художественно слит с описательной прозой; иными словами, если является свойством стиля или композиции данного произведения. Если же нет, тогда он не более чем механически воспроизведенный текст, бесформенная речь, заполняющая страницу за страницей, над которой глаз скользит, точно летающая тарелка над засушливой пустыней.
Перевод Оксаны Кириченко
Апрель 1969
Интервью Олдену Уитмену
{150}Вы называете себя «американским писателем, родившимся в России и получившим образование в Англии». Как же вы стали благодаря всему этому американским писателем?
Понятие «американский писатель» в моем случае означает, что я — писатель, в течение четверти века имеющий американское гражданство. Более того, это означает, что все мои теперешние книги впервые публикуются в Америке. Это также означает, что Америка — единственная страна, где я психологически и эмоционально чувствую себя дома. Хорошо ли, плохо ли, ноя не принадлежу к числу тех доктринеров, которые, без устали критикуя Америку, оказываются по уши втянутыми в среду врожденных негодяев и завистливых чужестранцев-наблюдателей. Мое восхищение этой страной, ставшей для меня второй родиной, безусловно, устоит перед теми мелкими изъянами, которые — сущая чепуха по сравнению с бездной зла, в которой погрязла Россия, не говоря уж о других, более экзотических странах.
В стихотворении «В раю…» вы пишете, вероятно, о себе, как о «натуралисте провинциальном, в раю потерянном чудаке»{151}. Это признание связывает ваше увлечение бабочками с другими сторонами вашей жизни, с творчеством, к примеру. Вы ощущаете себя «чудаком, потерянном в раю»?
Чудак — это человек, чьи ум и чувства возбуждаются от вещей, которых обычный человек даже не замечает. И, per contra, обычный чудак — а нас, чудаков самых разных мастей и масштабов, очень много — приходит в уныние от попавшегося ему на пути туриста, который кичится своими деловыми связями. В подобных случаях я часто теряюсь, но другие тоже теряются в моем присутствии. И еще я знаю, как всякий чудак, что нудный болван, просвещающий меня насчет роста ставок по закладным, может вдруг оказаться крупнейшим знатоком ногохвосток или перекати-поле.
В ваших стихотворениях и рассказах часто встречаются мечты о побеге и полете. Это — отражение вашего личного опыта долгих скитаний?
Да, в какой-то мере. Самое удивительное, что в раннем детстве, задолго до чрезвычайно скучных странствий, в которые мы отправились, гонимые революцией и Гражданской войной, я страдал кошмарами — мне снились странствия, побеги, заброшенные железнодорожные станции.
Что вам понравилось (и не понравилось) в Гарварде? И что заставило вас бросить Кембридж?
Мое пребывание в Гарварде длилось семь блаженных лет (1941–1948), я занимался энтомологией в прекрасном, незабываемом Музее сравнительной зоологии, прочитал курс (весной 1952-го) лекций по европейскому роману аудитории, состоящей из шестисот студентов в Мемориал-холле. Кроме того, я читал лекции в Уэлсли около шести лет, а с 1948 года преподавал на факультете в Корнеллском университете, где в конце концов получил должность профессора русской литературы и стал автором американской «Лолиты», после чего (1959) я решил полностью посвятить себя творчеству. Мне было очень хорошо в Корнелле.
В США вы больше известны как автор «Лолиты», чем какого-то другого романа или стихотворения. Если бы вам представилась возможность выбирать, благодаря какой книге, или стихотворению, или рассказу вы хотели бы прославиться?
У меня иммунитет к судорогам славы; однако полагаю, что «грамотеи», которые в словарях, пользующихся большим спросом, пишут, что «нимфетка» — это «совсем юная, но сексуальная девушка», не утруждая себя никаким комментарием или отсылкой, очень вредят читателям, их следовало бы вразумить.
Культ секса в литературе достиг своего апогея? Теперь это увлечение пойдет по убывающей?
Я абсолютно равнодушен к социальным аспектам той или иной групповой деятельности. В исторической ретроспективе рекорд порнографии, установленный древними, до сих пор не побит. В художественном плане, чем грязнее и скабрезнее пытаются быть графоманы, тем более условной и примитивной получается их продукция — к примеру, такие романы, как миллеровский «Член» и «Спазм Портного».
Как вы относитесь к современным проявлениям насилия?
Я испытываю отвращение к грубой силе скотов всех мастей — белых и черных. Коричневых и красных. Ненавижу красных подлецов и розовых глупцов.
Размышляя о своей жизни, какие моменты в ней вы считаете подлинно важными?
Практически каждый момент. Письмо, которое пришло вчера от читателя из России, бабочка, не описанная еще ни одним энтомологом, которую я поймал в прошлом году, момент, когда я научился ездить на велосипеде в 1909 году.
Какое место вы отводите себе среди писателей (ныне здравствующих) и писателей недавнего прошлого?
Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки; именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос.
Если бы вы писали некролог самому себе, о каком вашем вкладе в литературу, в атмосферу (искусства и эстетики) последних пятидесяти лет вы написали бы?
У меня получается так — вечерняя заря последней книги (например, «Ады», которую я закончил прошлым Рождеством) тотчас же сливается с подернутой дымкой утренней зарей моей новой работы. Моя следующая книга, сияющая дивными оттенками и тонами, кажется мне в это мгновение самой лучшей из всего, что я писал раньше. Я хочу подчеркнуть особый трепет предвкушения, который по самой своей природе не может быть истолкован некрологически.
Какие книги, прочитанные вами недавно, понравились вам?
Теперь я редко испытываю трепет в позвоночнике, единственно достойную реакцию на подлинную поэзию — какой, к примеру, является «Жалоба» Ричарда Уилбера{152}, поэма о великолепной герцогине («Феникс-букшоп», 1968).
Перевод А.Г.Николаевской
Июнь 1969
Интервью Филипу Оуксу
{153}Считаете ли вы, как маститый энтомолог и романист, что два ваших главных увлечения обусловливают, ограничивают или делают более утонченным ваш взгляд на мир?
Какой мир? Чей мир? Если мы имеем в виду обычный мир обычного читателя газет в Ливерпуле, Ливорно или Вильно, тогда мы можем делать лишь банальные обобщения. С другой стороны, если художник изобретает собственный мир, как, мне кажется, и происходит в моем случае, то как можно говорить о влиянии созданного им на его миропонимание? Как только мы начинаем подыскивать определения к таким словам, как «писатель», «мир», «роман» и так далее, мы соскальзываем в пропасть солипсизма, где общие идеи постепенно исчезают. Что же касается бабочек, то мои таксономические статьи по энтомологии были опубликованы в основном в сороковых годах и могут заинтересовать только нескольких специалистов по некоторым группам американских бабочек. Сама по себе страсть к коконам и куколкам не слишком необычная болезнь, но находится она за пределами мира романиста, и я могу это доказать. Когда бы я ни упоминал бабочек в своих романах и как бы потом старательно ни перерабатывал эти места, все остается бледным и фальшивым и не выражает по-настоящему то, что я хотел бы выразить, — поскольку выразить это можно, лишь употребляя специальные научные термины, как я это делаю в энтомологических статьях. Бабочка живет вечно, проколотая булавкой с биркой и описанная каким-нибудь ученым в научном журнале, но умирает отвратительной смертью в парах художественных излияний. Хотя, чтобы не оставлять ваш вопрос совсем без ответа, я должен признать, что в одном случае энтомологический спутник сталкивается с моей литературной планетой. Это происходит при упоминании некоторых названий мест. Так, если я слышу или читаю слова «Альп Грам, Энгадин», то обычный наблюдатель внутри меня заставляет представить себе номер с живописным видом в маленьком отеле, примостившемся на двухкилометровой высоте, и косарей, работающих вдоль спускающейся к игрушечной железной дороге тропинки; но более и прежде всего я вижу желтокольцовую бабочку, устроившуюся со сложенными крылышками на цветке, который сейчас обезглавят эти проклятые косы.
Какая из недавних газетных новостей показалась вам самой забавной?
Сообщение о том, как мистер Э. Паунд, этот почтенный мошенник, совершил «сентиментальный визит» в свою альма-матер в Клинтоне, штат Нью-Йорк, и выпускники на заключительном акте, в основном, по-видимому, глупцы и сумасшедшие, устроили ему овацию стоя.
Видели ли вы фильм, снятый по вашей книге «Смех во тьме»?{154}