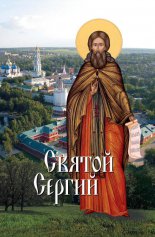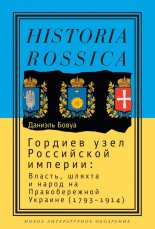О Набокове и прочем. Статьи, рецензии, публикации Мельников Николай
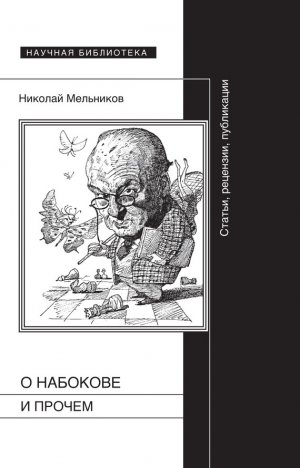
К каким из ныне живущих писателей вы относитесь с особой симпатией?
Когда г-н N узнает, что г-н X, другой писатель, назвал в интервью своими любимыми писателями г-на А, г-на В и г-на N, столь длинный список может раздосадовать г-на N, который, скажем, считает сочинения г-на А примитивными и банальными. Мне бы не хотелось озадачивать г-на С, г-на D или г-на X, ведь все они мне нравятся.
Ожидаете ли вы, что какие-то еще ваши произведения станут основой для фильмов? Учитывая опыт «Лолиты», радует ли вас подобная перспектива?
Я восхищен кинофильмом «Лолита» как фильмом — но сожалею, что мне не представилась возможность участвовать в его непосредственном создании. Люди, которым нравится мой роман, говорили, что фильм слишком сдержан и неполон. Все же, если будущие фильмы по моим книгам будут столь же очаровательны, как картина Кубрика, я не буду слишком ворчать.
Какие из языков, на которых вы говорите, представляются вам самыми красивыми?
Моя голова говорит — английский, мое сердце — русский, мое ухо предпочитает французский.
Почему вы выбрали Монтрё своей резиденцией? Скучаете ли вы в какой-то мере по Америке, которую вы так изысканно спародировали в «Лолите»? Считаете ли вы, что Европа и США начинают до неприятного походить друг на друга?
Мне кажется, что в этом розовом изгнании я пытаюсь развить в себе ту же плодотворную ностальгию по отношению к Америке, своей новой родине, которую испытывал по России, своей старой отчизне, в первые послереволюционные годы западноевропейской экспатриации. Конечно, я скучаю по Америке — даже по мисс Америке. Если Европа и Америка начинают все больше походить друг на друга — почему это должно меня огорчать? Это, наверное, занятно и, возможно, не совсем верно, но, в любом случае, не огорчительно. Моя жена и я очень любим Монтрё, пейзажи которого понадобились мне для «Бледного огня» и все еще нужны для другой книги. Причиной нашего обитания в этой части Европы являются и обстоятельства семейного характера. В Женеве живет моя сестра, а в Милане — сын. Он — выпускник Гарварда, приехавший в Италию для завершения своего оперного образования, которое он сочетает с гонками на итальянском автомобиле на крупных соревнованиях, а также с переводами разных работ своего отца с русского на английский.
Каков ваш прогноз в отношении дальнейшего развития русской литературы?
На ваш вопрос нет прямого ответа. Беда в том, что ни одно, даже самое разумное и гуманное, правительство не способно произвести на свет великих художников, хотя плохое правительство, конечно, может изводить, изничтожать и подавлять их. Нам следует также помнить — и это очень важно, — что единственными людьми, процветающими при любых правительствах, являются филистеры. В ауре мягкого режима шанс появления великого художника ровно настолько же мал, насколько в менее счастливые времена презренных диктатур. Следовательно, я не могу ничего предсказывать, хотя и очень надеюсь, что под влиянием Запада, и в особенности Америки, советское полицейское государство постепенно зачахнет и рассеется. Кстати сказать, я сожалею о позиции недалеких и бесчестных людей, которые смехотворным образом сравнивают Сталина с Маккарти, Освенцим с атомной бомбой и безжалостный империализм СССР с прямой и бескорыстной помощью, оказываемой США бедствующим странам.
Перевод Марка Дадяна
Сентябрь 1965
Телеинтервью Роберту Хьюзу
{110}Как и в случае с Гоголем и Джеймсом Эйджи{111}, произношение вашей фамилии иногда вызывает путаницу. Как же нужно произносить ее правильно?
Действительно мудреная фамилия. Ее часто пишут с ошибками, так как глаз стремится воспринять «а» в первом слоге как опечатку, а затем пытается восстановить симметрическую последовательность, утраивая «о» — заполняя, так сказать, ряд кружочков, как в игре в крестики-нолики. Ноу-боу-коф (No-bow-cough). Как уродливо, как неверно. Каждый автор, чье имя достаточно часто появляется в периодических изданиях, развивает в себе почти всеохватывающий взгляд, которым он просматривает статью. Я же всегда спотыкаюсь на слове «никто» (nobody), если оно написано с заглавной буквы и стоит в начале предложения. Что касается произношения, французы, конечно же, говорят Набокофф, с ударением на последнем слоге. Англичане произносят Набоков, с ударением на первом слоге, а итальянцы, как и русские, говорят Набоков, с ударением посередине. На-бо-ков. Тяжелое открытое «о», как в «Никербокер».[25] Мое привычное к произношению Новой Англии ухо не будет оскорблено длинным элегантным средним «о» Набокова в версии американских университетов. Ужасный «На-ба-ков» — презренный ублюдок. Что ж, теперь вы сами можете выбирать. Кстати, мое имя произносится Владимир — рифмуется с «redeemer»,[26] а не Владимир — рифмуется с Фадимир (Faaddimere, кажется, это местечко в Англии).
Как насчет фамилии вашего необычайного создания, профессора п-н-и-н-а?
«П» следует произносить, вот и все. Но, учитывая, что в английских словах, начинающихся с «пн», «п» является немым, возникает желание вставить страхующий звук «у» — «Пу-нин», — что неправильно. Чтобы верно произнести «пн», попробуйте комбинацию «Up North»[27] или, еще лучше, «Up, Nina!»,[28] выбросив начальное «a». Pnorth, Pnina, Pnin. Сможете?.. Вот и отлично.
Вы — автор блестящих работ о жизни и творчестве Пушкина и Гоголя. Как бы вы подытожили собственную жизнь?
Не так-то просто подытожить нечто, что еще не совсем закончилось. Однако, как я уже говорил неоднократно и по разным поводам, первая часть моей жизни отмечена весьма приятной хронологической опрятностью. Я провел первые двадцать лет своей жизни в России, следующие двадцать — в Западной Европе, и еще двадцать лет после этого, с 1940-го по 1960-й, жил в Америке. Вот уже пять лет, как я вновь живу в Европе, но не обещаю, что продержусь еще пятнадцать во имя поддержания ритма. Не могу я предсказать и того, какие новые книги я, может статься, напишу. Мой лучший русский роман — это вещь под названием «Дар». Два моих лучших американских романа — «Лолита» и «Бледный огонь».
Теперь я занят переводом «Лолиты» на русский, что в какой-то мере замыкает круг моей творческой жизни. Или, скорее, начинает новую спираль. У меня много трудностей с техническими терминами, в особенности относящимися к автомобилю, который еще не настолько слился с русской жизнью, как с американской. Мне также бывает очень непросто найти верные русские термины для одежды, разновидностей обуви, предметов мебели и так далее. С другой стороны, описания нежных эмоций, грации моей нимфетки и мягкого, тающего американского ландшафта очень точно ложатся на лиричный русский. Книга выйдет в Америке или, возможно, в Париже; надеюсь, что путешествующие поэты и дипломаты провезут ее контрабандой в Россию. Не прочитаю ли я три строчки из своего русского перевода? Конечно; но, как это ни невероятно, полагаю, что не всякий помнит, как начинается «Лолита» на английском. Потому сначала я лучше прочту первые строки по-английски. Прошу обратить внимание, что для достижения необходимого эффекта мечтательной нежности оба «л» и «т», а лучше и слово целиком должно произносить с иберийской интонацией, а не по-американски, то есть без раздавленного «л», грубого «т» и длинного «о»: «Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta». Сейчас мы приступим к русскому. Здесь первый слог ее имени звучит больше с «а», чем с «о», а в остальном все опять вполне по-испански: «Ло-лии-та, свет моей жизни, огонь моих чресел. Грех мой, душа моя». И так далее.
Хотелось бы вам, в дополнение к тому, что уже высказывалось или подразумевалось в ваших различных статьях и предисловиях, сказать что-нибудь о ваших читателях и/или критиках?
Ну, когда я думаю о критиках вообще, я подразделяю это семейство на три подсемейства. Во-первых, профессиональные обозреватели, в основном писаки и провинциалы, регулярно заполняющие отведенное им пространство на кладбищах воскресных газет. Во-вторых, более амбициозные критики, которые раз в два года собирают свои журнальные статьи в тома с символически учеными названиями — «Неоткрытая страна» и тому подобное. И, в-третьих, мои собратья по перу, пишущие отзыв на книгу, которая им либо нравится, либо их бесит. Так явилось на свет много ярких обложек и черных распрей. Когда автор, творением которого я восхищаюсь, хвалит мою работу, я не могу не испытывать, помимо мурашек почти человеческой теплоты, чувства гармонии и удовлетворенной логики. Но при этом меня не покидает идиотское ощущение, что он или она вскоре охладеет ко мне и отвернется с отсутствующим видом, если я чего-то не предприму немедленно, но я не знаю, что мне делать, и остаюсь в бездействии, и на следующее утро холодные облака скрывают сверкающие вершины. Во всех прочих случаях, должен признаться, я зеваю и забываю. Разумеется, вокруг каждого достойного автора толпится немало клоунов и критиканов (замечательное слово — критикан) или придир, скорее уничтожающих своими хлопушками друг друга, чем наносящих ущерб автору. Затем, опять же, мои разнообразные антипатии, которые я то и дело высказываю, часто раздражают людей. Я, с вашего позволения, нахожу второразрядными и преходящими произведения ряда раздутых писателей — таких как Камю, Лорка, Казандзакис{112}, Д.Г.Лоуренс, Томас Манн, Томас Вулф и буквально сотни других «великих» посредственностей. За это меня, естественно, автоматически не выносят их клевреты, рабы моды, любители сентиментальной пошлятины и всевозможные роботы. Вообще-то я абсолютно равнодушен к враждебной критике в адрес своих сочинений. С другой стороны, мне нравится нанести ответный удар, если какой-нибудь напыщенный остолоп выискивает ошибки в моих переводах, обнаруживая при этом смехотворное невежество в русском языке и литературе.
Вы не расскажете о своих первых впечатлениях об Америке? Как вы начали писать на английском?
Я начал сочинять на английском довольно спорадически, за несколько лет до переезда в Америку, куда прибыл в сиреневой дымке майского утра, 28 мая 1940 года. В конце тридцатых, живя в Германии и Франции, я перевел две из своих русских книг на английский{113} и написал свой первый англоязычный роман, тот, что о Себастьяне Найте. Позже, в Америке, я полностью перестал писать на своем родном языке, за исключением немногих стихотворений, что, кстати, странным образом усилило настойчивость и сосредоточенность моей русской музы. Мой полный переход от русской прозы к английской был чудовищно болезненным — подобно обучению простейшим приемам обращения с предметами после потери семи или восьми пальцев во время взрыва. Я описал процесс сочинения «Лолиты» в послесловии к американскому изданию 1958 года. Книга впервые увидела свет в Париже в то время, когда никто не желал ее видеть, уже 10 лет назад… 10 лет — как ползет время!
Что касается «Бледного огня», то хотя я и разработал некоторые отрывки зембланских преданий в конце пятидесятых в Итаке, штат Нью-Йорк, первый настоящий укол романа я почувствовал (то есть мне явилась его вполне завершенная структура в миниатюре, которую я набросал в каком-то из сохранившихся у меня карманных дневников) только на пароходе, везшем меня из Нью-Йорка во Францию в 1959 году. Американская поэма, обсуждаемая в книге Его Величеством, Карлом Зембланским, была труднейшей вещью из всех, что мне приходилось сочинять. Большую ее часть я написал в Ницце, зимой, прогуливаясь по Променад дез Англе или бродя по близлежащим холмам. Значительная часть комментариев Кинбота была написана здесь, в парке «Монтрё Паласа», одном из самых чарующих и вдохновляющих из известных мне парков.[29] В особенности я люблю его плакучий кедр, древесный двойник очень лохматой собаки, с шерстью, нависающей над глазами.
Каков ваш подход к преподаванию литературы?
Я могу привести вам несколько примеров. При изучении знаменитой новеллы Кафки мои студенты были обязаны точно знать, в какое насекомое превратился Грегор{114} (то был выпуклый жук, а не плоский таракан неряшливых переводчиков), а также уметь описать точное расположение комнат, дверей и мебели в квартире семьи Замза. Для «Улисса» они должны были знать карту Дублина. Я верю в значимость конкретной детали; общие идеи в состоянии позаботиться о себе сами. «Улисс», конечно, божественное произведение искусства и будет жить вечно вопреки академическим ничтожествам, стремящимся обратить его в коллекцию символов или греческих мифов. Однажды я поставил студенту тройку с минусом, а может двойку с плюсом, только за то, что он цеплял к главам «Улисса» заимствованные из Гомера названия, не заметив даже появлений и исчезновений человека в коричневом макинтоше. Он даже не знал, кто такой человек в коричневом макинтоше. О да, пусть люди обязательно сравнивают меня с Джойсом, но мой английский — лишь вялое перебрасывание мяча по сравнению с чемпионской игрой Джойса.
Как случилось, что вы поселились в Швейцарии?
Чем старше я становлюсь и чем больше вешу, тем сложнее мне становится вылезать из того или иного уютного шезлонга или кресла, в которое я погрузился со вздохом удовлетворения. Сегодня мне так же сложно съездить из Монтрё в Лозанну, как совершить путешествие в Париж, Лондон или Нью-Йорк. В то же время я готов прошагать 10 или 15 миль в день, вверх и вниз по горным тропам, в поисках бабочек, что я и делаю каждым летом. Одна из причин, почему я живу в Монтрё, заключается в том, что я нахожу вид из своего мягкого кресла волшебно умиротворяющим или, наоборот, волнительным, в зависимости от моего настроения или настроения озера. Спешу добавить, что я не только не уклоняюсь от налогов, но и плачу пухленький швейцарский налог в дополнение к массивным американским податям, которые столь высоки, что почти заслоняют от меня этот прекрасный вид. Я испытываю ностальгию по Америке и, как только накоплю достаточно энергии, вернусь туда на длительное время.
Где находится мягкое кресло?
Мягкое кресло стоит в соседней комнате, в моем кабинете; в конце концов, это лишь метафора: мягкое кресло — это весь отель, парк, всё вместе.
Где бы вы жили в Америке?
Думаю, я поселился бы в Калифорнии, или в Нью-Йорке, или в Кембридже, штат Массачусетс. Или в комбинации трех этих мест.
Благодаря вашему совершенному владению английским языком, вас часто сравнивают с Джозефом Конрадом.
Что ж, я выскажусь по этому поводу следующим образом. Мальчиком я, как, наверное, все сочиняющие дети, был прожорливым читателем, и между восемью и четырнадцатью годами с огромным удовольствием поглощал романтическую литературу — романтическую в широком смысле слова — сочинения таких людей как Конан Дойль, Киплинг, Джозеф Конрад, Честертон, Оскар Уайльд, а также и других авторов, которые, преимущественно, являются писателями для людей очень молодого возраста. Но, как я уже раз это метко заметил, мое отличие от Джозефа Конрадикально. Во-первых, он не писал на своем родном языке, прежде чем стать английским писателем, и, во-вторых, сегодня я уже не переношу его полированные клише и примитивные конфликты. Однажды он написал, что предпочитает перевод «Анны Карениной» миссис Гарнетт{115} оригиналу! Такое и в страшном сне привидеться не может — «ca fait rver»,[30] как говаривал Флобер, сталкиваясь с бездонной тупостью. С тех самых пор, как монументальные посредственности вроде Голсуорси, Драйзера, персонажа по имени Тагор, еще одного по имени Максим Горький и третьего по имени Ромен Роллан, стали восприниматься как гении, меня изумляют и смешат сфабрикованные понятия о так называемых «великих книгах». То, что, к примеру, ослиная «Смерть в Венеции» Манна, или мелодраматичный и отвратительно написанный «Живаго» Пастернака, или кукурузные хроники Фолкнера могут называться «шедеврами» или, по определению журналистов, «великими книгами», представляется мне абсурдным заблуждением, словно вы наблюдаете, как загипнотизированный человек занимается любовью со стулом. Мои величайшие шедевры прозы двадцатого столетия таковы, в приводимой последовательности: «Улисс» Джойса, «Превращение» Кафки, «Петербург» Белого и первая часть сказки Пруста «В поисках утраченного времени».
Что выдумаете об американской литературе? Я заметил, что в вашем списке нет американских шедевров. Что вы думаете об американской литературе с 1945 года?
Ну, за одно поколение редко появляется более двух или трех действительно первоклассных писателей. Думаю, что Сэлинджер и Апдайк — самые тонкие из пишущих в последние годы художников. Эротичный, лживый бестселлер; полный насилия, вульгарный роман; беллетризованная обработка социальных или политических проблем; и, в целом, романы, состоящие в основном из диалогов или публицистических комментариев — всему этому абсолютно отказано в месте на моем прикроватном столике. А популярная смесь порнографии и идеалистической претенциозности вызывает у меня рвоту.
Что вы думаете о русской литературе с 1945 года?
Советская литература… Что ж, в первые годы после большевистской революции, в двадцатых и начале тридцатых, сквозь устрашающие штампы советской пропаганды еще можно было различить умирающий голос былой культуры. Примитивное и банальное мышление навязываемой политики — любой политики — может произвести только примитивное и банальное искусство. В особенности это относится к так называемому «социалистическому реализму» и «пролетарской» литературе, опекаемой советским полицейским государством. Его бабуины в кирзовых сапогах постепенно истребили действительно талантливых авторов, редкую личность, хрупкого гения. Один из самых грустных примеров — история Осипа Мандельштама — удивительного поэта, величайшего из тех, кто пытался выжить в России при советском режиме, — которого хамское и слабоумное правительство преследовало и умертвило-таки в далеком концлагере. Стихи, которые он героически продолжал писать, пока безумие не затмило его ясный дар, — восхитительные образцы высот и глубин человеческого разума. Их чтение усиливает здоровое презрение к советской дикости. Тираны и мучители никогда не скроют своих комических кувырканий за космической акробатикой. Презрительный смех хорош, но недостаточен для получения морального облегчения. И когда я читаю стихотворения Мандельштама, написанные под проклятым игом этих зверей, то испытываю чувство беспомощного стыда от того, что я волен жить, и думать, и писать, и говорить в свободной части мира… Это единственные мгновения, когда свобода бывает горькой.
Это гинкго — священное дерево Китая, его не часто встретишь дикорастущим. Лист с любопытными прожилками напоминает о бабочке — что привело на ум маленькое стихотворение:
- The ginkgo leaf, in golden hue, when shed,
- A muscat grape,
- Is an old-fashioned butterfly, ill-spread,
- In shape.[31]
Это, в моем романе «Бледный огонь», коротенькое стихотворение Джона Шейда — несомненно величайшего из вымышленных поэтов.
Ничего не имею против того, чтобы делить солнце с загорающими, но не люблю погружаться в бассейн. В конце концов — это всего лишь большое корыто, в котором к вам присоединяются другие люди и которое приводит на ум ужасные японские коммунальные ванны, с дрейфующей семьей или косяком бизнесменов.
Надо будет запомнить спасательный трос поводка, тянущийся от смиренной собаки к болтливой даме в той телефонной будке. «Длительное ожидание» — хорошая подпись к картине маслом натуралистической школы.
Много лет прошло с тех пор, как я в последний раз прижимал к груди футбольный мяч. Сорок пять лет назад, во время учебы в Кембриджском университете, я был непредсказуемым, но эффектным голкипером. После этого я играл за какую-то немецкую команду, когда мне было около тридцати, и спас свой последний матч в 1936 году, когда очнулся в палатке первой помощи, нокатированный ударом, но все еще сжимающий мяч, который нетерпеливый товарищ по команде пытался вырвать из моих рук.
Конец сентября в центральной Европе — не лучшее время года для ловли бабочек. Это, увы, не Аризона. В этой травянистой бухточке у старого виноградника над Женевским озером все еще порхает несколько относительно молодых самок очень распространенной луговой бархатницы — ленивые старые вдовы. Вот одна из них.
А эта маленькая небесно-голубая бабочка, также весьма распространенная, когда-то называлась в Англии голубянкой Клифдена.
Солнце начинает припекать. Мне нравится охотиться раздетым, но сомневаюсь, что сегодня мы найдем что-нибудь интересное. Летом эта приятная тропинка вдоль берегов Женевского озера изобилует бабочками. Голубянка Чепмена и белянка Манна, обе присущие только этим местам, обитают неподалеку. Но белые бабочки, которых мы видим на этой самой дорожке, этим погожим, но непримечательным осенним днем, всего лишь обычные белянки: капустницы и боярышницы.
О, гусеница. Обращайтесь с ней поосторожнее. Ее золотисто-коричневый мех может вызвать пренеприятный зуд. Этот красивый червяк в следующем году обратится в толстого, уродливого, грязновато-коричневого мотылька.
Шекспира в роли Призрака отца Гамлета.
Обезглавливание Людовика Шестнадцатого: барабанная дробь заглушает его речь с эшафота.
Германа Мелвилла за завтраком, скармливающего сардину своему коту.
Свадьбу По, пикники Льюиса Кэрролла.
Русских, уходящих с Аляски, в восторге от заключенной сделки. В кадре — аплодирующий тюлень.
Перевод Марка Дадяна
Сентябрь 1966
Интервью Альфреду Аппелю
{116}Вот уже сколько лет библиографы и журналисты мучаются, не зная, куда вас причислить к американским писателям или к русским. Правда, после того как вы поселились в Швейцарии, все уже точно решили, что вы американец. Как вы считаете: применимо ли к вам, как к писателю, такое разграничение?{117}
Я всегда, еще с гимназических лет в России, придерживался того взгляда, что национальная принадлежность стоящего писателя — дело второстепенное. Чем характернее насекомое, тем меньше вероятности, что систематик поглядит сначала на этикетку, указывающую на происхождение приколотого образчика, чтобы решить, к какой из нескольких не вполне определенных разновидностей его следует отнести. Искусство писателя — вот его подлинный паспорт. Его личность тут же удостоверяется особой раскраской и неповторимым узором. Происхождение может подтверждать правильность того или иного видового определения, но само оно обусловливать его не должно. Известно, что бессовестные торговцы бабочками нередко подделывают этикетки. Вообще же я сейчас считаю себя американским писателем, который когда-то был русским.
Русские писатели, которых вы переводили и о которых писали, — все они принадлежат периоду, предшествующему «эпохе реализма», более ценимой английскими и американскими читателями, чем все, что относится к более раннему времени. Не могли бы вы сказать, ощущаете ли вы какое-либо сродство — органическое или художественное — с великими писателями 1830–1840 годов, создавшими столько шедевров? Не считаете ли вы, что ваше творчество вливается в русло обширнейшей традиции русского юмора?
Вопрос о возможных точках соприкосновения с русскими писателями девятнадцатого века — скорее классификационный, чем связанный с теми или иными моими взглядами. Едва ли найдется какой-нибудь выдающийся русский писатель прошлого, которого раскладчики по полочкам неупомянули бы в связи со мной. Кровь Пушкина течет в жилах новой русской литературы с той же неизбежностью, с какой в английской — кровь Шекспира.
Многие большие русские писатели, такие, как Пушкин, Лермонтов и Андрей Белый, были одновременно выдающимися поэтами и прозаиками, тогда как в английской и американской литературе такое случается не часто. Связано ли это с особым характером русской литературной культуры, или, может быть, есть что-то особенное в самом языке, в технике письма, что способствует такой разносторонности? Вы, пишущий и стихи, и прозу, — как вы их разграничиваете?
Но ведь, с другой стороны, ни Гоголь, ни Толстой, ни Чехов в поэзии себя не проявили. К тому же в некоторых наиболее замечательных английских и американских романах не так-то просто определить, где кончается проза и где начинается поэзия. Я думаю, вам следовало в своем вопросе уточнить, что вы имеете в виду прежде всего особенности рифмы, и я мог бы тогда ответить, что русские рифмы несравненно богаче и разнообразнее английских. Неудивительно, что к этим красавицам наведываются и русские прозаики, особенно в молодости.
Кого из великих американских писателей вы цените больше всего?
В молодости мне нравился По, я все еще люблю Мелвилла, которого не успел прочесть в детстве. К Джеймсу у меня отношение довольно сложное. Я вообще очень его не люблю, но иногда вдруг построение какой-нибудь его фразы, винтовой поворот{118} необычного наречия или эпитета действуют на меня наподобие электрического разряда, словно ко мне от него идет какой-то поток. Готорн — превосходный писатель. Восхитительны стихи Эмерсона.
Вы часто заявляли, что не принадлежите ни к каким объединениям и группам. Интересно, не повлияли ли на формирование у вас скептического отношения к ним и неприятия любого рода дидактизма исторические примеры того разрушительного воздействия идеологии на искусство, какое в наши дни достигло апогея в социалистическом реализме? Какие «исторические примеры» подобного рода производят на вас наибольшее впечатление?
Мое отвращение ко всяким объединениям — вопрос скорее темперамента, нежели плод знаний и размышлений. Между прочим, «исторические примеры» совсем не столь прозрачны и самоочевидны, как вы, кажется, полагаете. Гоголевское религиозное проповедничество, прикладная мораль Толстого, реакционная журналистика Достоевского — все это их собственные небогатые изобретения, и, в конце концов, никто этого по-настоящему не принимает всерьез.
Не расскажете ли вы что-нибудь о спорах вокруг главы в «Даре» о Чернышевском? Вы уже высказывались об этом прежде, но, я думаю, вашим читателям это будет особенно интересно, поскольку факт ее изъятия в тридцатые годы из журнальной публикации — это такая необыкновенная ирония судьбы, что он сам по себе уже служит оправданием именно такой пародии. Мы ведь так мало знаем об эмигрантских группировках, об их журналах, об их умонастроениях. Не могли бы вы рассказать о взаимоотношениях писателя с этим миром?
Все, что можно толкового сказать про жизнеописание Чернышевского, сделанное князем Годуновым-Чердынцевым, сказано Кончеевым в «Даре». Я к этому могу только добавить, что на сбор материала для главы о Чернышевском я потратил столько же труда, сколько на сочинение за Шейда его поэмы. Что касается изъятия этой главы издателями «Современных записок», то это действительно был случай беспрецедентный, совершенно не вяжущийся с их исключительной широтой взглядов, ибо в целом они руководствовались при отборе литературных произведений соображениями чисто художественными. Что же касается вашего последнего вопроса, то дополнительный материал можно найти в четырнадцатой главе последнего английского издания «Память, говори».
Есть ли у вас какое-либо мнение о русской, если к ней приложимо такое определение, антиутопической традиции, начиная с «Последнего самоубийства» и «Города без имени» в «Русских ночах» Одоевского и до брюсовской «Республики Южного Креста» и «Мы» Замятина, — ограничусь лишь несколькими примерами?
Мне эти вещи неинтересны.
Справедливо ли сказать, что «Приглашение на казнь» и «Под знаком незаконнорожденных» — это своего рода пародийные антиутопии с переставленными идеологическими акцентами — тоталитарное государство здесь становится предельной и фантастической метафорой несвободы сознания, и что тема обоих романов — именно такая несвобода, а не политическая?
Да, возможно.
Высказываясь по вопросам идеологии, вы часто говорите о своем неприятии Фрейда — наиболее резко в предисловиях к вашим переводным романам. Многие читатели недоумевают: какие именно труды или теории Фрейда вызывают у вас столь враждебное отношение и по какой причине? Ваши пародии на Фрейда в «Лолите» и в «Бледном огне» указывают на более близкое знакомство с нашим добрым доктором, чем вы признаете сами. Не поясните ли вы это?
Да нет, мне вовсе не хочется опять обсуждать эту комическую фигуру. Он и не заслуживает большего внимания, чем то, какое я ему уделил в своих романах и в «Память, говори».
Пусть верят легковерные и пошляки, что все скорби лечатся ежедневным прикладыванием к детородным органам древнегреческих мифов. Мне все равно.
Ваше пренебрежительное отношение к «стандартизированным символам» Фрейда распространяется и на положения многих других теоретиков. Считаете ли вы вообще оправданной литературную критику, и если да, то какого рода критика для вас приемлема? «Бледный огонь», кажется, проясняет, какая критика, по-вашему, не нужна.
Могу дать начинающему критику такие советы: научиться распознавать пошлость. Помнить, что посредственность преуспевает за счет «идей». Остерегаться модных проповедников. Проверять, не является ли обнаруженный символ собственным следом на песке. Избегать аллегорий. Во всем ставить «как» превыше «что», не допуская, чтобы это переходило в «ну и что?». Доверять этому внезапному ознобу, когда дыбом встают на коже волоски, не хватаясь тут же за Фрейда. Остальное — дело таланта.
Как писатель, извлекали ли вы какую-нибудь пользу из критики — я имею в виду не столько рецензии на ваши книги, сколько литературную критику вообще? Считаете ли вы по собственному опыту, что писательская карьера и университетская одна другую питают? Очень бы хотелось узнать ваши мысли на этот счет, поскольку многие писатели не имеют сегодня иного выбора, как только университетское преподавание. Как вы полагаете, не оказало ли влияния на ваше творчество то, что в Америке вы принадлежали к университетской среде?
Я думаю, критика в высшей степени полезна, когда специалист указывает мне на мои грамматические ошибки. Писателю университетская карьера помогает в двух отношениях: во-первых, облегчая доступ в великолепные библиотеки, во-вторых, благодаря долгим каникулам. Остается, конечно, еще преподавательская нагрузка, но у старых профессоров есть молодые ассистенты, которые читают за них экзаменационные сочинения, а молодых ассистентов, они ведь тоже писатели, в коридорах Факультета Тщеславия студенты провожают восхищенными взглядами. Но главная наша награда — это узнавать в последующие годы отзвуки нашего сознания в доносящемся ответном эхе, и это должно побуждать преподающих писателей стремиться в своих лекциях к честности и ясности выражения.
Как вы оцениваете возможности жанра литературной биографии?
Писать такие вещи интереснее, чем читать. Иногда это превращается в нечто подобное двойной погоне: сперва преследует свой предмет биограф, продираясь сквозь дневники и письма, увязая в трясине домыслов, потом вымазанного в грязи биографа начинает преследовать соперничающий авторитет.
Критики склонны считать, что совпадения в романе — это обычно натяжка и выдумка. Помнится, в ваших лекциях в Корнелле вы сами называли совпадения у Достоевского грубыми.
Но они происходят ведь и в «реальности». Не далее как вчера вы нам за ужином очень забавно рассказывали, как немцы употребляют слово «доктор», и вот, еще я не перестал хохотать, как слышу, — дама за соседним столиком говорит, обращаясь к своему спутнику (ее чистая французская речь доносилась сквозь позвякивание посуды и гул ресторанных голосов, как вот сейчас, слышишь,[32] долетают с озера сквозь дорожный гул крики этой маленькой чомги): «У этих немцев никогда не разберешь, что за доктор — адвокат он или зубной врач». Очень часто в «реальности» встречаются люди и происходят события, которые в романе показались бы надуманными. Нас раздражают не столько «литературные» совпадения, сколько совпадения совпадений у различных писателей, — например, подслушанный разговор как прием в русской литературе девятнадцатого века.
Не расскажете ли вы нам немного о своих рабочих навыках и о том, как вы сочиняете романы? Составляете ли вы предварительный план? Отдаете ли вы себе полный отчет уже на ранних этапах работы, куда заведет вас вымысел?
Лет до тридцати я писал в школьных тетрадках, макая ручку в чернильницу и через день меняя перо, вычеркивал одни куски, другие вставлял, потом снова их выбрасывал, вырывал и комкал страницы, по три-четыре раза их переписывал, потом другими чернилами и более аккуратным почерком перебелял весь роман, потом еще раз целиком его пересматривал, внося новые поправки, и тогда наконец диктовал его жене, которая всю мою продукцию перепечатывала на машинке. Вообще пишу я медленно, ползу как улитка со своей раковиной, со скоростью двести готовых страниц в год — единственным эффектным исключением был русский текст «Приглашения на казнь», первый вариант которого я в одном вдохновенном порыве написал за две недели. В те дни и ночи я в основном писал, придерживаясь порядка, в каком идут главы, но сочинял больше в уме, — на прогулке, лежа в постели или в ванне, составляя мысленно целые отрывки, — пусть я их потом изменял или выкидывал. Позже, в конце тридцатых, начиная с «Дара», я, в связи, вероятно, с обилием всевозможных заметок, перешел на более практичный способ — стал писать на карточках карандашом, оснащенным резинкой. Поскольку с первых же шагов перед моими глазами стоит удивительно ясное видение всего романа, карточки особенно удобны — они позволяют не следовать за порядком глав, а заниматься отрывком, относящимся к любому месту, или заполнять пробелы между уже написанными кусками. Боюсь, как бы меня не приняли за Платона, к которому я вообще равнодушен, но я в самом деле считаю, что в моем случае не написанная еще книга как бы существует в некоем идеальном измерении, то проступая из него, то затуманиваясь, и моя задача состоит в том, чтобы все, что мне в ней удается рассмотреть, с максимальной точностью перенести на бумагу. Как сочинитель, самое большое счастье я испытываю тогда, когда чувствую или, вернее, ловлю себя на том, что не понимаю — не думая при этом ни о каком предсуществовании вещи, — как и откуда ко мне пришел тот или иной образ или сюжетный ход. Довольно забавно, когда некоторые читатели пытаются на буквальном уровне прояснить эти безумные выходки моего вообще-то не слишком производительного ума.
Писатели нередко говорят, что их герои ими завладевают и в некотором смысле начинают диктовать им развитие событий. Случалось ли с вами подобное?
Никогда в жизни. Вот уж нелепость! Писатели, с которыми происходит такое, — это или писатели весьма посредственные, или вообще душевнобольные. Нет, замысел романа прочно держится в моем сознании, и каждый герой идет по тому пути, который я для него придумал. В этом приватном мире я совершеннейший диктатор, и за его истинность и прочность отвечаю я один. Удается ли мне его воспроизвести с той степенью полноты и подлинности, с какой хотелось бы, — это другой вопрос. В некоторых моих старых вещах есть удручающие замутнения и пробелы.
Некоторые читатели находят, что «Бледный огонь» — это своего рода комментарий к платоновскому мифу о пещере — постоянное обыгрывание на протяжении романа имени Шейда[33] в связи с тенями якобы подразумевает приверженность автора к платонизму. Не могли бы вы высказаться по этому поводу?
Я уже говорил, что я не особенный поклонник Платона, и вряд ли смог бы долго просуществовать при его германообразном военно-музыкальном режиме. Не думаю, что мой Шейд со своими тенями может иметь какое-нибудь отношение ко всем этим пещерным делам.
Раз уж мы затронули философию как таковую, не могли бы мы немного поговорить о философии языка, которая стоит за вашими произведениями. Замечали ли вы, например, то общее, что объединяет зембланский язык с высказываниями Людвига Витгенштейна{119} об «индивидуальных языках»? А присущее вашему герою-поэту ощущение языковой ограниченности поразительно напоминает мысли Витгенштейна о референтной основе языка. Были ли вы связаны с философским факультетом, когда учились в Кембридже?
Ничуть. С трудами Витгенштейна я не знаком и только, наверное, в пятидесятые годы вообще впервые о нем услышал. В Кембридже я писал русские стихи и играл в футбол.
Когда в Песни второй «Бледного огня» Шейд так себя описывает: «Я, стоя у раскрытого окна, /Подравниваю ногти», — это перекликается со словами Стивена Дедалуса о художнике, который «пребывает где-то внутри, или позади, или вне, или над своим творением — невидимый, по ту сторону бытия, бесстрастно подравнивая ногти». Почти во всех ваших романах, особенно в «Приглашении на казнь», «Под знаком незаконнорожденных», «Бледном огне» и «Пнине», и даже в «Лолите» — не только в лице седьмого охотника из пьесы Куильти, но и во множестве тех мерцающих проблесков, которые вспыхивают перед внимательным читателем, — творец действительно присутствует где-то позади или над своим произведением, но не невидимый и уж конечно совсем не бесстрастный. В какой мере осознанно вы перекликаетесь в «Бледном огне» с Джойсом и как вы относитесь к этой его эстетической установке или ее видимости, поскольку вы, может быть, считаете, что замечание Стивена к «Улиссу» неприменимо?
Ни Кинбот, ни Шейд, ни их создатель с Джойсом в «Бледном огне» не перекликаются. Мне вообще «Портрет художника в молодости» никогда не нравился. Это, по-моему, слабая книга, в ней много болтовни. То, что вы процитировали, — просто неприятное совпадение.
Вы утверждали, что на вас оказал влияние один только Пьер Делаланд, и я охотно готов согласиться, что все эти поиски влияний могут оскорблять достоинство писателя, если они принижают его авторскую оригинальность. Но касательно ваших взаимоотношений с Джойсом, мне кажется, что вы, не подражая ему, в то же время сознательно на него опирались, что вы развивали заложенные в «Улиссе» возможности, не прибегая к классическим джойсовским приемам (поток сознания, эффект «коллажа», составленного из пестрого сора повседневности). Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к Джойсу как к писателю и как вы оцениваете его вклад в раскрепощение и расширение романной формы.
Моя первая настоящая встреча с «Улиссом», если не считать жадного взгляда, искоса брошенного в начале двадцатых, произошла в тридцатые годы, когда я был уже сложившимся писателем, мало поддающимся литературным влияниям. Изучать же «Улисса» я стал много позже, когда в пятидесятые годы готовил свой университетский курс, — это было лучшее образование, которое я сам получил в Корнелле. «Улисс» возвышается надо всем, что написано Джойсом, и в сравнении с благородной изысканностью, с невероятной ясностью мысли и прозрачностью этой вещи неудавшиеся «Поминки по Финнегану» — это какая-то бесформенная серая масса подложного фольклора, не книга, а остывший пудинг, непрекращающийся храп из соседней комнаты, особенно невыносимый при моей бессоннице. К тому же я никогда не терпел региональной литературы с ее чудными архаизмами и подражательным произношением. За фасадом «Поминок по Финнегану» скрывается весьма серый и вполне обыкновенный доходный дом, и только нечастые проблески божественной интонации изредка еще расцвечивают безжизненный пейзаж этой вещи. Знаю, за такой отзыв мне грозит отлучение.
Хотя я и не помню, чтобы в своих лекциях о Джойсе вы упоминали спиралевидную структуру «Улисса», я отчетливо помню ваше утверждение о том, что галлюцинации в Ночном городе принадлежат автору, а не Стивену или Блуму, а это всего в одном шаге от обсуждения спиралевидности. Это аспект «Улисса», почти совершенно игнорируемый «джойсовской индустрией», и аспект творчества Джойса, который наверняка может представлять для вас большой интерес. Если кое-где прерывающиеся спирали Джойса затемняются огромными размерами его структур, то, пожалуй, построение ваших романов находится в сильной зависимости от сходной стратегии. Не могли бы вы прокомментировать это, иначе говоря — сравнить с собственной интенцией ваше восприятие джойсовского присутствия внутри его произведений и над ними. Имеются в виду тайные появления Джойса в «Улиссе», вся шекспировско-отцовская тема, которая в конечном счете разворачивается в идею «отцовства» самого «Улисса»; прямое обращение Шекспира к Джойсу в Ночном городе («How my Oldfellow chokit his Thursdaymomum»[34]); и обращенная к Джойсу мольба Молли, «О, Джеймси, выпусти меня из этого» — все то, что противостоит авторскому голосу — или тому, что вы называете «олицетворяемым мной антропоморфным божеством», которое вновь и вновь появляется в ваших романах, особенно явственно в их концовках.
Одна из причин, почему Блум не может быть основным действующим лицом в главе Ночного города (а если он таковым не является, то за него и вокруг него грезит сам автор, с вкрапленными тут и там «реальными» эпизодами), заключается в том, что Блум, и так-то увядающий мужчина, опустошил свою мужественность еще ранним вечером, а потому представляется весьма маловероятным, что он был способен погрузиться в разнузданные сексуальные фантазии Ночного города.
Какое чувство должен испытать идеальный читатель, дойдя до конца вашего романа, когда убраны все указатели, труппа распущена и обнажен вымысел? Какие привычные литературные штампы вы тем самым ниспровергаете?
Вопрос так прелестно задан, что мне бы хотелось ответить на него столь же выразительно и изящно, но я мало что могу сказать по этому поводу. Мне было бы приятно, если бы мою книгу читатель закрывал с ощущением, что мир ее отступает куда-то вдаль и там замирает наподобие картины внутри картины, как в «Мастерской художника» Ван Бока.[35]
Может быть, я ошибаюсь, но самый конец «Лолиты» постоянно оставляет у меня какое-то чувство неуверенности, потому, вероятно, что в конце других ваших книг обычно очень четко ощущается изменение интонации. Как вы полагаете, другим ли голосом произносит рассказчик в маске слова: «И не жалей К.К. Пришлось выбирать между ним и Г.Г., и хотелось дать Г.Г. продержаться…» и так далее? Возврат в следующей фразе к первому лицу наводит на мысль, что маска так и не снята, но читатели, воспитанные на «Приглашении на казнь» и на других ваших вещах, будут здесь искать следы того отпечатка большого пальца мастера, который, словами Франклина Лейна из «Бледного огня», «превращает всю эту сложную, запутанную головоломку в одну прекрасную прямую линию».
Нет, я не имел в виду вводить другой голос. Но я хотел передать сердечную боль рассказчика, то подступающее содрогание, из-за которого он сводит к инициалам имена, и торопится поскорей, пока не поздно, окончить рассказ. Я рад, если мне действительно удалось передать в финале эту отстраненность интонации.
Существуют ли письма Франклина Лейна? Мне не хочется выступать в роли г-на Гудмена из «Истинной жизни Себастьяна Найта», но, насколько я понимаю, Франклин Лейн действительно существовал.
Франк Лейн, его опубликованные письма и цитируемый Кинботом отрывок, несомненно, существуют. Кинбота весьма поразило красивое меланхоличное лицо Лейна. Ну и конечно же lane — последнее слово в поэме Шейда. Но это не имеет никакого значения.
Как вы считаете, в какой из ваших ранних книгу же наметились те возможности, которые вами потом были развиты в «Приглашении на казнь» и полностью реализованы в «винтообразной башне» «Бледного огня»?
Может быть, в «Соглядатае», хотя я должен сказать, что «Приглашение на казнь» — вещь сама по себе спонтанная.
Есть ли еще какие-нибудь писатели, пользующиеся приемом «закручивания спирали», которые вам нравятся? Стерн? Пьесы Пиранделло?
Пиранделло я никогда не любил. Стерна люблю, но когда я писал свои русские вещи, я его еще не читал.
Сама собой очевидна важность послесловия к «Лолите». Вошло ли оно во все имеющиеся переводы, число которых, по моим сведениям, достигло уже двадцати пяти?
Да.
Однажды после лекции в Корнелле вы мне сказали, что не смогли одолеть более сотни страниц «Поминок по Финнегану». Между тем на странице 104 этой книги начинается пассаж, по духу очень близкий «Бледному огню», так что мне интересно было бы знать, доходили ли вы до него и отмечено ли вами это сходство. Речь идет об истории изданий и истолкований письма, или «мамафесты» Анны Ливии Плюрабель (там же его текст). В приведенном Джойсом списке его названий, занимающем три страницы, есть, между прочим, и такое: Try our Taal on a Taub[36] (чем мы и занимаемся), и я в связи с этим хотел бы просить вас высказать свое мнение по поводу вклада Свифта в литературу о порче образования и словесности. Простое ли это совпадение, что «Предисловие» Кинбота к «Бледному огню» датировано 19 октября, то есть датой смерти Свифта?
«Финнегана» я в конце концов одолел, но никакой внутренней связи между ним и «Бледным огнем» нет. По-моему, очень мило, что день, когда Кинбот покончил с собой (а он, завершив подготовку поэмы к изданию, несомненно, так и поступил), — это не только пушкинско-лицейская годовщина, но, как сейчас для меня выясняется, еще и годовщина смерти «бедного старого Свифта» (см., однако, вариант в примечании к строке 231 поэмы). Я разделяю пушкинскую завороженность пророческими датами. Более того, когда в романе мне нужно датировать какое-нибудь событие, я обычно выбираю в качестве point de repre[37] дату достаточно известную, что помогает к тому же выискивать ошибки в корректуре, — такова, к слову сказать, дата «1 апреля» в дневнике Германа в «Отчаянии».
Наш разговор о Свифте наводит меня на мысль задать вам вопрос о жанре «Бледного огня». Если это действительно «чудовищное подобие романа», то как вы считаете, вписывается ли он в какую-либо традицию?
Если не по жанру, то по своей форме «Бледный огонь» — нечто новое. Я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы указать на ряд опечаток во втором издании «Патнэм» 1962 года. (…) Благодарю вас.
Как вы разграничиваете пародию и сатиру? Я задаю этот вопрос, поскольку вы не раз заявляли, что не желаете выглядеть автором «сатир на нравы», между тем как пародия занимает огромное место в вашем творчестве.
Сатира — поучение, пародия — игра.
В главе десятой «Истинной жизни Себастьяна Найта» можно найти великолепное описание того, как вы пользуетесь пародией в своих собственных произведениях. Однако ваше понимание пародии далеко выходит за рамки обычного — например, в «Приглашении на казнь» Цинциннат у вас говорит своей матери: «Я же отлично вижу, вы такая же пародия, как все, как все… Нет, вы все-таки только пародия… как этот паук, как эта решетка, как этот бой часов». Тогда все искусство или, по крайней мере, все попытки создать «реалистическое» искусство должны вести к искажению, создавать своего рода пародийный эффект. Не выскажетесь ли вы более обстоятельно по поводу своего понимания пародии и о том, почему, по словам Федора из «Дара», дух пародии всегда сопровождает подлинную поэзию?
Когда поэт Цинциннат Ц., герой самого сказочного и поэтического из моих романов, не совсем заслуженно называет свою мать пародией, он пользуется этим словом в его обычном значении «гротескной имитации». Когда же Федор в «Даре» говорит о «духе пародии», играющем в брызгах подлинной «серьезной» поэзии, он вкладывает сюда то особое значение беспечной, изысканной, шутливой игры, которое позволяет говорить о пушкинском «Памятнике» как о пародии на державинский.
Каково ваше мнение о пародиях Джойса? В чем вы видите разницу в художественном воздействии таких эпизодов, как сцена в Родильном приюте и пляжная интерлюдия с Гертой Макдауэлл? Вам знакомы произведения молодых американских писателей, на которых оказало воздействие творчество ваше и Джойса, таких как Томас Пинчон{120}(студент Корнелла, класс 1959 года, он точно посещал курс Литературы 312), а также составили ли вы какое-то мнение о нарождающемся в настоящее время так называемом романе-пародии (к примеру, Джона Барта{121})?
Литературные пародии в главе о Родильном приюте в общем-то довольно нудные. Похоже, Джойсу мешал тот общий стерильный тон, который он избрал для этой главы, что сделало вставные пародии скучными и монотонными. В то же время пародии на цветистые любовные романчики в сцене мастурбации в высшей степени успешны, а внезапное сочетание этих клише с фейерверками и нежными небесами истинной поэзии — полет гения. Я не знаком с творчеством двух других упомянутых вами писателей.[38]
Почему в «Бледном огне» вы называете пародию «последним прибежищем остроумия»?
Это слова Кинбота. Есть люди, которым пародия не по душе.
Создавались ли два столь различных произведения, как «Лолита» и «Другие берега», объединенные темой очарования прошлого, во взаимодействии, напоминающем связь ваших переводов «Слова о полку Игореве» и «Евгения Онегина» с «Бледным огнем»? Была ли уже закончена работа над комментарием к «Онегину», когда вы взялись за «Бледный огонь»?
Это такой вопрос, на который может ответить только тот, кто его задает. Мне такие сопоставления и противопоставления не под силу. Да, «Онегина» я закончил до того, как начал писать «Бледный огонь». По поводу одной сцены из «Госпожи Бовари» Флобер в письмах жалуется на то, как трудно писать couleur sur couleur.[39] Это как раз то, что я пытался делать, когда, выдумывая Кинбота, выворачивал наизнанку свой собственный опыт. «Другие берега» — в полном смысле слова автобиография. В «Лолите» ничего автобиографического нет.
При всей той роли, какую играет в ваших произведениях самопародирование, вы — писатель, страстно верящий в первенствующую роль вымысла. И все же ваши романы насыщены деталями, которые как будто нарочно берутся из вашей собственной жизни, что выясняется, например, из «Других берегов», не говоря о таком сквозном мотиве многих ваших книг, как бабочки. Думается, что за этим стоит нечто иное, чем скрытое желание продемонстрировать свои представления о соотношении самопознания и творчества, самопародирования и тождества личности. Не выскажетесь ли вы по этому поводу, а также о роли автобиографических намеков в произведениях искусства не собственно автобиографических?
Я бы сказал, что воображение — это форма памяти. Лежать, Платон, лежать, песик! Образ возникает из ассоциаций, а ассоциации поставляет и питает память. И когда мы говорим о каком-нибудь ярком воспоминании, то это комплимент не нашей способности удерживать нечто в памяти, а таинственной прозорливости Мнемозины, закладывающей в нашу память все то, что творческое воображение потом использует в сочетании с вымыслом и другими позднейшими воспоминаниями. В этом смысле и память, и воображение упраздняют время.
Ч.П. Сноу жаловался на пропасть между двумя культурами{122}, то есть между литературой и точными науками. Считаете ли вы, как человек, перекинувший между ними мост в своей деятельности, что искусство и наука должны непременно друг другу противопоставляться? Оказал ли влияние ваш научный опыт на вашу художественную практику? Есть ли смысл пользоваться для описания некоторых ваших литературных приемов терминами физики?
Я бы сравнил себя с Колоссом Родосским, который расставил ноги над пропастью между термодинамикой Сноу и лоренсоманией Ливиса, если бы сама эта пропасть не былаканавкой, над которой мог бы точно так же раскорячиться лягушонок. Но то, что вкладывают сейчас в слова «физика» и «яйцеголовые», связывается для меня с унылой картиной прикладной науки, с образом умельца-электрика, подхалтуривающего на изготовлении бомб и всяких иных безделиц. Одна из этих «двух культур» ничего собой не представляет, кроме утилитарной технологии, другая — это второсортные романы, беллетристика готовых идей и массовое искусство. Какая разница, существует ли пропасть между такой «физикой» и такой «лирикой»? Все эти яйцеголовые — ужасные мещане. По-настоящему хорошая голова имеет круглую, а не овальную форму.
Каким же образом, через какое окно проникает сюда энтомология?
Занятия энтомологией, которым я с равной страстью предаюсь в поле, библиотеке и лаборатории, мне даже милее, чем литературные, где слова больше, чем дела, а это кое-что значит. Специалисты по чешуекрылым — ученые малозаметные. Уэбстер{123}, например, не упоминает ни одного. Но ничего. Я переработал систематику различных классов бабочек, открыл и описал несколько видов и подвидов. Названия, которые я дал некоторым впервые мною обнаруженным и зарисованным микроскопическим органам, благополучно разместились в словарях по биологии — статья «Нимфетка» в последнем издании Уэбстера выглядит по сравнению с ними довольно жалко. Прелесть дрожащего на кончиках пальцев точного описания, безмолвие бинокулярного рая, поэтическая меткость таксономического определения — вот художественная сторона того восторженного трепета, которым знание, абсолютно бесполезное неспециалисту, щедро одаряет того, кто его породил. Для меня наука — это прежде всего естествознание, а не умение починить радиоприемник, что и короткопалому под силу. Оговорив это, я, конечно же, приветствую свободный обмен терминологией междулюбой отраслью науки и всеми видами искусства. Без фантазии нет науки, как нет искусства без фактов. Впрочем, страсть к афоризмам — признак склероза.
В «Бледном огне» Кинбот жалуется: «с приходом лета возникло оптическое затруднение». «Соглядатай» — прекрасное название, поскольку этим вы и занимаетесь в своем творчестве: восприятие реальности для вас — чудо видения, и сознание у вас играет роль оптического инструмента. Изучали ли вы когда-нибудь оптику как науку и не могли бы вы рассказать об особенностях вашего собственного зрительного восприятия и о том месте, какое оно занимает в ваших романах?
Боюсь, что вы цитируете не совсем кстати: Кинбот просто досадует на то, что распустившаяся листва мешает ему подглядывать в окна. В остальном вы правы, утверждая, что глаз у меня хороший. Фоме неверующему надо было обзавестись очками. Но и сверхзоркому вещь надо пощупать, чтобы полностью убедиться в ее «реальности».
Выговорили, что Ален Роб-Грийе и Хорхе Луис Борхес принадлежат к числу ваших любимых современных писателей. Находите ли вы между ними какое-нибудь сходство? Считаете ли вы, что романы Роб-Грийе действительно настолько свободны от психологизма, как он на это претендует?
Претензии Роб-Грийе довольно нелепы. Манифесты дадаистов умерли вместе с этими дядями. Его творчество восхитительно оригинально и поэтично, а сдвиги уровней, разбор впечатлений в их последовательности и так далее как раз относятся к области психологии в самом лучшем смысле слова. Борхес тоже человек бесконечно талантливый; его лабиринты миниатюрны, а у Роб-Грийе они не только просторны, но и построены совсем иначе, и освещение там другое.
Я помню вашу шутку на лекции в Корнелле, что между писателями иногда имеется телепатическая связь (кажется, вы сопоставляли Диккенса и Флобера). Ивы, и Борхес родились в том же 1899 году (тогда же, кстати, и Хемингуэй!). Ваш роман «Под знаком незаконнорожденных» очень близок по замыслу рассказу Борхеса «Кругируин», но вы не знаете испанского, а рассказ впервые был напечатан в английском переводе лишь в 1949 году, то есть на два года позже, чем «Под знаком незаконнорожденных». Точно также в «Тайном чуде» у Борхеса Хладик сочиняет пьесу в стихах, невероятно похожую на вашу пьесу «Изобретение Вальса», лишь недавно переведенную с русского, — хотя написана она была раньше, но по-русски Борхес прочесть ее не мог. Когда вы впервые познакомились с произведениями Борхеса, и была ли у вас с ним какая-нибудь связь, помимо телепатической?
Первое мое знакомство с творчеством Борхеса состоялось три-четыре года назад. До этого я не знал о его существовании и не думаю, что он раньше, да и теперь, слыхал обо мне, — для телепатов, согласитесь, это не густо. Есть сходство между «Приглашением на казнь» и «Замком», но Кафки я, когда писал свой роман, еще не читал. Что же касается Хемингуэя, я его впервые прочел в начале сороковых годов, что-то насчет быков, рогов и колоколов, и это мне сильно не понравилось. Потом, позже, я прочитал его замечательных «Убийц» и удивительную историю про рыбу, которую меня просили перевести на русский, но я по каким-то причинам не смог.
Между прочим, Борхес знает о вашем существовании: ожидали, что он примет участие в специальном выпуске французского журнала «Л'Арк», целиком посвященном вам, но это почему-то не получилось. Ваша первая книга — русский перевод Льюиса Кэрролла. Как вам кажется, есть ли связь между кэрролловским нонсенсом и вашими выдуманными и перемешанными языками в романах «Под знаком незаконнорожденных» и «Бледный огонь»?
Как и все английские дети (а я был английским ребенком), Кэрролла я всегда обожал. Нет, не думаю, что есть что-нибудь общее между нашим и выдуманными языками. Есть у него некое трогательное сходство с Г.Г., но я по какой-то странной щепетильности воздержался в «Лолите» от намеков на его несчастное извращение, на двусмысленные снимки, которые он делал в затемненных комнатах. Он, как многие викторианцы — педерасты и нимфетолюбы, — вышел сухим из воды. Его привлекали неопрятные костлявые нимфетки в полураздетом или, вернее сказать, в полуприкрытом виде, похожие на участниц какой-то скучной и страшной шарады.
Я думал, что в «Лолите» все-таки есть на это намек через фотографическую, так сказать, тему: Гумберт хранит старую потрепанную фотографию Аннабель, он в каком-то смысле с этим «моментальным снимком» живет, он пытается подогнать под него Лолиту и часто жалуется на то, что ему не удается ее образ поймать и сохранить на пленке. У Куильти тоже есть хобби, а именно: любительское кино, и те невообразимые фильмы, которые он снимал на Дук-Дуковом ранчо, могли бы, кажется, насытить Кэрролла в самых его необузданных вожделениях.
Сознательно я об этом Кэрролловском коньке в связи с темой фотографии в «Лолите» не думал.
У вас большой переводческий опыт, причем в области именно художественного перевода. Какие проблемы бытия таятся, по вашему, в переводе как искусстве и переводе как действе?
Говорят, есть на Малаях такая птичка из семейства дроздовых, которая тогда только поет, когда ее невообразимым образом терзает во время ежегодного Праздника цветов специально обученный этому мальчик. А еще Казанова предавался любви с уличной девкой, глядя в окно на неописуемые предсмертные мучения Дамьена{124}. Вот какие меня посещают видения, когда я читаю «поэтические» переводы русских лириков, отданных на заклание кое-кому из моих знаменитых современников. Истерзанный автор и обманутый читатель — таков неминуемый результат перевода, претендующего на художественность. Единственная цель и оправдание перевода — возможно более точная передача информации, достичь же этого можно только в подстрочнике, снабженном примечаниями.
Я, кстати, хотел бы коснуться одной кинботовской проблемы, актуальной для критиков, которые пишут о ваших русских романах, зная их лишь в английских переводах. Например, говорилось, что в «Защите Лужина» и «Отчаянии» многое, вероятно, переделано по сравнению с русским оригиналом (речь идет, конечно, о языковой игре) и что язык обоих романов гораздо богаче, чем «Камеры обскуры», написанной примерно тогда же, но переведенной гораздо раньше, в тридцатые годы. Не высказались бы вы по этому поводу? Поскольку стиль «Камеры обскуры» указывает на то, что она скорее предшествует «Отчаянию», то, может быть, она действительно была написана раньше? В интервью, данном Би-би-си четыре года назад, вы сказали, что написали «Камеру обскуру» в двадцатишестилетнем возрасте, то есть в 1925 году, — тогда это был бы ваш первый роман. Действительно ли он был написан так давно, или это просто ошибка памяти, вызванная, скажем, всей этой отвлекающей аппаратурой на Би-би-си?
В английских вариантах этих романов я заменил кое-какие частности и, как пояснено в предисловии к «Отчаянию», восстановил одну сцену. Цифра «двадцать шесть», конечно, неправильная. Это или просто путаница, или я имел в виду мой первый роман — «Машеньку», который написал в 1925 году. По-русски «Камера обскура» была написана в 1931 году, а в английском переводе Уинфреда Роя, поправленном мною меньше, чем требовалось, она вышла в Лондоне в 1936 году. Год спустя, живя на Ривьере, я сделал не вполне удачную попытку заново его перевести для издательства Боббс-Меррил, выпустившего его в 1938 году в Нью-Йорке.
В «Отчаянии» есть проходное замечание о «заурядном пошлом Герцоге». Что это — шуточная вставка в связи с одним недавним бестселлером{125}?
Герцог — немецкий титул, я имел в виду всего лишь обыкновенную статую немецкого герцога на городской площади.
Поскольку новое английское издание «Камеры обскуры» лишено, к сожалению, одного из тех содержательных предисловий, к которым мы привыкли, не расскажете ли вы, как возникла эта книга и как вы ее писали? Комментаторы часто проводят аналогии между Марго{126} и Лолитой, но меня куда больше интересует родство Акселя Рекса{127} и Куильти. Не расскажете ли вы также о других ваших героях с извращенным воображением, которые все, кажется, наделены дурными качествами Рекса?
Да, между Рексом и Куильти есть некоторое сходство, так же как и между Марго и Ло. Хотя, конечно, Марго — обычная молоденькая шлюха, чего ни в коем случае не скажешь о моей бедной Лолиточке. Но я не думаю, что эти повторяющиеся у моих персонажей болезненные странности сексуального характера представляют какой-то особый интерес. Мою Лолиту сравнивали с Эммочкой из «Приглашения на казнь», с Мариэттой из «Под знаком незаконнорожденных» и даже с Колетт из «Других берегов», что уж совсем нелепо. Может, английские критики просто развлекались?
В ваших произведениях постоянно встречается мотив двойничества (Doppelgnger), а в «Бледном огне» это уже по меньшей мере — хочется сказать — тройничество. Согласны ли вы, что «Камера обскура» — первая ваша вещь, в которой задана эта тема?
В этой книге, по-моему, нет никаких двойников. Можно, конечно, всякого удачливого любовника считать двойником обманутого, но это совершенно бессмысленно.
Не поделитесь ли вы своими соображениями об употреблении мотива двойничества, а также о злоупотреблении им у По, Гофмана, Андерсена, Достоевского, Гоголя, Стивенсона и Мелвилла, вплоть до Конрада и Манна? Какие произведения на эту тему вы бы особо отметили?
Вся эта тема двойничества — страшная скука.
А что вы думаете о знаменитом «Двойнике» Достоевского? Кстати, Герман в «Отчаянии» подумывает об этом названии для своей рукописи.
«Двойник» Достоевского — лучшая его вещь, хоть это и очевидное и бессовестное подражание гоголевскому «Носу». Феликс в «Отчаянии» — двойник мнимый.
Каковы личностные признаки, благодаря которым эта тема приобрела для вас такое значение, и в противовес чему вы создавали свою собственную концепцию двойника?
В моих романах нет «настоящих» двойников.
Вопрос о двойниках подводит нас к «Пнину», который, насколько я могу судить, оказался одним из самых читаемых ваших романов и в то же время одним из самых трудных для понимания теми, кто не улавливает связи между героями и рассказчиком или вообще замечает его присутствие только тогда, когда уже слишком поздно. Четыре из семи глав романа печатались в течение долгого времени (1953–1957) в «Нью-Йоркере», но очень важная последняя глава, в которой рассказчик все берет в свои руки, есть лишь в книжном издании. Меня в высшей степени интересует, полностью ли у вас уже оформился замысел «Пнина», когда печатались отрывки, или вы только потом осознали все заложенные в нем возможности?
Да, замысел «Пнина» был для меня полностью ясен уже тогда, когда я начал писать первую главу, и на этот раз с нее я и начал переносить роман на бумагу. Увы, должна была быть еще одна глава между четвертой (в которой, между прочим, и мальчику в колледже св. Варфоломея, и Пнину — обоим — снится один и тот же сон, нечто из моих черновиков к «Бледному огню», а именно революция в Зембле и бегство короля — вот вам и телепатия) и пятой, где Пнин водит машину. В этой ненаписанной главе, которая была для меня ясна до последнего изгиба, Пнин, лежа в клинике с радикулитом, по учебнику автовождения 1935 года из больничной библиотеки учится в постели управлять машиной, орудуя рычагами больничной койки. Профессор Блорендж — единственный из всех коллег, который приходит его навестить. Оканчивается глава экзаменом по вождению, во время которого Пнин по каждому вопросу препирается с инструктором, вынуждая его признавать, что он прав. Из-за стечения случайных обстоятельств мне не удалось написать эту главу в 1956 году, а сейчас она уже превратилась в мумию.
В телевизионном интервью, взятому вас в прошлом году, вы отозвались о «Петербурге» Белого как об одном из величайших достижений прозы нашего века наряду с романами Джойса, Кафки и Пруста (кстати, «Гроув Пресс» после этого переиздала «Петербург» с вашим отзывом на обложке). Я очень ценю этот роман, но в Америке он, к сожалению, известен довольно мало. Что вас больше всего в нем привлекает? Белого сравнивают иногда с Джойсом — оправдано ли такое сравнение?
«Петербург» — дивный полет воображения, вообще же ответом на этот вопрос будет мое эссе о Джойсе. Между «Петербургом» и отдельными местами в «Улиссе» есть некоторая общность в манере выражения.
Хотя в такой форме этот вопрос, насколько я знаю, не ставился, но отец и сын Аблеуховы — это тоже, как мне кажется, двойники, и тогда «Петербург» становится интереснейшим и наиболее фантастическим примером воплощения темы двойничества. Поскольку такое двойничество, если вы вообще согласны с моей интерпретацией, вам должно несравненно более импонировать, чем, скажем, вариант той же темы в «Смерти в Венеции» Томаса Манна, то не поясните ли вы его смысл?
Для меня как писателя эти темные вопросы не представляют никакого интереса. В философии я придерживаюсь абсолютного монизма. Кстати, ваш почерк удивительно похож на мой.
Встречались ли вы с Андреем Белым в Берлине, когда он там жил в 1922–1923 годах? Видели ли вы Джойса, когда одновременно с ним жили в Париже?
Как-то раз, в 1921 или 1922 году, когда я обедал в берлинском ресторане с двумя девушками, я оказался сидящим спиной к Андрею Белому, обедавшему за соседним столиком с Алексеем Толстым. Оба писателя были тогда откровенно просоветски настроены (и как раз собирались вернуться в Россию), а «белый русский», каковым я в этом конкретном смысле до сих пор остаюсь, не стал бы, конечно, разговаривать с большевизаном. Я был знаком с Алексеем Толстым, но, разумеется, проигнорировал его. Джойса я несколько раз встречал в Париже в конце тридцатых годов. Поль и Люси Леон, мои старые друзья, были и его близкими друзьями. Однажды они привели его на мой французский доклад о Пушкине{128}, который я прочел по предложению Габриэля Марселя (он был опубликован впоследствии в «Нувель ревю франсез»). Случилось так, что мною в последнюю минуту заменили одну венгерскую писательницу, которая пользовалась в ту зиму большой известностью, написав роман-бестселлер, — я помню его название — «La rue du Chat qui Pche»,[40] но имени ее не помню. Несколько моих друзей, опасаясь, ак бы результатом неожиданной болезни дамы и неожиданного доклада о Пушкине не оказался неожиданно пустой зал, сделали все возможное, чтобы собрать аудиторию, какую, по их мнению, мне бы хотелось видеть перед собой. Состав ее оказался, однако, весьма пестрым из-за небольшой путаницы в рядах приверженцев этой дамы. Венгерский консул, приняв меня за ее мужа, при моем появлении тотчас кинулся ко мне, кипя сочувствием. Не успел я начать, как многие стали выходить из зала. Незабываемым утешением было для меня присутствие Джойса, сидевшего, скрестив руки и поблескивая очками, в центре венгерской футбольной команды. В другой раз мы с женой обедали с ним у Леонов, после чего целый вечер беседовали. Я ни слова не помню из этой беседы, но жена моя вспоминает, что Джойса интересовал рецепт меда, русского напитка, и каждый отвечал ему по-своему. Кстати, в классическом английском переводе «Братьев Карамазовых» есть глупейшая ошибка: переводчик, описывая ужин в келье у старца Зосимы, бодренько передает «Медок» — французское вино, которое весьма ценилось в России, — в оригинале его название дано как медок, уменьшительное от мед. Было бы забавно теперь вспоминать, что я рассказывал это Джойсу, но, увы, с этим воплощением «Карамазовых» я познакомился десять лет спустя.
Вы только что упомянули Алексея Толстого. Не скажете ли вы о нем несколько слов?
Он был довольно талантливым писателем{129}, от которого осталось несколько рассказов или романов в жанре научной фантастики. Но вообще я бы не хотел ставить писателей в зависимость от тех или иных определений, — единственный, на мой взгляд, определяющий фактор — это талант и оригинальность. Ведь если мы начнем приклеивать групповые ярлыки, то придется и «Бурю» признать научной фантастикой, и множество еще других замечательных произведений.
Толстой начал писать еще до революции и сначала был против большевиков. Нравятся ли вам какие-нибудь писатели, целиком относящиеся к советскому периоду?
Были писатели, которые поняли, что если избирать определенные сюжеты и определенных героев, то они смогут в политическом смысле проскочить — другими словами, никто их не будет учить, о чем им писать и как должен оканчиваться роман. Два поразительно одаренных писателя — Ильф и Петров — решили, что если главным героем они сделают негодяя и авантюриста, то, что бы они ни писали о его похождениях, с политической точки зрения к этому нельзя будет придраться, потому что ни законченного негодяя, ни сумасшедшего, ни преступника, вообще никого, стоящего вне советского общества — в данном случае это, так сказать, герой плутовского романа, — нельзя обвинить ни в том, что он плохой коммунист, ни в том, что он коммунист недостаточно хороший. Под этим прикрытием, которое им обеспечивало полную независимость, Ильф и Петров, Зощенко и Олеша смогли опубликовать ряд первоклассных произведений, поскольку политической трактовке такие герои, сюжеты и темы не поддавались. До начала тридцатых годов это сходило с рук. У поэтов была своя система. Они думали, что если не выходить за садовую ограду, то есть из области чистой поэзии, лирических подражаний или, скажем, цыганских песен, как у Ильи Сельвинского, то можно уцелеть. Заболоцкий нашел третий путь — будто его лирический герой полный идиот, который в полусне что-то мурлычет себе под нос, коверкает слова, забавляется с ними как сумасшедший. Все это были люди невероятно одаренные, но режим добрался в конце концов и до них, и все один за другим исчезали по безымянным лагерям.
По моим приблизительным подсчетам, все еще остается три романа, около пятидесяти рассказов и шесть пьес, которые существуют только по-русски. Намечается ли их перевод? Как обстоит дело с «Подвигом», который был написан в самый, как представляется, плодотворный период вашего творчества как «русского писателя»? Не расскажете ли вы нам хоть вкратце об этой книге?
Совсем не вся эта продукция оказалась такой хорошей, как мне казалось тридцать лет назад, но кое-что из нее будет, вероятно, постепенно печататься по-английски. Над переводом «Подвига» сейчас работает мой сын. Герой «Подвига» — эмигрант из России, молодой романтик моего тогдашнего возраста и моего круга, любитель приключений ради приключений, гордо презирающий опасность, штурмующий никому не нужные вершины, который просто ради острых ощущений решает перейти советскую границу и потом вернуться обратно. Вещь эта — о преодолении страха, о триумфе и блаженстве этого подвига.
Насколько я понимаю, «Истинная жизнь Себастьяна Найта» была написана по-английски в 1938 году. Какой это драматический момент — прощание с одним языком и переход к новой жизни в другом! Почему вырешили писать по-английски — в то время вы ведь еще не могли знать наверняка, что спустя два года эмигрируете в Америку? Было ли вами написано что-нибудь по-русски между «Себастьяном Найтом» и отъездом в Америку в 1940 году, а оказавшись там, продолжали ли вы еще писать по-русски?
Да нет, я знал, что в конце концов приземлюсь в Америке. Я перешел на английский, когда после перевода «Отчаяния» этот язык стал мне представляться чем-то вроде подающего смутную надежду запасного игрока. Я все еще ощущаю муки этого перехода — их не облегчили ни лучшие мои русские стихи, которые я написал в Нью-Йорке, ни русский вариант «Других берегов» (1954), ни даже русский перевод Лолиты, над которым я трудился последние два года и который выйдет в 1967году. «Себастьяна Найта» я написал в 1938 году в Париже. У нас была тогда чудная квартирка на рю Сайгон, между площадью Звезды и Булонским лесом. Она состояла из большой симпатичной комнаты, служившей гостиной, спальней и детской, а по обеим ее сторонам располагались маленькая кухонька и просторная солнечная ванная. Для холостяка эта квартира была бы источником наслаждения, но на семью из трех человек она не была рассчитана. Чтобы не тревожить сон моего будущего переводчика, вечерних гостей принимали на кухне. А ванная заменяла мне кабинет — вот вам еще тема двойничества.
Помните вы кого-нибудь из тех «вечерних гостей»?
Я помню Владислава Ходасевича, величайшего поэта своего времени, снимающего свои зубные протезы, чтобы поесть с комфортом, совсем как старинный гранд.
Многие почему-то удивляются, когда узнают, что вы — автор семи пьес, ведь и романы ваши насыщены не присущими этому жанру театральными эффектами. Справедливо ли сказать, что обилие шекспировских аллюзий в ваших вещах — это нечто большее, чем просто дань восхищения, игривого или почтительного? Что вы вообще думаете о драматическом жанре? Какие черты драматургии Шекспира наиболее соответствуют вашим собственным эстетическим принципам?
Языковая ткань Шекспира — высшее, что создано во всей мировой поэзии, и в сравнении с этим его собственно драматургические достижения отступают далеко на второй план. Не в них сила Шекспира, а в его метафоре. Самым же тщеславным моим предприятием в области драматургии был мой сценарий по «Лолите». Я его написал для Кубрика, который, когда делал свой вообще-то превосходный фильм, оставил от него рожки да ножки.
Когда я учился у вас в университете, вы в своих лекциях об «Улиссе» Джойса ни разу не упомянули о гомеровских параллелях, хотя приводили массу специальных сведений по поводу других шедевров, — я вспоминаю, что на лекцию о том же «Улиссе» вы принесли карту Дублина, к «Доктору Джекиллу и мистеру Хайду» — план улиц с отмеченными адресами персонажей, к «Анне Карениной» — чертеж внутреннего устройства вагона в поезде «Москва — Санкт-Петербург». Был еще план комнаты, где лежал на полу Замза из «Превращения», и изображение его самого, сделанное профессиональным энтомологом в вашем лице. Могли бы вы что-нибудь подобное предложить вашим собственным читателям?
Джойс сам очень скоро с великим огорчением осознал, что вся эта тягомотина с общедоступными и, по существу, тривиальными «гомеровскими параллелями» будет только отвлекать читателей от подлинных достоинств книги. Он отказался и от претенциозных заголовков, «объясняющих» книгу тем, кто не станет ее читать. В своих лекциях я старался приводить только факты. На форзаце пересмотренного издания «Память, говори» будет дана карта трех поместий с вьющейся промеж них рекой и виньеткой в виде бабочки Parnassius mnemosyne.
Между прочим, один из моих коллег на днях примчался ко мне в университет и, задыхаясь, стал рассказывать новость, которую он вычитал в каком-то журнале, — что Грегор не таракан. Я ответил, что узнал об этом двенадцать лет назад и в доказательство достал конспект с рисунком, сделанным на вашей лекции. Кстати, что это был за жук, в которого превратился Грегор?
Бочкообразный скарабей, жук-навозник с надкрыльями, но ни сам он, ни его создатель не догадывались, что всякий раз, когда служанка, прибирая комнату, открывала окно, он, вылетев в него, мог бы присоединиться к своим собратьям, весело катающим навозные шарики по проселочным дорогам.
Как движется ваш новый роман «Ткань времени»? Поскольку donnes[41] о ваших последующих романах мелькают иногда в более ранних, можно ли утверждать, что этот ваш новый замысел произрастает из главы четырнадцатой «Под знаком незаконнорожденных»?
В каком-то смысле да; но моя «Ткань времени», наполовину уже написанная, есть только центральная часть гораздо более обширного и увлекательного романа под названием «Ада» — про страстную, безнадежную, преступную закатную любовь, с ласточками, проносящимися за витражными окнами, с этими вот сверкающими осколками…
По поводу donnees: в конце «Бледного огня» Кинбот говорит про поэму Шейда: «Я даже предложил ему хорошее название — название книги, во мне живущей, из которой он должен был вырывать страницы, — «Solus Rex», а вместо этого увидел — «Бледный огонь», название, ничего мне не говорящее…» Под этим названием — «Solus Rex» — «Современные записки» в 1940 году напечатали большой отрывок из вашего «незаконченного» романа. Вошли ли в «Бледный огонь» «вырванные» из него страницы? Какова связь между ним, «Бледным огнем» и другим не переводившимся отрывком из той же вещи — «Ultima Thule», напечатанным в нью-йоркском «Новом журнале» в 1942 году?
Кинбота мой «Solus Rex» меньше бы обескуражил, чем поэма Шейда. Обе страны, Зембла и страна Одинокого Короля, лежат в одном географическом поясе. Те же ягоды, те же бабочки водятся на их приполярных болотах. Кажется, уже с двадцатых годов и поэзию мою, и прозу посещает некое видение печального царства в дальних краях. С собственным моим прошлым оно никак не связано. В отличие от русского Севера, и Зембла, и Ultima Thule — страны гор, и языки, на которых там говорят, подделаны под скандинавские. Если бы какой-нибудь жестокий проказник захватил Кинбота в плен, перенес его с завязанными глазами в Ultima Thule и там где-нибудь на природе отпустил, то Кинбот, вдыхая терпкий воздух и слушая птичьи крики, если бы и понял, что он не в своей родной Зембле, то не сразу, но что он не на берегах Невы, он понял бы довольно скоро.
Это все равно, что при людях спрашивать отца, кого из детей он больше любит, но, может быть, есть все-таки роман, к которому вы особенно привязаны, который вы цените больше всех других?
Привязан — больше всего к «Лолите», ценю — «Приглашение на казнь».
Позвольте мне, сэр, под конец еще раз вернуться к «Бледному огню»: где, скажите, зарыты королевские регалии?{130}
Сэр, в развалинах старых казарм неподалеку от Кобальтаны (см.), — а вы русским не проговоритесь?
Перевод Михаила Мейлаха и Марка Дадяна
Сентябрь 1966
Интервью Герберту Голду и Джорджу Плимптону
{131}Отношения между Гумбертом Гумбертом и Лолитой, на ваш взгляд, являются глубоко аморальными. В Голливуде и Нью-Йорке, однако, очень часто случаются романы между мужчинами сорока лет и девочками лишь немного старше Лолиты. Они женятся, и общество не особо возмущается; скорее это лишь тема для светских сплетен.
Нет, это не на мой взгляд отношения Гумберта Гумберта с Лолитой являются глубоко аморальными: это взгляд самого Гумберта. Ему это важно, а мне безразлично. Меня не волнует общественная мораль в Америке или где бы то ни было. И вообще случаи, когда мужчины, которым за сорок, женятся на совсем молоденьких девушках, к Лолите не имеют никакого отношения. Гумберту нравились «девочки», а не просто «девушки». Нимфетки — это дети, а не будущие кинозвезды или «сексуальные кошечки». Лолите было двенадцать, а не восемнадцать, когда ее встретил Гумберт. Вы, может быть, помните, что, когда ей исполняется четырнадцать, он говорит о ней как о «стареющей любовнице».
Один критик сказал о вас: «Его чувства не похожи на чувства других людей». Есть в этой фразе хоть какой-нибудь смысл? Или она означает, что вы свои чувства знаете лучше, чем другие люди — свои? Или что вы открыли себя на иных уровнях? Или просто, что ваша судьба уникальна?
Я не припоминаю этой статьи, но если какой-нибудь критик делает такое заявление, то это должно означать, что он исследовал чувства в буквальном смысле миллионов людей по меньшей мере в трех странах, прежде чем прийти к подобному заключению. Если это так, то я действительно редкая птица. Если же, наоборот, он ограничился только тем, что протестировал членов своей семьи или своего клуба, то его заявление нельзя рассматривать серьезно.
Другой критик писал, что ваши «миры статичны. Они могут насыщаться навязчивыми идеями, но они не распадаются на части, подобно мирам повседневной реальности». Вы согласны? Есть ли элемент статики в ваших взглядах на мир?
Чьей «реальности»? «Повседневной» где? Позвольте мне заметить, что само выражение «повседневная реальность» совершенно статично, поскольку предполагает положение абсолютно объективное, повсюду известное, которое поддается постоянному наблюдению. Я подозреваю, что вы выдумали этого специалиста по «повседневной реальности». Ни того, ни другого не существует.
Он существует [называет имя]. Еще один критик сказал, что вы «унижаете» ваших героев «до состояния зашифрованных знаков в космическом фарсе». Я не согласен: Гумберт, хотя и комичен, имеет трогательные и яркие черты — черты испорченного художника.
Я сказал бы иначе: Гумберт Гумберт — пустой и жестокий негодяй, которому удается казаться «трогательным». Этот эпитет, в его точном душещипательном смысле, может относиться только к моей бедной девочке. Кроме того, как я могу «унизить» до уровня зашифрованных знаков и т. д. то, что я сам изобрел? Можно «унизить» реальное лицо, но никак не призрак.
Э.М. Форстер{132} говорит, что его главные герои всегда захватывают власть и диктуют ход его романов. Возникала ли у вас такая проблема, или вы всегда полностью контролируете ситуацию?
Мое знакомство с творчеством г-на Форстера ограничивается одним романом, который мне не нравится; и вообще, не он породил на свет это маленькое банальное замечание, что герои отбиваются от рук: оно также старо, как перо для письма; хотя, конечно, можно посочувствовать его персонажам, если они пытаются уклониться от путешествия в Индию или куда там он их посылает. Мои герои — это рабы на галерах.