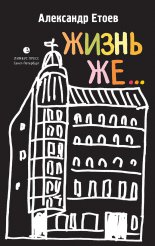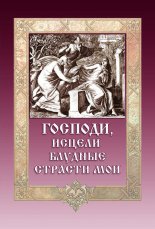Фридл Макарова Елена

Ее фотографии не похожи одна на другую, ее картины не похожи одна на другую – но я узнаю ее везде. Каким образом?
Ее искусство, столь разнообразное по жанрам и технике, дает ли оно представление о «лице художника» или лишь о чертах этого лица? Сама себя она ни к какому течению не причисляла, искусствоведы отвели ей нишу в «Новой вещности». Отчего ж не в «Новой Вечности»?
Результатом каждого последующего шага у Фридл является некое произведение, несущее в себе черты прошлой и будущей работы. Нигде не поставлена точка, все через запятую. По отдельно взятой работе трудно судить о диапазоне ее искусства. Неструктурируемая структура? Саму ее ничто не удовлетворяет, она переписывает картину по десять раз, зная, что в конце концов загубит ее, но отступиться не может, вечером дает себе обещание не притрагиваться, утром хватается за кисть – снова не то! Что делать тому, кто каждый день живет наново, тому, у кого не происходит накопления опыта, тому, для кого обыденность является волшебством? Открытая каждому встречному и замкнутая сама в себе – известная характеристика, я и сама такая, может, потому и брежу Фридл?
За картины, которые теперь оцениваются в огромные суммы, она назначала цену в зависимости от затраченного времени. У нее не было доверия к таланту, как к чему-то данному природой, вроде красивых глаз. Упрямая, глядящая исподлобья, она и после смерти пытается дойти до сути. Желание проникнуть в тайну вещи сводит ее с ума. И меня вместе с ней.
Ученики помнят ее голос. Под звуки ее голоса они рисовали спирали, вжимали уголь в лист, дергали с места, как паровозы, и притормаживали, когда голос стихал. Кажется, в полном объеме она снискала понимание у детей, в Терезине.
Ее жизнь оседает в моей, я научаюсь думать ее мысли, сумбурные – о времени и ясные – о пространстве. Вслушиваюсь в угольные прочерки и цветные мазки, вчитываюсь в письма с отсылками к Кафке, Гегелю, Клее, Кьеркегору, египетскому искусству и рембрандтовской тьме.
Предпослание
Книга всегда пишется сообща,
даже если соавторы не ведают друг о друге и их разделяет промежуток в пятьдесят лет.
Фридл Дикер-Брандейс, Гронов, 1941
3.3.1997. Иерусалим. Компьютер перед окном в цветущий сад. Справа на стене – пастель Фридл, вид сквозь деревья, букет полевых цветов Анны Сладковой, подруги Фридл, – срочно написать в Наход, как она там. Слева – шероховатый лист в форме кочерги, в Израильском музее мы осваивали производство бумаги старинным китайским способом, – на нем желтая звезда на ржавой булавке – подарок брата художника Дольфи Аузенберга, убитого в возрасте 30 лет в Освенциме. Рядом обнаженная на коленях – старческий рисунок Вилли Гроага, директора терезинского детского дома девочек L-410, где жила и работала Фридл, того самого, который после войны вывез из Терезина в Прагу два чемодана детских рисунков. Около обнаженной – плакат с выставки в Яд Вашем; акварельное, едва намеченное лицо ребенка («Фридл без спросу взяла у меня альбом, прошлась по бумаге кисточкой, и все…») обрамлено меленькими фотографиями детских лиц. Слева, на расстоянии протянутой руки, железные стеллажи с книгами от Баухауза до Терезина и толстые темные папки с надписями на корешках: «Баухауз-эксперимент», «Фридл-Баухауз», «Вилли Гроаг», «Дети», «Транспортные списки», «Культурная жизнь», «Неизвестные художники», «Театр», «Швенк-Кабаре», «Лекции», «Дневники», «Детские журналы», «Стихи и проза», «Эдит Крамер», «Виктор Ульман», «Музыка», «Письма», «Цветы любви 42 года», «Эстетика и хаос»…
Зима, 1997. Визен, дом на берегу Швейцарского озера.
Здесь живут Адлеры, Юдит и Флориан, дети твоих подруг – Анни и Маргит. В этом доме я бывала не раз, но теперь, наконец, появилась возможность отснять все твои работы, рассыпанные по музеям и частным коллекциям. Центр Визенталя взял на себя финансирование проекта.
«Придется перенести съемки, – сказала Юдит, – я пыталась вас предупредить, но вы уже вылетели из Израиля. У Флориана флегмона десны». И из-за этого три человека со всей аппаратурой должны отменить поездку, которую было так сложно организовать. У нас все расписано по дням. Швейцария, Австрия, Италия, Чехия.
– Ему назначили операцию.
– Нельзя отменить?
– Отменить?! Какая наглость!
И все же Юдит смилостивилась над нами.
Трехэтажный дом полон твоими картинами, набросками, письмами. Но что самое невероятное, мы обнаружили на чердаке железную коробку, а в ней – маленькие ролики восьмимиллиметровой пленки. Штук пятьдесят. На такой формат снимали в двадцатых годах. А вдруг ты там? «У нас была любительская камера, и мама снимала». Если так, Анни обязательно должна была снять и Фридл! Мы послали выбранный наугад кругляш в Локарно, единственную тогда компанию, которая переводила восьмимиллиметровую пленку в современный формат, с него – на видеокассету. Так вот, именно в этом кругляше и была Фридл! Мы ринулись переводить в читаемый формат все содержимое железной коробки, но Фридл больше нигде не было.
Теперь я знаю, как ты ходишь, как здороваешься за руку, как улыбаешься, как вздрагиваешь от неожиданности. Анни застигла тебя врасплох во время завтрака. Ты подносишь ко рту бутерброд – и видишь направленную на тебя камеру. Растерянная улыбка, огромные испуганные глаза. Это двухсекундное событие мы расстригли на 30 кадров и поместили на стеле в холле дворца Харрах, где происходила твоя первая персональная выставка. Верхний кадр с испуганным лицом, а нижний – с растерянной улыбкой. А за руку ты здороваешься с искусствоведом Гансом Хильдебрандтом, судя по всему, в начале 1928 года в Вене.
Перед тем как Юдит повезла Флориана в Цюрих на операцию, мы сфотографировали их для каталога. Флориан – в кресле, Юдит – на подлокотнике.
Теперь это фото висит в кабинете Флориана. Он умер во время операции флегмоны.
Генуя. Хильда Анжелини-Котны встречает меня на вокзале.
Мадонна! Беллиссимо!
Нам нужен переводчик, я не знаю ни немецкого, ни итальянского, она же, в коммунистическую свою бытность, учила русский, разумеется, чтобы читать Ленина в подлиннике, но теперь от русского и ошметков не осталось. Даже «здравствуйте» забыла.
Я приехала фотографировать материал для книги и выставки.
Мадонна!
Хильдина большая голова, обструганная основательным немецким куклоделом, крутится во все стороны. Шарниры, привинчивающие руки и ноги к туловищу, уже изрядно разболтались, и Хильда ходит так, словно бы толкает перед собой тяжело нагруженную телегу.
Видела бы Фридл свою подругу!
Я загружаю вещи в старую железяку. Такой машине место в музее, но не на улицах Генуи, в устьях подземных тоннелей и разливах шоссе, – столько мигания и мерцания в темноте, не отличить свет фар от светофоров, – но Хильда несется вперед, под крики и ругань водителей.
Мадонна!
Мы познакомились с Хильдой в 1989 году в Праге. Потом она была у нас в Москве, в городе своей мечты. Она так и не рассталась с верой в социализм. Просто в России не умеют работать. Вот вы жалуетесь, что у вас плохо с продуктами, – а перед окнами поле – почему не заведете корову?!
В квартире над дверью выложено мозаикой имя «Анжелини». На стене – картины Фридл: Дон Кихот и Ленин, Фукс изучает испанский, евангелическое кладбище, портрет Марии, белые хризантемы; на книжной полке, в нише, фотография Фридл, сделанная в 1936 году Хансом Бекманом. Хильда живет в мире Фридл, спит с ее письмами под подушкой.
Аморе миа! Любовь моя!
Наконец-то она улыбается. Доехали. И уже смеется-заливается, видимо, вспоминая задним числом нашу аферу.
– Мадонна! – всплескивает она большими руками и показывает, как мы ехали – тормоз, я падаю назад, трогаемся с места, вперед, о, диа! Диа – по-английски «дорогая», это она знает.
Разумеется, она купила все для спагетти, десять сортов каких-то сыров, томато, пармиджано… Кухня малюсенькая, высокие стулья, как в баре, от плиты до стола рукой подать. Я тру сыр, мне выдана терка, она режет помидоры и поглядывает за кастрюлей.
Фридл, аморе миа… любовь моя… Бедная девочка… Повера рагацца… Фридл, ля Виенна, дас увертюре… Вундершен, аусштелюнг вирд беллиссимо… Выставка будет прекраснейшей… Цитравелли, цитравелли, тринк трак тро…
Спагетти, совершив последний кувырок над дуршлагом, ныряют в кипяток. Уно моменто! Хильда вонзает в бутылочное горло штопор, похожий на шило, вынимает пробку и разливает по фужерам красное вино – уне, дуе, трио – брависсимо, Фридл!
Зима, 1997. Водняны, у Чешских Будеевиц.
Мария Витовцова объяснила по телефону, как до нее добраться, сказала, что поставит в духовку курицу, к семи будет готово. Город в зимней тьме напоминал темные ящики, расставленные один за другим по вертикально-горизонтальному плану, лишь некоторые освещались изнутри слабым светом. Названий улиц не видно, спросить некого, позвонить неоткуда. Но город тот. И это утешает. Пятиэтажки и девятиэтажки не пускают к себе чужаков, чтобы попасть в дом, надо знать код.
Я решила вернуться на шоссе. Оно освещено, там могут быть люди. Но мне-то нужны не люди, а один-единственный человек…
«Один-единственный человек» поджидал меня у остановки.
Мария Витовцова, с песиком. Про песика она предупредила по телефону. Что есть такой, смирный, ласковый, не кусается. Она знает, когда приходит автобус из Чешских Будеевиц. Да замешкалась с курицей и подошла поздно.
Скользко, Мария видит плохо, я взяла ее под руку: далеко идти?
Да вот дом! У нас далеко идти некуда!
Дома тепло, я получила теплые тапочки, беззвучные. Одна беда – курица остыла. Но ее можно подогреть. Значит, не беда.
И зачем же пожаловала я из Израиля в воднянскую темень? В февральскую поземку…
Объяснила. Из-за ее младшей сестренки Сони.
Мария принесла альбом. Вот тут Соня и вся наша семья. Но сначала курицу. Положила только мне.
Она курицу не ест. Видеть ее не может. После войны работала на конвейере, пять лет кур потрошила. В четыре утра вставала на поезд, с поезда на фабрику… Кровь да потроха. После всего, что случилось… А вы кушайте! С дороги надо покушать.
Муж умер пять лет тому назад. Собирал открытки с видами городов. Переписывался со всем миром. Два чемодана осталось, не знаю, куда их. Выбросить жаль. Он над каждой открыткой дрожал. Коллекция! На последние гроши покупал марки и открытки, рассылал по разным адресам и ждал ответа от получателей. Чтобы штемпель стоял заграничный, сердился, когда печать закрывала марку… Может, вам в Израиль отдать? В надежные руки.
Альбом рядом. Но надо покончить с курицей.
Сонины рисунки в музее висят, их на открытках печатают, она девочка была хорошая, правда. Красивая… Да и родители у нас вон какие были… Молодые совсем! Я им в матери гожусь…
Мария подперла рукой подбородок, точно как на фотографии с Соней, теперь видно, что и она не очень-то изменилась с тех пор. Те же глаза, беззащитно близорукие, на фотографии она без очков, для красоты.
Спросить ее сейчас про транспорт 6 октября? Или утром?
Но и утром не знала, как подступиться. Она – из тех нескольких, кто ехал с Фридл в одном поезде и выжил.
Мария провожала меня до остановки. По дороге я спросила ее про транспорт 6 октября. Она пообещала написать все, что помнит. Говорить трудно. Значит, правильно, что вечером не спросила. Она хоть душу отвела, рассказывая про свою жизнь, не все же с песиком беседовать!
Письмо от Марии ждало меня в Иерусалиме. Она написала его сразу, как только вернулась домой.
«…Вечером 5 октября нас погрузили в поезд, не в скотовоз, а в очень хороший. Правда, из-за вещей в вагоне было тесно. Нас было 1550 человек, в основном женщины и дети. Еще матери с младенцами, которые родились в Терезине. Это мы сочли добрым знаком – не станут же немцы убивать грудных детей! Мы верили, что едем в новый лагерь, к отцу. Беспокоились только за вещи. На всякий случай мы надели на себя все, что только можно, и очень страдали от жары, тем более что погода стояла теплая. На терезинском перроне нам велели снять с шеи номера. Какая радость – значит, мы больше не числа. Рано утром 6-го поезд тронулся в путь. Каждому на дорогу дали батон хлеба и что-то вроде колбасы. Мы думали, что вечером уже будем на месте. Где это место, никто не знал, и все постоянно об этом говорили. Иногда мы ненадолго засыпали и тут же просыпались в испуге, все было как-то странно. Когда поезд останавливался, мы наполняли водой бутылки или кружки. Пробираться в уборную через тюки и чемоданы было настоящей мукой.
А поезд все шел, сначала в направлении Дрездена, затем дальше. Ночью поезд остановился в каком-то городке. Мы слышали звук разрывающихся снарядов, видели полыхание огня. Прежде мы никогда не видели бомбардировки. Если бы в наш поезд попали, о раненых никто бы не позаботился. В конце концов мы с Соней уснули, а поезд все ехал… Польша. Куда мы едем? Явно не туда, куда отправили мужчин. Может, они в лагере у Дрездена?
Сообщение, которое принес кто-то из уборной, было для всех страшным ударом. Там, на стене, за грудой вещей, было накарябано “Освенцим”. Все бросились утешать друг друга; многие, в том числе и я, про Освенцим никогда не слышали. Мама начала сомневаться в том, что в Освенциме мы встретимся с папой.
На чешской и немецкой территории нам давали пить, а в Польше – нет, якобы вода отравлена тифом.
Было воскресенье, 8 октября. Транспорт прибыл в Освенцим в полдень. На перроне стояли вооруженные эсэсовцы с собаками. Мы и вздохнуть не успели, как налетели заключенные в полосатой одежде, стали отпирать двери вагонов и орать: “Вон, быстро вон! Оставить вещи на месте, они пронумерованы, все получите потом!” С испугу мы с Соней выронили рюкзаки, а мама – сумочку, и так мы вышли… Мы были в первом вагоне. Не прошло, как мне казалось, и десяти минут, как мы очутились перед группой эсэсовцев, на селекции. Менгеле показал на меня и еще на одну девушку – направо. Я остановилась, мама стала просить его, чтобы он отпустил меня с ними. Но он закричал на нее: «Вон!» Я обернулась и увидела их в последний раз. Сонечка плакала, я слышала ее плач, когда они уходили. Там, между рядами колючей проволоки, шла дорога…»
Лето, 1998. Грундлзее. У Эдит Крамер.
Неподвижное озеро стиснуто горами. Луна еще за хребтом, ее свет обрисовывает контуры темных зубчатых гор. Эдит на каноэ, работает веслом, взбалтывает тяжелую черную воду. Мы плывем, а вернее, скользим по озерной глади концетысячелетней ночи. И вдруг резкий свет – луна обрушивается на острия вершин, выбрасывает на воду белый ковер; мы берем курс на млечный путь.
Вернувшись из дальнего путешествия, мы растапливаем изразцовую печь, вешаем мокрые вещи на спинку стула и отправляемся в погреб за шнапсом.
– Не думай, она вовсе не была ангелом. Вот я тебе расскажу. Как-то раз она разозлилась на мое пальто. «Что это за балахон!» Я сказала: его мне сшила мама. А она: «Выкинь! Это не твой покрой». Пальто и впрямь было уродским, мама шила его в глубокой депрессии, накануне самоубийства. Вместо того чтобы сгладить неловкость, Фридл рассердилась и чуть было не выгнала меня с урока. Иногда она бывала невыносимой… В Терезине она изменилась. Почему? Да потому что там происходила настоящая драма. На драматизацию жизни не оставалось ни энергии, ни времени…
Фридл дружила с мамой… Часто приходила к нам, менялась с ней платьями. На маме все сидело, она была первоклассной портнихой и модницей. Мамины платья Фридл были не по фигуре, и она так по-детски огорчалась, глядя на себя в зеркало. На самом деле она была вполне хорошенькой…
What a great life! – радуется Эдит. Щеки у нее пылают. Странно, молодая ее душа обитает в изношенном теле, а полудохлые души расхаживают вокруг, прикрытые гладкой кожей.
Осень, 1998. Иерусалим.
Мы опять переехали. Из окна виден Израильский музей, белые кубы, начиненные многоцветным искусством. Я уволилась из музея, чтобы полностью принадлежать тебе, чтобы написать достойную книгу, которая должна стать опорой и подмогой для будущих исследователей. Никакой лирики, ничего личного. Выдержанно, аргументированно. Но не скучно. Таков заказ крупного американского издательства.
Жара. Мозги плавятся, тело липнет к стулу. Материалов – на целые тома. То одно вспомнишь, то другое, вот, например, история про Ждарки, куда ее?
Лето, 1998. Деревня Ждарки. Хутор Зада на вершине горы.
Я еле поспеваю за восьмидесятилетней Зденкой Турковой. В ней цыганская кровь – черные глаза сверкают в темных окоемах, смуглая кожа стянула старые кости, щеки ввалились. А у тебя на картине – Зденка литая, за щеку не ущипнешь, а глаза, как и нынче, жаркие угли. Глаза не стареют…
Добрались до верху.
Твои деревья на месте. Стоят как стояли. Сквозь три раскоряки просвечивает та же картина, что висит у меня на стене, – долина, за ней, вдалеке, холмы с игрушечными домишками на склонах. Старый Книтл, похожий на рогатину, обутую в сапоги, гоняет хворостиной ленивых индюков. В твою бытность у них были козы, и вы с Павлом снимали у них хлев, в низине под горкой. Теперь на месте хлева сын Книтла поставил добротный кирпичный дом, убежище от ветров, которые гуляют здесь, на вершине, свистят и гудят всегда, даже в вёдро, как сейчас, – в стойкой неподвижной жаре колышутся ветки, волнами ходит трава и звенят провода.
– Вон там они жили, в низинке, – однажды иду к ним, а из их окна черный дым валит, – рассказывает Зденка. – Это Фридл кнедлики хотела сделать… Кто же тесто жарит! А я не жарила… Как тогда оно на сковороду попало? Ох уж она смеялась! Не скажу, чтобы она была рассеянная, нет, но хозяйство ее донимало, да еще эти приступы со зрением… К Рождеству она моим дочкам связала носки, крючком, с инициалами, а в носки насыпала конфет. Красивые носочки, по сей день целы-невредимы…
В доме уютно, топится печь под иконой святой Варвары, по обе стороны две твои картины – вид сквозь деревья и хлев в зеленых зарослях.
– Нравится? Приезжайте на лето. Им у нас тоже нравилось.
Зденка кивает. И у нее в Находе квартира и участок, места хватит. И мы чаще будем собираться… С господином Книтлом, поди, лет двадцать не виделись…
Книтл распахивает дверь, ветер врывается в дом.
– Я уж с вами не пойду, – говорит Зденка, – сил надо подкопить на обратную дорогу.
Мы с Книтлом идем проведывать индюков – глупая птица, за ней глаз да глаз нужен.
– Вот тут они и жили… Переоборудовали хлев в квартирку. Моя жена кашеварила на фабрике Шпиглеров, оттуда носила еду, и мы делились с Брандейсовыми. Потом Шпиглеры сбежали, работы не стало. Павел выучился на плотника. Мне помогал – косил, столярничал… С непривычки то косой порежется, то с лестницы свалится… А пани все рисовала. Тихая была такая. Правда, с нами особо и не поговоришь – мы с женой два слова знали по-немецки, а она столько же – по-чешски. Еще у них была собачка, не помню, как звали, вот она и ходила с собачкой по горам, с этюдником… А потом, помню, вышел указ, что евреям нельзя держать собак… Они как раз возвращались в Гронов. Я говорю пани: оставьте ее здесь. Нет, прижала к себе песика, и так они и пошли вниз, с горы, Павел, нагруженный как вол, а пани его – с папкой и песиком на руках. Другой раз без собачки приехали. Оказывается, пришлось все же им ее отдать. Подруга забрала, что ездила к ним из Германии. Немка. Но летом им здесь было хорошо.
К нам сюда дачники не ездят. Мы бы за гроши старый дом сдали, да место такое – всем ветрам нараспашку. Коли надумаете приехать – отдадим дом задарма. Как члену семьи.
Книтл уважает меня. Приехала, нашла дорогу из далекой заграницы, да еще и по-чешски понимает. Мы пропустили по рюмочке и взялись его альбом с фотографиями рассматривать. Вдруг там Фридл?
Это кто?
Это мы с женой в первую супружескую ночь.
Кто же вас снимал?!
Сам. Поставил аппарат – и нырк в постель.
Все тут есть: и виды, и родственники, и кони, и козы… Неужели, кроме двух картин, ничего не осталось?
Остаться-то осталось… Да мы с женой все после них сожгли. Время было такое.
Что же вы сожгли?
Бумаги. Кто знает, что в них было. По-немецки не читаем. Письма, тряпки, тетрадки…
Осень, 1998. Лос-Анджелес.
Гостиничное окно на шестнадцатом этаже. Между широкими магистралями, на островках суши, высятся небоскребы. После встречи с издателями хочется выпрыгнуть из окна. Но оно опломбировано.
Книгу, которую я про тебя написала, отвергло издательство. «Ты не Набоков, твоя литература никому не нужна. Разбери все на составные и выстрой по хронологии. Издадим элегантный кофе-тейбл каталог: хорошая печать, много работ, отрывки из писем, воспоминания очевидцев».
А если составные не сложились, а сплавились?
Забыть про рукопись, уже переведенную на английский и отданную на рецензию Эдит Крамер, ученице Фридл, известной художнице и искусствотерапевту. Ее восторженный отзыв осчастливил бы любого автора. Расторгнуть контракт с престижным издательством? На это не пойдет продюсерша. Хуже того, новый вариант должен быть готов через три месяца и отдан на перевод, теперь уже на немецкий, – открытие выставки состоится в Вене.
Что б такое сотворить? Съесть яблоко. Обычно я ем яблоки целиком, вместе с сердцевиной. А тут решила его разрезать и промахнулась, угодила острием японского ножа в артерию. Кровь забила фонтаном, забрызгала лифт и дорогу к стойке с дежурной, я просила у нее йод и бинт, а она вызвала «скорую помощь», из которой выбежали три космонавта с локаторами и рацией, погрузили меня на носилки, включили сирену. В приемном покое шоколадная негритянка сжала двумя пальцами то место на ладони, откуда била кровь, наложила тугую повязку и велела до вечера держать руку вертикально. Можно было это сделать в гостинице. Нет, космонавты не лечат, они перевозят и дают кислород, если нужно. Мне было не нужно. Когда негритянка заматывала мою ладонь, я заметила, что у меня грязные обкусанные ногти. Как раз неподалеку оказалась китайская маникюрная. Я зашла туда, мне дали прейскурант, очень длинный, и я ткнула пальцем в «нейлз», т.е. ногти. Села за пустой столик. Тотчас появилась маленькая китаянка с подносом, на котором стояла миска с горячей водой и какие-то причиндалы. Она нежно взяла меня за руку и погрузила ладонь в мыльную воду. Я расслабилась, можно даже сказать, забылась, и вдруг вижу – мне приклеивают ногти! Я этого не просила! Пытаюсь вырвать руку, но китаянка не отпускает. Я говорю ноу, она качает головой и приделывает третий ноготь. Тут я взорвалась. Вскочила, побежала к кассе с растопыренными пальцами, но мне указали на графу в прейскуранте, мол, сама выбрала.
Привели начальницу, та ткнула пальцем в графу «нейлз». Кат ит! Отрежьте! – взмолилась я. Широко расставленные, как у попугаев, глаза превратились в пуговички – отрезать? Нет, сначала нужно все ногти приклеить, поносить так пару дней, привыкнуть… Я представила себе встречу с директором издательства, как я вхожу в кабинет с забинтованной рукой и такими вот ногтями, – и меня разобрал такой смех, что начальница бросилась к телефону. Вызывать трех космонавтов для усмирения? Что делать? Уйти с тремя приклеенными ногтями, но как я их отстригу завязанной рукой? Все же мир не без добрых людей. Китаянка, сидящая за столиком на противоположной стороне, подозвала меня к себе. Постепенно ситуация прояснялась – в этой маникюрной с правой стороны наращивали ногти, а с левой срезали. Я попала на неверную сторону. Не сориентировалась. Чтобы в мире царил порядок, нужно поддерживать порядок в каждом его уголке, в любой конторе, в любой маникюрной, в любом общественном туалете, нарушение порядка приводит к непредсказуемым последствиям. За этим учрежденным в верхах порядком следит чиновничий аппарат. Среднее звено. Открыть вентиль, закрыть вентиль. Нижнее устраняет последствия: вынести трупы, сжечь трупы…
Новый, 2000 год. Иерусалим.
Мы привыкаем к войне. Осенью я рассказывала тебе о ней чуть ли не в каждом параграфе. Теперь она стала общим множителем в уравнении повседневности.
Когда мы сюда приехали, в 1990 году, под нашими окнами арабы пасли овец, арабки торговали виноградом и инжиром, а по субботам бедуины приводили сюда верблюдов и за пару шекелей катали местную детвору. По утрам мы гуляли с детьми по склонам гор, амфитеатрам виноградников, а вечерами я приходила сюда одна. Я сидела на высоком камне и смотрела в ультрамариновую ночь, сверкающую желтоватыми огнями. Бейт-Лехем – сгусток света в ночи, и свет его белый, а Бейт-Джалла желтая… Ромашка на фоне густой синевы. Однажды на Рождество мы въехали в Бейт-Лехем на машине. Ты, способная оседлать дюреровских коней и мчаться на них вдоль обрыва, можешь себе представить, что испытала я, попав в картину вселенской ночи и вифлеемской звезды.
Теперь Бейт-Лехем и Бейт-Джалла отгорожены от нас бетонной стеной. Стреляют из святых мест, оттуда, где началось новое летоисчисление.
Первый год нового тысячелетия мы встречаем у друзей в Гило.
– Стреляют, – говорит хозяйка дома.
– Нет, это салют.
– Да нет же, стреляют!
Мы уже не можем отличить стрельбу от салюта.
– Разбирайте пирожки, накладывайте салатики… Подставляйте бокалы!
Стреляют.
Ура! Мы в новом тысячелетии!
Весна, 2000. Чешский Крумлов.
Реальность не дает себя осознать. Как с этим справляются писатели? Ведь когда они пишут одно, в их жизни разыгрывается что-то совсем другое. Художникам проще. Канонада им не мешает. Шиле в военном мундире рисует Чешский Крумлов. Крыши домов, склонившиеся над узкой улицей, разноцветное белье на балконах…
Теперь здесь его музей. Неподалеку плотина, вода шумит днем и ночью.
24 контейнера с картинами, рисунками, мебелью, тканями, чертежами, рисунками терезинских детей и еще много чем благополучно добрались из Граца в музей Эгона Шиле. Огромный средневековый монастырь отнюдь не оснащен по последнему слову техники. Все надо таскать на себе, с цокольного этажа на первый. Ни грузовых лифтов, как в Граце, ни аккуратных рабочих. Нам дали группу «работящих цыган». Гордость города – трудятся на славу и не крадут. Действительно симпатичные. Но когда помощник чуть не вколотил гвоздь в тобою сделанную раму, а симпатичная уборщица выбросила в мусорный ящик мои туфли вместе с серебряной фольгой, которой мы покрывали стену, дабы создать матовый баухаузовский тон, – мы решили все делать сами.
Лето, красота, завтрак на берегу реки, столы с зонтиками, туристы, местные отдыхающие… Хочешь кофе?
На открытие выставки прибыл автобус с выжившими, среди них было несколько твоих учениц-старушек и сестра Сони Шпицевой, ее рисунки ты наверняка помнишь.
Всех пассажиров автобуса я знаю в лицо, всех, и не раз, навещала. А вот эту женщину в ярко-розовом костюме я никогда не видела. Она сидит на лавочке посреди зала, толстые ноги перебинтованы эластичным бинтом, отекшие руки сжимают набалдашник палки. Подняться она не может, но обнять меня должна. Госпожу Казимурову привез в Чешский Крумлов сын. Из Праги. Чтобы познакомиться со мной и попрощаться с жизнью. И с Фридл. «Я была красивой, и Фридл меня рисовала. Она называла меня принцессой. Думала: может, на выставке себя найду… Посадили меня здесь, и ни с места, так и буду сидеть, пока сын не вернется».
Я помогла ей подняться, и мы вышли из здания музея в сад. Маленькое кафе, цыгане в честь Фридл играют на скрипках. Она смотрит на нас с плаката, свежая, молодая, рядом с ней запыленный Эгон Шиле. Он давно здесь висит и нервничает – устал на всех глазеть, а Фридл довольна. Она еще не привыкла к славе.
Госпожа Казимурова запивает слезы минералкой, трет глаза розовым вышитым платочком, все у нее розовое, лишь седина голубоватая.
«Ее невозможно было не любить, ее нельзя было убивать! Необыкновенная это была душа, всепонимающая. Я познакомилась с ней в Гронове, евреям было запрещено ездить, и Эльза, сестра Лауры, попросила меня поехать в Гронов и передать что-то, что нельзя написать в письме. Лаура и привела меня в дом к Фридл. Я была потрясена самим видом ее квартиры, тем уютом, который, кажется, невозможно создать в таком помещении. Это был иной мир. Фридл была милой и очень непосредственной, открыта любому.
Между нами была большая разница в возрасте. Мне было двадцать, ей сорок. Муж ее был спокойным, дружелюбным, но не чета ей. Это между нами. Я привезла с собой булочки с маком, мама напекла в дорогу, и талоны на продукты, у евреев были ограничения на все. В первый раз я ночевала у Лауры. Но потом останавливалась только у Брандейсовых. Никогда и нигде мне не было так хорошо, как подле Фридл. В ней был шарм, все были ею очарованы. Я обожала ее картины, но об этом я еще скажу, только напомните… Я с ней делилась своими личными проблемами, она с огромным сочувствием меня выслушивала, иногда давала советы… В восемнадцать лет я влюбилась в еврея, двоюродного брата Лауры и Эльзы Шимковых. Это была моя первая любовь. Мои родители никогда бы не дали разрешение на брак. Я по нему так тосковала… В 39-м году он уехал в Словакию, я к нему туда иногда вырывалась, ну и забеременела… И тут случилось несчастье. Летом 42-го его убили нацисты, я тогда была на сносях, и из всех этих страданий вышло еще одно, ребенок умер при родах. Как Фридл любила мамины булочки с маком…
При нашем последнем горестном свидании она отдала мне двадцать своих картин. Две из них попросила подарить Аничке Млеинковой, на выбор. Мне она подарила натюрморт с бидоном. Остальные картины велела раздать, кому хочу. Пастель “Вид из окна на гроновский вокзал” я подарила доктору Яну Крейчи, он теперь живет в Торонто.
В 1945 году вернулись Лаура, Эльза и Павел. Ему я отдала все оставшиеся картины, включая два наброска обнаженной, которые Фридл с меня нарисовала. Не знаю, куда делись остальные, но эти я отдала Павлу.
У Лауры были прекрасные цветы Фридл, у Эльзы – портрет Лауры, сейчас он у меня. Лаура умерла в 1959 году от злокачественной опухоли. Эльза умерла лет пятнадцать тому назад от инфаркта. Она не оставила после себя никакого завещания, так что ключи от ее дома, которые мне отдали в больнице, я передала нотариусу. От всего этого я и сама слегла. Портрет Лауры мне прислал нотариус, думая, что я родственница Шимковых. Я храню его как память о Фридл».
Вернулся с прогулки сын пани Казимуровой, водрузил ее на переднее сиденье и увез. В кафе на столе я нашла ее мокрый от слез платочек.
Осень, 2000. Иерусалим.
Мы переехали в третью по счету квартиру. Из моего окна мало что видно, оно слишком высокое. Справа от меня тот же стеллаж с папками, разве что число их разрослось в геометрической прогрессии, им не хватает места. Да и мне здесь тесно и неуютно. То и дело слышна стрельба, и это не одиночные выстрелы, а минометы. Израильская армия ввела на территории танки. Она держит под прицелом Рамаллу, Газу и Хеврон. Театр военных действий.
Моя приятельница, арабская журналистка, живет в Бейт-Джалле, откуда палят из минометов. У нее полный дом детей, а мужа нет. Ей страшно. Она звонит мне, поболтать, но я еле ее слышу.
Давай напишем что-нибудь. Как женщины, против войны. Мы с тобой не враги, правильно? Мы лично друг другу плохого не хотим, правильно?
Правильно.
Осень, 2000. Париж.
Здесь ты была дважды: с композитором Стефаном Вольпе в 1921-м и с мужем Павлом в 1937-м. Возможно, ты проходила по старинной парижской улице Белых Манто, мимо высокого серого дома, где нам сняли апартаменты на время подготовки выставки. Это в десяти минутах ходьбы до музея. Перед центром Помпиду нужно свернуть направо… Но зачем тебе проделывать этот путь? Мы сами к тебе ходим.
Дизайнер Георг Шром становится все более похож на твоего возлюбленного Франца Зингера. Лысеет, курит без передышки. Носит точно такой же плащ. Я купила себе в Париже шляпу, как на твоей фотографии. Спросонья Георг начистил коричневые ботинки черным гуталином. Как бы между нами не вспыхнул роман! Нет, жизнь не терпит прямых повторений. И ты не я, и Георг не Франц, скорее, мы касательные к окружности, которую очертила твоя судьба в этом мире.
Мы завтракаем на кухне у стойки бара. Некогда рассиживаться. До прихода техника-осветителя надо успеть допечатать недостающие подписи для витрин и закрыть их. И начнется самое интересное – превращение выставки в театр. Действом заправляет Георг, моя же роль – замерять уровень освещенности: твоей графике предписано 40 люксов, детским рисункам – 30.
Окна музея глядят во внутренний двор, мощенный булыжником. Молодой смотритель-алжирец говорит, указывая на «Двойной портрет»: «Художница смешила их, пока рисовала, вот они и подперли рты руками. Чтобы не расхохотаться».
Лампа Франца Зингера, висевшая в прихожей ателье Георга Шрома, складная кровать с фридловской обивкой и стулья, спроектированные Зингером, шкафчик, поворачивающий свои полки на четыре стороны света, гобелены, сотканные Фридл, стали экспонатами. Кошка, нарисованная ею и привыкшая жить в ателье у Шрома, не находила себе места на выставке. Мы отнесли ее в раздел графики тридцатых годов, но она и туда не вписалась. В день перед открытием она наконец успокоилась в углу у шкафчика.
– Фридл выкинула ее в помойное ведро, – рассказывает Георг французским журналистам. – Анна Сабо, архитектор ателье «Зингер-Дикер», достала рисунок из ведра и увезла с собой в Будапешт. Оттуда – в Лондон. В конце концов эта чудесная кошка досталась мне!
– Какова роль Фридл Дикер-Брандейс в проектах ателье?
Вопросы к Георгу. Он отвечает за архитектуру и дизайн.
– Фридл – мультиталант. Ее живое присутствие видно во всем, к чему бы она ни прикасалась.
Расплывчатый ответ.
– Как сохранился архив ателье?
– Он достался мне от тети – архитектора Польди Шром, которая работала с Францем и Фридл с 1929 по 1938 год. После аншлюса тетя больше не могла оставаться в ателье. Все, что там находилось, плюс вещи из ателье Франца Зингера на Шадегассе она спрятала в комнате для проявки фотографий. Во время войны в ателье жила семья нацистского полковника. К счастью, запертая комната их не заинтересовала. В 45-м Польди вернулась и нашла все в сохранности.
Ты обрастаешь историями. Не снятся ли тебе контейнеры по перевозке со специально установленным для произведений искусства режимом температуры, инженеры по свету, рабочие, смотрители, публика… В снах, если они тебе снятся, ты выходишь из лагеря, и никто за тобой не гонится, ты делаешь несколько шагов и оказываешься с какими-то незнакомыми тебе людьми на улице Белых Манто. Женщина в шляпе и лысеющий мужчина в начищенных гуталином ботинках подхватывают тебя под руки и ведут на выставку, и там ты видишь себя, глядящую сквозь занавеску на тобой же созданный мир…
В американском посольстве в твою честь дали прием с арбузами, семгой, ананасами и чем только не, и, чтобы люди нашли дорогу к столу яств, на лестнице установили указатель «Фридл Дикер-Брандейс ресепшн».
А вот тебе гастрономический привет из еврейского музея:
«Фридл Дикер Брандейс (1898–1944)
Меню – с 14 ноября по 5 марта 2001 года.
Блюда из колбасных изделий с корнишонами – 39 фр.
Блюда из копченого лосося – 39 фр.
Селедочный паштет с гарниром из картофеля – 39 фр.
Блюдо из сырых овощей и фруктов – 35 фр.
Штрудель (яблочный, маковый, ореховый) – 25 фр.
Стакан водки – 25 фр.
Напитки – 15 фр.
Кофе, чай с мятой – 12 фр.»
Зима, 2001. Иерусалим.
По Бейт-Джалле открыли огонь. Жителям Гило велели выключить свет. В Бейт-Джалле тоже. Теперь евреи и арабы проклинают друг друга в потемках. Арабская журналистка больше мне не звонит. Ее телефон тоже не отвечает.
…ты там сидишь одна и старательно и упорно работаешь… жаль, что я не могу завести граммофон и поставить для тебя прекрасную увертюру Леонора или просто тебя приласкать…
Танки у христианских святынь, танки у иудейских святынь, танки у мусульманских святынь… Отказавшись от визы, ты сослалась на Декарта: «Убегая, вы уносите страх с собой». Тогда скажи, как избавиться от страха, не убегая?
Не всегда нужно действовать, зачастую достаточно понимать.
Страх возникает там, где теряется ощущение правильного направления. (Сказать по правде, чтобы написать эти строки, мне понадобилось гораздо больше мужества, чем для всего сделанного ранее.)
Весна–лето, 2001. Швеция, Германия.
Введена новая единица скорости. Вместо отношения расстояния к времени – отношение занятости к времени. При сумасшедшей спешке время развивает скорости, непомерные для сознания. Из памяти улетучиваются слова. Их место немедленно занимают другие, за улетевшим словом не угнаться, оно уже крепко засело в чьей-то чужой голове, а в чьей – неизвестно.
После Парижа мы переезжаем в Стокгольм, а оттуда в Берлин. В Берлине ты будешь жить в музее Баухауза. Там тесновато, и, чтобы освободить для тебя место, работы твоих учителей, Иттена, Клее и Шлеммера, уберут в запасник.
В Стокгольме ты не бывала, готовься к приключениям. Будешь жить в историческом музее – среди викингов, деревянных мадонн, средневековых рыцарей и крестоносцев. Недалеко море – большущие корабли на пирсе, мосты, пристани, причалы…
Человек из Стокгольма пожертвовал на твою выставку 45 тысяч долларов. Прислал мне по факсу номер загородного телефона, «на случай, если что-то случится с Фридл». На всякий случай вот даты открытия выставки. Стокгольм – 29 марта 2001 года, Берлин – 15 июля 2001 года.
2001–2002, Иерусалим.
Вид из окна все тот же, то есть, собственно, никакой. Война не прекращается. В сентябре 2000-го я написала, что поскольку Израиль, а точнее Иерусалим, – это мифологический центр вселенной, то и ненависть, вспыхнувшая здесь, станет вселенской. Этот абзац я вымарала, как и прочий бред. Текст потерял ясное направление, он расслоился не только на нас с Фридл, не только на Фридл от первого и третьего лица – в нем началась война. Пишу под музыку минометов, договариваюсь о выставке Фридл в Японии в момент взрыва нью-йоркских близнецов-небоскребов…
Во всем виновата твоя тревога, основания для которой, увы, окружающие обстоятельства, правда также и то, что я отношусь к этому легче, хотя думаю, как вы все…
Ты в концлагере рисовала цветы. Правомерно ли сравнивать состояние после террористических актов с тем, что чувствовали заключенные, проводив очередной транспорт на восток?
Пустота… И в ней затаенная, постыдная радость – не меня! То же и здесь. Остался жив, близкие и друзья живы, ну и ладно.
Весной 2002-го на углу нашей улицы взорвали кафе «Момент». Именно в тот момент я пересекала Французскую площадь, где проходила демонстрация левых за свободу Палестине. Евреи, представители движения «Мир сегодня», держат на вытянутых руках транспаранты, а там, кварталом ниже, валяются останки людей, пришедших пообедать. Наверное, нет такого народа, который каждую неделю взрывается в автобусах, кафе и супермаркетах и при этом ратует за свободу своих врагов.
Сирены «скорой помощи», кафе оцепляет полиция… Не помню, как я оказалась дома. На экране телевизора я увидела последствия. Погибли одиннадцать человек. Я могла бы быть двенадцатой, если бы не засмотрелась на демонстрантов.
Лучше расскажу тебе про фиолетовые анемоны (напоминают альпийские подснежники, так что представляешь, о чем я говорю); они растут вокруг охристых дырчатых камней, а то и прямо из расщелин. Представь себе разлитую в ярко-зеленой траве фиолетовость, желтенькие пятнышки лишайника сверкают на серебристо-серых ребрах каменных глыб, ярко-коричневая земля и зеленая трава усеяны низкорослыми маками (тоже разновидность анемонов). А над всем этим яркоцветьем – корявые оливковые деревья и синее небо. Ботанический сад по соседству с рощей, после пяти туда можно просочиться через лаз в заборе. Чего только не насочиняла природа, воскликнул бы Иттен, увидев зеленые цветы в виде блюдечек, насаженных на невидимый стержень, заморских красоток в ожерельях из мелких белых колокольчиков, вверх чашечками… Помнишь, как он «водил вас в Рай» – ботанический сад, чтобы там изучать образование форм движением?
В данную минуту я абсолютно удалена от всех, и в этом мы схожи с пчелой у оконного стекла, разница лишь в том, что у меня нет выбора, мое сознание усыплено… человек, который не боится, чаще всего поступает правильно: я бы выбрала открытое окно… (вот она нашла его и так красиво улетела)…
Пчелы уснули, да воздух жужжит. Вертолеты кружат над Иерусалимом, охраняют зыбкий ночной покой. Но я и во сне не нахожу себе места.
По версии берлинской ясновидящей, в предыдущем рождении я погибла в Освенциме… Была ли я тобой или твоей ученицей, пока не ясно. Но если в шесть утра я подставлю ладони под кран тыльной стороной и стекающую с них воду соберу в пол-литровую банку, я получу ответ.
Я проспала.
2009, Хайфа.
Мы уехали из Иерусалима. Теперь мое окно смотрит на море. Если встать из-за стола, виден порт, куда мы 20 лет тому назад приплыли с Кипра на большом белом корабле. После всех твоих выставок (Вена, Грац, Чешский Крумлов, Париж, Атланта, Стокгольм, Берлин, Токио, Саппоро плюс еще какие-то четыре японских города, в которых я не была, Лос-Анджелес и Нью-Йорк) кончилась эта война. Потом были еще две войны, Ливанская и в Газе. Сейчас наступило временное затишье. Справа от меня все тот же стеллаж с папками, их прирост в последние годы несколько сократился, зато теперь целую полку занимают книги и каталоги, которые я написала во время временной разлуки с тобой.
Уже нет на свете ни Анны Сладковой, ни Вилли Гроага, ни Хильды Анжелини-Котны, сохранившей для потомства твои картины и письма о жизни и искусстве, а твоим лагерным ученицам уже за восемьдесят.
Одна ты молодеешь. Каждое утро я получаю от тебя, теперь уже совсем юной, послания из Веймара, Берлина и Вены, написанные в поезде, в кафе, в театре…
Теперь я даже рада, что та, первая книга так и не увидела свет. Потому что наконец-то, после двадцати лет ожидания, я получила доступ к письмам, которые ты писала в молодости.
Меня бросило в дрожь, когда я увидела твой почерк. Если хочешь, могу немедленно приехать на 3–4 дня в Мюнхен. Посылаю тебе мой любимый последний рисунок и целую тебя, твои руки и любимое раненое сердце. Отправляю немедленно.
В то самое время, когда пришло твое письмо, я читала житие одного монаха, где речь шла о грехе уныния, который есть плод отчаяния и неверия. Сей монах смог освободиться от этого греха и потому попал в рай. Желаю и тебе того же, моя любимая. Ах, почему у нас с тобой нет бога с именем, чтобы я могла бы напомнить тебе о Нем. Прости, я ревнива и зла и злоупотребляю твоим прощением.
Прежде люди жили во славу Божью, отчего же теперь они потеряли мужество и покой?..
Это – простое письмо. Но есть и такие, над которыми корпят переписчики и переводчики, пытаясь докопаться до смысла. «В этом есть смысл – и это бессмыслица!»
Сегодня, просидев полдня над какой-то пьесой в полстраницы длиной, я взмолилась и позвонила знатоку средневековой персидской литературы. Он знает множество языков, расшифровывает и переводит на русский те твои письма, которые я получила от Юдит Адлер, дочери твоей подруги Анни, после двадцати лет уговоров.
Происходящее в пьесе ученый объяснил мне со свойственной ему предположительностью.
«Действующие лица, по-видимому, носят рифмующиеся имена Рут (Ruth) и Тут (Tut), возможно, даже Руттут и Тутрут: в первой фразе во втором лице упоминается Руттут, потом она же фигурирует в третьем как Рут. Игра слов раскрывается в первой и последней репликах:
“Это ты, то бредущая, то покоящаяся, Руттут?” (“Bist Du es Schweifende Ruhende, Ruthtut?”)
“Рут лежит в твоей основе и действует у меня” (“Ruth liegt bei Dir zu Grunde tut bei mir”).
Здесь обе части имени приобретают значение, причем Рут, мне кажется, подразумевает глагол ruhen – “покоиться, бездействовать”; таким образом, речь идет о противопоставлении женского пассивного (“Рут – ruht”) и мужского активного (“Тут – tut”) начал, причем в каждом из действующих лиц оба начала соединены, но одно преобладает: Руттут – “бредущая, покоящаяся” (но Рут все же на первом месте). В общем, идея счастья как гармонии двух начал, сплошной инь-ян.
Что касается мотива моста, смерти как возвращения к себе, то на память приходит зороастрийский миф о мосте Чинват, соединяющем мир живых с миром мертвых, на том берегу умершего встречает его собственная душа в облике женщины; праведника встречает, ясное дело, красавица, грешника – ведьма (впрочем, там есть одно противоречие: грешник моста пересечь не может и падает в преисподнюю, видимо, ведьма ждет его там, я эти подробности подзабыл). Соблазнительно было бы предположить, что эти мотивы – результат влияния Иттена с его “Маздазнаном”, но я сомневаюсь: во-первых, Фридл, по-видимому, относилась ко всему этому делу с большой иронией, во-вторых, само учение Маздазнана имело крайне мало общего с реальным зороастризмом, хотя отдельные мифологические мотивы ученики Иттена вполне могли усвоить – соответствующие тексты были к тому времени давно изданы».
Я положила трубку и затосковала. Сколько тут пластов, сколько еще читать и изучать, жизни не хватит… При этом пока никто не стреляет, напротив, из-под праздничного шатра на крыше – у нас нынче праздник Кущей – доносятся молитвы.
Не падай духом, когда тебе тяжело, я всегда с тобой; что о тебе знают другие! Я стану для тебя матерью, сестрой и возлюбленной, и прежде всего той, которая не только жалеет, когда тебе плохо, но заботится о тебе и верит в твои способности. Твоя Фридл…