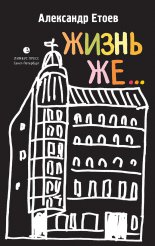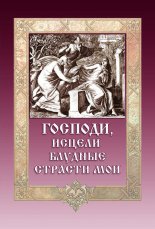Фридл Макарова Елена

Наверное, никто из современных художников не повлиял на меня так, как Клее. Именно он обратил мое внимание на детские рисунки. После занятий я иногда провожала его до дому, мы спускались по тропинке к широкому лугу, пересекали его в направлении летнего домика Гёте, взбирались на холм и оказывались на Роговой улице. Семья Клее занимала первый этаж роскошного особняка, летними вечерами мы собирались у них в саду за большим столом. Его жена была пианисткой, а сын-подросток, подававший и не оправдавший надежды отца художник, занимался у Иттена. Клее читал нам свои «зрительные» стихи. Помню такое:
- Есть две горы, на которых светло и ясно, –
- Гора зверей и гора богов.
- Но между ними лежит сумеречная долина людей.
- Когда кто-нибудь взглянет вверх,
- Его охватывает вещая неутолимая тоска,
- Его, который знает, что он не знает,
- По тем, кто не знает, что они не знают,
- И по тем, кто знает, что они знают.
В те годы среди художников было принято выражаться пространно, воспевать неуловимое. Я тоже этим грешила. И опять же бесконечные разговоры про музыку и искусство.
«Цвета не играют одноголосных партий… скорее они образуют трехголосные аккорды. Искусство не передает только видимое, а делает зримым тайно постигнутое».
Наши Мастера были виртуозами, и каждый по-своему «делал зримым тайно постигнутое». Шлеммер, штутгартский однокашник Иттена, вращал вокруг оси «элементарные формы», и те, обретая объем, срывались с листа в пропасть трехмерности; Кандинский отслеживал траектории движения цветоформ; Франц Марк с помощью призмы расслаивал мир на многогранники; Пауль Клее «переносил» наскальные изображения – архетипы детства и древности – в небесные выси акварели.
Клее, разыгрывающий свои рисунки на скрипке и рисующий картины смычком, мало смыслил в технологии производства. Гропиус вверил ему руководство переплетным цехом; прессовальная машина вышла из строя. Тогда он перевел Клее в мастерскую по росписи стекла, где, кроме самого стекла, ломать было нечего.
Должность – дело временное. Где бы Клее ни преподавал, все сводилось к универсалиям – полифонии цвета, аккордам и партитурам, сложенным из чистых цветов. Сравнение музыкальных тональностей с цветовыми гаммами и оттенков звучания с оттенками цветовой палитры было не столько красивой метафорой, сколько принципом его работы. Клее интересовали тоновые возможности цвета, особенно красного, коричневого и зеленого, и спектр чистых цветов, их способность гармонировать и контрастировать друг с другом – так же как сочетания звуков, они могут создавать гармонию или контраст.
Само по себе рисование – это не труд, а волшебное путешествие по многослойному миру.
…Он глубок, весел, загадочен… Клее устанавливает свои, одному ему понятные взаимосвязи между отдельными частями – будь то земля, небо, название картины или изображенное на ней. Он… математик, имеющий дело не с цифрами, но с величинами и связями между ними.
7. Пробуждение
Руки замешивают гипс в ведре, он быстро схватывается, густеет. Я укутываю глиняную скульптуру в белое одеяло. Разнимаю черновую форму, протираю полости, складываю вместе, затягиваю проволокой так, чтобы на месте швов не осталось ни единого зазора, вливаю из поддона расплавленный воск, получаю оттиск.
Процесс формовки! При взаимодействии с водой у гипса подскакивает температура. И я, как гипс, схватываюсь быстро, к вискам приливает кровь – идет реакция.
В ушах – голос Эмми, в глазах – ее огромный живот, растущий из подвздошья, ниспадающие складки платья… Не пойди я на концерт, может, не испытала бы я такой жгучей ненависти к Эмми и ее будущему ребенку?
Телеграфистка отбила текст: «Фридл Дикер и Франц Зингер приглашаются в качестве художников-постановщиков одноактной пьесы Августа Штрамма “Пробуждение”. Премьера состоится в Берлинском театре 15 марта 1921 года».
Мы провели ночь в дрезденской гостинице и теперь, разморенные и невыспавшиеся, идем на встречу к режиссеру Бертольду Фиртелю. Солнце гонит снег с дороги, топит его в своих лучах. Судьба вновь свела нас. Не об этом ли пьеса?
В ней два пласта, – объясняет нам кряжистый, громогласный Фиртель, – сознание и подсознание. Полагаю, вы знакомы с творчеством Штрамма. Штурмовец, поэт, вояка. Погиб от русской пули осенью 15 года. В чине капитана. Вы, господин Зингер, как мне известно, тоже нюхнули пороху. Пока фройляйн Дикер училась фотографировать да прясть – все про вас вызнал, – вы сражались, получили ранение, были комиссованы. Верно? Было так?
Дом Фиртеля. Большая гостиная, широкая лестница ведет на второй этаж. Там в одной из комнат прячется от вечных визитеров жена Фиртеля, Саломея, знаменитая актриса Салка. Мы сидим в «закутке для куряк», откуда дым не просачивается в верхние комнаты. На столе – машинописные копии пьесы с пометками Фиртеля, поэтические сборнички Штрамма, изданные «Штурмом».
«Из всех углов скрежещет жуть желаний / Жизнь / Гонит / Пред / Собой / Кнутом / Удушливую смерть…»
Голос Фиртеля взвивается, скрипит дверь наверху. В то время как он читает: «Камни кровожадны / Окна горят изменой / Деревья – удавки / Горы чреваты грохотом / Гулкой / Гибели», – Салка, одетая во все красное, неслышно спускается по лестнице и на «гулкой гибели» опускает ладонь на плечо мужа.
Фиртель очень мил, ужасно нервен, если бы он успокоился, это было бы чем-то сверхъестественным. Позавчера у него был литературный вечер; я, к сожалению, болела, а Франц был и вернулся в полном восторге. Салка 3 дня назад сыграла Медею. Она великая актриса, а человек просто невероятный, мягкая, трудолюбивая, блистательная.
Мне рекомендовал вас Шлеммер. Сказал, что вы вдвоем способны создать умопомрачительную по объему сцену – симбиоз архитектуры и живописи. Берем быка за рога! Читаем пьесу! Это займет не больше часа.
Я вас оставлю, – сказала Салка. – Бертик мне ее уже дважды читал, очень впечатляет, поразительное сочетание абсурда и логики. «Медея» проще. Там все происходит наяву.
Фиртель приносит бутылку шнапса, хлеб, сало и соленые огурцы. За «Пробуждение»!
Думаю, это должны быть два яруса – «сознание и подсознание», между ними лестница – «состояние между сном и явью». Фиртель налил по второй.
Перенесем на сцену интерьер вашей квартиры, – смеется Франц. – Однако к вашему предложению стоит прислушаться. Образ, возникший спонтанно, как правило, верен. У нас с Фридл так и получается. Ей как стукнет в голову что-то ну совершенно нелогичное, я начинаю сопротивляться. Ищу другие пути. В результате прихожу к ее замыслу, только с черного хода.
Франц заливает. Мы никогда не работали вместе, разве что приглашение на концерт Эмми Хейм я выполнила по его заказу, да и то ему не понравилось.
Пьеса в одном акте, пять действующих лиц: Он, Она, Оно, Хозяин, Работник. Плюс неолицетворенные Массы. Это не массовка, а шумы: визг, скрежет, голоса.
Комната в гостинице. Две кровати рядом; напротив – двустворчатая дверь. На задней стене между высокими окнами – зеркало. Вещи и одежда разбросаны по стульям и тумбочке.
Только что мы там были. Платье на полу, белье под кроватью, вещи из саквояжа выброшены на пол – я искала заколку для волос.
ОН (берет ее за руку, нежно, но беспокойно). Ты чего проснулась?
ОНА проводит рукой по виску и волосам, влезает в шлепанцы.
ОН (быстро поднимаясь, резко). Что ты там высматриваешь?
Мне тоже что-то снилось, я вскочила с постели, выпила воды из крана. В комнате было душно. Я пыталась открыть окно, но ручка не поворачивалась, и Франц спросонья выдрал ее с мясом из рамы. Мы так хохотали оба! Сумасшедшая ночь…
ОН (ворчливо). Здесь душно. Будем наконец разумны. (Идет к окну.)
ОНА хочет его остановить, но, обессиленная, подвигается к краю кровати и, склонившись над полом, глядит на пятно, где ОН стоял.
ОН (тянет занавеску и оборачивается). Ну и? Есть там что?
ОНА взглядывает в окно и плотнее закутывается в одеяло.
ОН (рука на ручке окна). Замерзла?
ОНА. Ночь влажна.
ОН (смущенно глядя). Мы здесь в безопасности. (Идет к ней, пытается уложить ее в постель.)
ОНА (сопротивляется). Нет! Нет!
ОН. Тебе что-то приснилось.
ОНА (неохотно и слабо). Я спала…
ОН (садится на кровать). Так давай спать дальше.
Спать? Мы должны что-то решить, срочно, с чем мы явимся к Фиртелю? Франц бреется, оттянув пальцем нос, очень смешно смотреть на мужчин во время бритья, они так сосредоточены.
ОНА (глядит в окно, без страха, с любопытством, утверждаясь в собственной правоте). Но все-таки что-то е с т ь!
ОН (недовольно). Ну что?! Что там должно быть?
ОНА (одержимо): Да… вот именно… где должно?.. (Глядит в зеркало и поправляет волосы; в ужасе отшатывается.) О, как я выгляжу! Как я выгляжу!
Франц перед зеркалом, спрыскивает лицо одеколоном, шлепает ладонями по щекам. Я не вижу себя в зеркале, ростом не вышла. Франц приподымает меня за подмышки. Теперь вижу. Мятая кожа, нижние веки припухли. У нас есть десять минут? Лучший способ привести себя в порядок – лечь и положить на лицо полотенце, намоченное в холодной воде. Этому меня научила Шарлотта. Полотенце быстро нагревается. Может, у меня жар?
ОН (злясь). Оставь зеркало!
ОНА (прижимает ладони к вискам). Это не я.
ОН (становится перед ней и заслоняет зеркало). Так кто же?!
ОНА (повторяет). Да… кто…?
ОН (взрывается). Черт подери! (Сдерживает себя и топает ногой.) Ничто!!
ОНА (взирает на него в ужасе). Ничто! Ничто!
ОН (взяв себя в руки). Ты меня просто сводишь с ума! Твой бред…
ОНА отшатывается от него.
ОН (отпускает ее и беспомощно в ужасе глядит вокруг себя). Что? Что?
ОНА (утомленно). Ты меня душишь.
ОН (вне себя, бегает по комнате). Нет! Нет! Нет! (Стоит посреди комнаты.)
ОНА (с тупым упрямством). Открой окно.
ОН (колотит по окну кулаками). К черту! (Рвет на себя двумя руками ручку окна.) Да!!! (Окно грохается на него, стена между окнами проламывается, зеркало валится в комнату, разбиваясь.)
Я смотрю на Франца, тот спокойно слушает, словно это не про нас. Но ведь и действительно не про нас. Это пьеса Штрамма, 1914 года, а мы познакомились в 1917-м, у Иттена. Стену мы, разумеется, не проламывали. Но ручка!
ОН швыряет ручку в обломки и разражается диким хохотом.
И на Франца напал хохот…
ОНА (дрожа от ужаса). О! О! ты! ты! ты! ты! Ты страшен! страшен! Ты!
(Голоса, крики, шум снаружи и в доме.)
Дальше начинается несусветное. В дверь стучат, вламываются Хозяин и Работник с ломом, Хозяин требует денег. Он ложится в кровать и укрывается с головой, Хозяин в истерике вызывает полицию. Гром и молния. Ей кажется, что шумит река. Он отдает кошелек Хозяину, кошелек падает в пролом, на улице бушует чернь, Она думает, что бушует вода. Дикий крик и тишина. Убийство! Убийство! Она умоляет его бежать, но тут врывается безумная Масса, Он выхватывает пистолет… и убивает Ее мужа.
Он говорит полицейскому, что Она – его жена, но Масса кричит: «Враки!» Пожар, горит ратуша. Народ неистовствует: «Ее муж умер, а Она смеется, он поджег город!» – «Это дьявол дьявол дьявол наши дети наши дети он дьявол дьявол. Приведите пастора!»
Ее сестра подводит к ней двоих детей, Она бросается им в ноги. Простите! …Небо горит, стены рушатся. Дети убегают от страха. Он умоляет Ее бежать, быстро. Все рушится, река вышла из берегов – все летит в тартарары.
Он говорит Ее сестре: «Твоя сестра пробудилась. Да, неожиданно пробудилась». Крыши в дыму, колокола и колокольчики, звезда вспыхивает… Он и Она медленно поворачиваются друг к другу, прижимаются, стоят, рука в руке, и пристально глядят на звезду. Пока еще не желтую.
По дороге в Веймар Франц спит на моем плече. Я не могу уснуть, не знаю, чем я больше взволнована – ночью, проведенной с ним, или историей про ручку, выдернутую из оконной рамы. Мы отдали ключ консьержу, ничего не сказав о поломке. Я не суеверна, но все же, если совпало начало, не совпадет ли конец, неужели мои дети испугаются меня и убегут, и этот пожар…
Цветоформы сновидений. Свет гуляет по ним, фонарь, как на тюремной вышке. Театр теней.
Франц, проснись, мне страшно!
Страшно? – Франц мгновенно просыпается и напяливает мне на голову свою клетчатую кепку. – А если так?
А так – смешно!
Стоит ли принимать жизнь всерьез? По мне, она того не стоит. Знаешь, почему Штрамма убили на войне? Потому что он принимал жизнь всерьез. А я не принимал – и меня комиссовали.
Дорогая Анни!
Я скотина и давно должна была написать. Теперь, сидя в Дрездене в кафе, ожидаю Франца, у которого заседание в театре, уже 9.30, у меня нет при себе никаких денег, так что я уже нервничаю, однако он придет до 12. Будут ставить «Пробуждение» и «Невесту мавра» Штрамма.
В Берлине, моя дорогая, Стефан делает все, чтоб раздобыть для тебя деньги. Не позволяй, дорогая, сторонним силам толкать тебя на решения, неважно, какого рода это воздействие – идущее изнутри вовне, как у Франца, или что-то уж совсем внешнее, как, например, отсутствие или наличие денег. Моя дорогая, золотая, твои пустота и отчаяние мне так знакомы; этой зимой ничего другого и не было.
Об одном лишь прошу я тебя. Никогда, никогда, никогда ты не должна чувствовать себя униженной, говорить себе: когда я поднимусь снова? Потому что ничто не может остановить твое движение, не дать тебе идти дальше, суть ведь не в высоте и глубине, а в том, чтобы выдерживать испытания.
8. Соломенная невеста
Каждый из нас находит те книги и сюжеты, которые ищет и в которых нуждается. Наш сюжет развивается в гуще идей и новых течений. Все кипит, пузырится, пенится, булькает, переливается через край.
Рациональность – вместо экспрессивности.
Объективность – вместо индивидуализма и субъективности.
Технология – вместо кустарщины.
Технология – вне традиций и классового сознания.
Машина – будильник пролетариата.
Конструктивизм – социализм мировосприятия.
Я – за все сразу. За всеобщность. За стирание границ. Но разве не стремление ко всеобщему вызывает рознь?
Моя Анниляйн!
Жизнь состоит не столько из лет, сколько из минут. Не пытайся сейчас ничего делать, поправляйся, а тем временем возникнут тысячи вещей, за которые ты сможешь взяться.
Здесь был провал за провалом, но завтра премьера; при этом наша работа такая тупая, что никакими словами не выразить.
Писала ли я уже тебе, что у нас теперь есть ателье для работы? Вчера мы осматривали маленький домик: дешевая аренда, много комнат… Театр теней все еще не готов. Гропиус ведет себя хуже некуда; чего еще от него ожидать? Здесь будет выставка Баухауза. Что тут будет? Думаю, это вопрос решенный.
Ты находишь, что я не должна была брать Франца в партнеры? Я и сама об этом думала, но если человеку так сильно хочется, и покамест это лишь месячная попытка. Ведь Франц такой добрый и порядочный.
Дни после премьеры довели нас до полного изнеможения. Ближайший план работы таков. Будут ставить пьесу Кайзера. Георг Гросс делает инсценировку. Тогда мы по крайней мере сможем подготовить другие вещи: еще что-то из Штрамма, «Вакханок», «Царя Иоанна». На мой вкус, это чересчур вычурно. Когда кожа истерта до такой степени, что сквозь нее видно, как течет кровь…
В субботу у меня первое занятие. Я боюсь. Мои отношения с людьми как-то разладились. Я променяла всех на одного человека и не хотела бы ничего иного, но тем не менее чувствую, что я бедна и ограниченна. Нет, в глубине души я счастлива, просто меня часто охватывает малодушие, почти единственная причина всех напастей.
Анниляйн! С тобою меня не покидает чувство, как перед премьерой: чем хуже генеральная репетиция, тем лучше представление.
Мы слушали концерт Горенштейна. Очень грамотно, но мысль без таланта тоже никуда не годится.
Стефан заболел в Веймаре, я застряла в Лейпциге.
Дитя мое Анни! Пожалуйста, сходи ко мне домой, там в письменном столе ключ и, вероятно, паспорт – отошли мне его экспрессом по адресу: Лейпциг, отель Хауфе Россштрассе. Объясни там, что я уехала поневоле, надеясь, что в субботу вернусь, но от перенапряга у меня случилось кровотечение или что-то в этом роде, и я должна лежать…
Ты услышишь много забавного, когда я вернусь. Ах, если бы это уже было так! Здесь все бездарно; много усилий, и все безуспешны. Не сердись на меня, но я потеряла всякое терпение.
Анниляйн, я бы очень хотела знать, как у тебя идут дела, что ты делаешь в Веймаре и что там еще нового? Болен ли еще Стефан? Скажи ему, что он может пользоваться у меня всем, что найдет, пусть поставит в мастерской печку, ту, железную, и обогревает помещение, дрова и уголь в подвале. Если у вас нет денег, я что-нибудь пошлю, пусть купит уголь и дрова! Чтобы только не замерз! Я послала тебе уведомление на кредит на 5000 за счет переплетного цеха Баухауза; пожалуйста, плати за меня в Баухауз по 235 марок на счет цеха каменной скульптуры, остаток, думаю, более 100 марок, принадлежит тебе. Иттен, Клее и другие все еще там? И как все это теперь выглядит? Что делают Адлеры? Передавай всем от меня привет!
9. Полнолуние
Пока мы с Францем «пробуждались» в Лейпциге, в Баухауз прибыл «новатор» Лотар Шреер, дабы руководить сценической мастерской. Он штурмовец и тоже боготворит Штрамма. С нами он будет ставить свою пьесу «Лунная игра».
«Новаторство» Шреера состояло в возврате к истокам, но не к любимому гропиусовскому Средневековью, а к «формообразующим элементам древнегреческой трагедии». Театр как средство духовного очищения. Чистота форм и средств – базовые цвета, базовые движения. Сила слова – в звучании, звучание определяется чистотой произносимого звука. Эта пьеса из 346 строчек, по замыслу Шреера, изначально лишена всякого смысла и не рассчитана на понимание. На репетициях актерам нужно было «найти собственный голос», извлечь из него «внутренний звук».
По заданию Шреера я изваяла из гипса и папье-маше высоченную «Марию на Луне». Это вполне уродливое воплощение «священного принципа Упорядоченного Космического Добра» стояло посреди сцены. Танцора, припадающего к ногам Марии (почему он должен быть танцором?), я сделала из картона. Шреер велел нарисовать на его лице глаз в виде луны.
Кругом одни луны – лунные Пьеро, лунные Марии, Маргит сделала литографическую серию лунных пейзажей, и в окне – полная луна.
Цах ве адом! Во мне зародилась новая жизнь, существо пока еще совсем крошечное, но уже такое требовательное! Этого не пей, того не ешь и ни в коем случае не дыши сигаретным дымом. Но если попросить Франца не курить в мастерской, он заподозрит неладное. Я стараюсь держаться подальше от дыма и скандалов. У меня свой план. Франц его вряд ли одобрит. Если Эмми узнает, она уйдет от Франца, как Маргит от Бруно. Чтобы этого не случилось, я уеду в Вену. Буду жить у Анни, в новой мастерской, зарабатывать переплетами, пока не придет срок родить.
Только бы поскорей сдать эскизы к «Соломенной невесте» – новая постановка пришлась совсем некстати. Опять безумный Штрамм, опять трехмерная конструкция. Опять история «от рассвета до заката». Только вместо интерьера – экстерьер. Не комната, но дом у реки и мост через всю сцену. Меняется освещение, меняется жизнь дома. Простая задача. Я бы справилась с ней и без Франца.
Уже готовы восход, раннее утро, солнце в зените, полдень, дело идет к вечеру. Черное солнце – кровавый закат, багряный дом, белый мост…
Почему солнце черное? – Франц склоняется над рисунком, и я осторожно отвожу от себя его руку с сигаретой. – Выглядит как затмение.
Ну и хорошо.
В пьесе этого нет.
В нашей пьесе Эмми Хейм тоже не было, но она возникла.
О чем это ты?
Я призналась. И получила ответ:
Какая из тебя мать, у тебя нет и инстинкта материнства!
Мне тяжело рассказывать подробности. Берлин, музеи, много работала со Стефаном, много с Фрейханом, много с Францем; мало была у Эмми. Ребенок мил и сладок неописуемо!
Я не написала Анни про рисунок, который в тот вечер буквально вырвался из-под пера, – «сладкий Биби» с вытаращенными от ужаса глазами сучит в воздухе ножками. Я не разорвала этот рисунок и тогда, когда Биби умер. Может, уничтожив его, я бы избавилась от изнуряющего чувства вины?
10. Трик транк тро
Я пробудилась в полном одиночестве и как бы неокончательно. Стены из необлицованного кирпича, прямые линии окон, кафельная печь в цветных изразцах, рядом с кроватью – фаянсовый умывальник с большим кувшином и медным тазом.
Не помню, что снилось, но явно не цветоформы между двумя мирами, соединенными лестницей. Те, кто помнит свои сны, связаны с реальностью куда плотней непомнящих. Проснувшись, я увидела себя лежащей поперек кровати с раскинутыми руками. Как на распятии. Как далека я от самой себя, даже эхо не возвращает моего голоса.
Проснулась!
На Маргит платье в обтяжку, цвета темной сирени, туфли на каблучке, и ей очень идет стрижка каре, прямые волосы вровень с мочкой уха, глаза, как рыбки, хлопают ресницами-плавниками…
Она мне все объяснила. Они с Хуго забрали меня из мастерской. Мне надо отлежаться, чтобы все обошлось без последствий.
Маргит поставила чайник на металлическую подставку, зажгла под ним фитиль – так он не остынет. Процокали каблучки, все стихло.
Я набрала номер Франца.
Оказывается, я закатила такой скандал, что потеряла сознание. – Слышала бы ты себя! Даже Эмми, которая обожает тебя, да-да, не смейся, была шокирована.
Чем же? Ты осмелился сказать Эмми про аборт?
С нее хватило того, что она услышала.
И что же она услышала?
Процитировать?
Да.
Что ты отказываешься работать за ее мужа. Что тебе надоели переплеты, обивки, карманы без клапанов, рукава без обшлагов, двубортные застежки и гардины! В конце ты сказала: «Ухожу, а вы спите на моем ободранном диване!» И рухнула у дверей. И тут являются Маргит с Хуго…
В последнее время я то и дело закатываю скандалы, и люди вообще не понимают, что это вдруг, что случилось?
Но ты ведь знаешь почему! Ты-то ведь знаешь!
Я бросила трубку и свалилась в постель.
Дорогая Анни!
Спасибо тебе за лекарства. Вчера мне сделали инъекцию молока. И еще сделают две. Должна повыситься температура, но не повышается. Тем не менее я устала и разбита, как если бы температура была очень высокой.
Не могу тебе ничего написать. У меня есть желание жить. Знает Бог!
К черту всяческое предвидение и проницательность, это ведь все выдумки. Жалея всех вокруг, человек уничтожает больше, чем был бы в состоянии уничтожить из простой жестокости.
Мне, однако, лучше закругляться, а то перед тобой предстанет портрет какой-то фурии, в то время как я одновременно счастлива и несчастлива. Я знаю, что я не эгоистичнее прочих, но мое развитие слишком рано приняло определенную форму, я пребываю в страшном смятении из-за недавнего всплеска чувств, виной всему мой необузданный нрав, опостылевшее, мне уже самой ненавистное поведение.
И все же, и все же я была и есть честна; но честность эта абстрактна, она ни с чем не связывается, сплошной вздор – набраться мужества на маленькую ложь было бы куда симпатичней.
11. В Париже все дозволено
Стефан придумал увезти меня в Париж. Безотказная госпожа Шломан одолжила денег на дорогу.
Крохотный номер с большой кроватью, перед ней зеркало. Бедность потлива, терпкие духи, которыми опрыскивают номера, не способны убить стойкого запаха.
Приют для нищих любовников. Мы нищие, но не любовники. Лежим каждый в своем углу, пытаемся заснуть. Стефан утешает меня словами. Это не помогает.
Утро в Лувре. Надгробия этрусков. Веселые окаменевшие покойники с подъятыми вверх кубками возлежат по разные стороны.
Как мы с тобой, – смеется Стефан. – Что у них в кубках – вино или яд?
Стефан, смотри, это же прототип микеланджеловской гробницы Медичи. Тот же принцип стекающих, сползающих, возлежащих под углом к постаменту фигур! Его вдохновляли этруски!
Мы провели в Лувре весь день. Стефан радовался моей радостью, а когда пришло время уходить, предложил снять с музейных уборщиков униформы, остаться на ночь в музее, мыть полы у египтян, подметать у Рембрандта, чистить ковер у Вермеера…
Смотрители ходят по пятам, гасят свет в зале, который мы только что покинули, и таким образом деликатно, но настойчиво подгоняют нас к выходу.
Приходите завтра.
А если не будет завтра?
Вы знаете про девочку, которая всю жизнь мечтала попасть в Лувр? Она очень хорошо рисовала и однажды принесла мне сочинение под названием «Мое будущее». Я читала его в своем терезинском закутке, полтора на два метра, – предусмотрительная природа вовремя остановила мой рост, иначе в этот ящик я бы никак не уместилась, – и думала о Лувре, о веселом надгробии этрусков – так и следует принимать смерть.
Эта девочка мечтала увидеть своими глазами произведения искусства, памятники – все, что скрыто под словом «Париж».
»Это как бьющий гейзер. Читать Виктора Гюго, Эмиля Золя, смотреть картины Анри Руссо и Жоржа Сёра. Воображаю, как выхожу из подъезда де ля Эст и на ломаном французском спрашиваю дорогу до…»
А мы в этом «бьющем гейзере» слоняемся как потерянные. Меня донимает голод. Кажется, в Терезине он мучил меня меньше, чем в Париже. При нашем безденежье мы можем позволить себе раз в день поесть в дешевом бистро, утром и вечером выпить кофе с булочкой. Стефан убеждает меня в том, что он сыт и всем доволен, но у витрин с лакомствами замедляет шаг.
Уедем отсюда, Стефан!
Погоди, обживемся…
Девочка обжилась за неделю: «Здесь, в Париже, все дозволено и никто ничему не удивляется. Лечу с лекции на лекцию, с выставки в музей, оттуда – в библиотеку. Мечтаю наверстать все, что упущено, и быстро двигаться дальше. А вот сейчас бегу с лекции в Сорбонне в Лувр, там я еще не была».
И вот она входит в Лувр, который мы только что покинули. «Потрясенная, долго стою перед полотнами Мастеров. Здесь Моне, Ван Гог, Руссо и – “Мона Лиза” Леонардо да Винчи. Какая красота! Не знаю, сколько я перед ней простояла, – минуту или час. Как все это в себя вобрать?!»
Одного дня и мне мало.
Завтра снова пойдем, – говорит Стефан.
Нужно было пожить рядом с ним хотя бы для того, чтобы научиться у него сохранять спокойствие и жить, учась у жизни.
«О боже, полвторого! Мне же надо быть в Академии художеств! Быстрей, быстрей, только бы не опоздать… Я не слышу профессора, который что-то там объясняет. Не знаю что. Вижу только Лувр. Радуюсь, когда кончается лекция. Ноги сами автоматически несут меня к Лувру. Совсем не ощущаю времени. Если бы женщина, которая сдает мне комнату, не совала мне еду под нос, я бы не ела. Учусь с утра до ночи. С языком никаких проблем. Пишу домой длинные письма… Открываю испуганно глаза. Я не в Париже, а в Терезине. Эту жестокую действительность я опишу когда-нибудь потом».
Да, когда-нибудь потом. Если достанет духу.
12. Берлин
Стефан служит мне и компартии. Сочиняет странную музыку, шумно-героическую, для хора рабочих, с ними проводит репетиции в замызганной столовке в пролетарском квартале Берлина. «Мы должны что-то делать для революции, а что-то для себя. Чтобы быть современными. А что значит быть современным? Служить компартии».
Вот уже два месяца, как я ни над чем не работаю, в редкие мгновения мне чудится, будто я узрела покой или даже услышала его. При этом я непрестанно ощущаю движение, свой путь, и, если прежде каждая вторая мысль была бессмысленность и смерть, теперь во мне появилось некое постоянство, и это снова заставляет верить во все хорошее. Стефан (я снова в Берлине) помогает мне, того не осознавая.
Надо было нам ехать не в Париж, а в Страну Советов, вот где бьет настойщий гейзер!
Весной 1933 года Стефан осуществил свою мечту, но без меня. Пробыл там почти полгода, сначала в Ленинграде, потом в Киеве, где ему предлагали работу дирижера. Однако срок его паспорта истекал, и ему пришлось вернуться в Берлин. Но ненадолго. Его новая подруга сумела вывезти его в Румынию, а оттуда в Палестину. Благодаря ей он и остался жив. Мы переписывались до 40-го года.
В этих потоках любви, которыми ты меня окатил, я совершенно утонула. Но теперь, к сожалению, придется вынырнуть, поскольку это не та стихия, в которой мне привычно жить.
Купи себе новую авторучку, не столь кусачую и брызгучую, чтоб не писала такими противными буквами, целую тебя, Ф.
Когда мы договорились встретиться? Сегодня или вчера? Я влетаю в кафе, Стефан здесь – значит, я ничего не перепутала. Мы обнимаемся, я глажу его по небритой щеке.
Ты какой-то уставший…
Видно, засиделся, – Стефан расчесывает руками волосы. – Я тут жду со вчерашнего дня, с полпятого, как договорились.
Какой ужас!
Никакого ужаса. Добрейший хозяин позволил остаться после закрытия. И так возникло новое произведение, – Стефан протягивает мне тетрадку, исписанную закорючками. – Я знал, что ты придешь.
У Стефана дела сейчас идут хорошо. Работает как одержимый, бодр и свеж, 1000 раз cлава Богу.
13. Испытание
Франц сам не свой, у Биби болит животик.
Фридл, напиши жене Иттена, пусть посоветует, что делать!
Мы сидим на сцене друг против друга, вентилятор колышет цветные фильтры, пришпиленные к веревке, свет прожектора направлен Францу в спину. Тонкий профиль в контражуре, вечная сигарета, свисающая с нижней губы. Меня больше не тошнит от дыма, все прошло.
Я совершенно не способен мыслить творчески, – жалуется он. – Быть бы простым плотником… и довольствоваться этим.
Мой муж Павел, когда его уволят из бухгалтеров, станет плотником.
Мы оказались слабаками, нас всех раздавил Баухауз. Кроме тебя. Прежде у меня такого чувства не было, а теперь не могу от него избавиться. Такое одиночество…
А Эмми? А я?
Ты тоже перестала меня понимать. Ребенок – вот самое любимое мною создание, единственное в целом свете.
Что сказать на это?
Раньше говорила я, Франц молчал. Теперь говорит Франц – я молчу. Пишу письмо жене Иттена.
Многоуважаемая и любимая мной фрау Иттен!
Пожалуйста, разрешите мне через Анни спросить, должна ли я снова принести Вашу шубу или то, что с ней сталось. …Скажите ей также, пожалуйста, в чем дело с ребеночком, у него был сильный понос, он кричал и не ел, стал слабым и грустным. То, что с ним сейчас происходит, меня очень беспокоит, поскольку ему никак не могут помочь. Речь идет о маленьком бесконечно милом дитяти Зингера, и поскольку Флориану Адлеру, когда стали действовать по Вашим советам, стало лучше, то я очень надеюсь, что и этому ребеночку Вы сможете помочь.
У тебя есть ее адрес?
Нет, пошлем Анни, она передаст. Там еще история с шубой…
Надо скорей отправить, – говорит Франц.
Тогда зови рабочих с лестницей.
Зачем?
Свет ставить.
Я «ставлю» свет. Рабочие направляют лампы туда, куда я указываю. Франц удивлен: откуда мне известно, какие именно лампы и под каким именно углом их следует расположить?