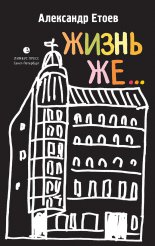Литература как таковая. От Набокова к Пушкину. Избранные работы о русской словесности Жаккар Жан-Филипп

Симфония![495]
Особенно интересно отметить, что в некоторых случаях каждый фрагмент «симфонии» пронумерован, что можно рассматривать как отражение текста в самом себе или же как метаописание. Это имеет место в таких произведениях, как «Связь», «Пять неоконченных повествований». Название последнего говорит само за себя: пять безнадежных попыток повествования быть осуществленным, но каждый раз оно возвращается в ноль-точку, то есть в небытие, от которой пыталось отдалиться. Таким образом, нам ничего, по сути дела, не рассказывается, так как рассказывать, по сути дела, нечего.
Эта констатация позволяет объяснить тот факт, что «Голубая тетрадь № 10» (о рыжем человеке, у которого ничего не было, так что непонятно, о ком идет речь, и лучше о нем замолчать) стала эмблемой такого рода поэтики: больше нет темы, больше нет фабулы, больше нет сюжета, больше даже нет персонажа и так далее. Однако, когда уже кажется, что больше ничего нет, мы начинаем замечать то, что остается: а именно — сам текст! И это нас приводит к обсуждению важнейшей проблемы — автореференциальности текстов Хармса.
В заключение своей статьи О. Буренина весьма тонко подмечает тенденцию абсурда создавать «совокупность практически автономных микросюжетов»[496], результатом чего становится нечто вроде отсылки текста к самому себе, которую исследовательница называет «автосемантичностью». Действительно, мы замечаем, что сведение повествования к нулю создает новое пространство: пространство самого текста. Это причина, по которой текст ищет в самом себе способы восстановить причинно-следственную связь, которой нет в описываемой действительности. Можно даже сказать, что он изобретает для себя «автомотивировку», за неимением любой другой. Приведем пример для иллюстрации вышесказанного:
Однажды Петя Гвоздиков ходил по квартире. Ему было очень скучно. Он поднял с пола какую-то бумажку, которую обронила прислуга. Бумажка оказалась обрывком газеты. Это было неинтересно. Петя попробовал поймать кошку, но кошка забралась под шкап. Петя сходил в прихожую за зонтиком, чтобы зонтиком выгнать кошку из-под шкапа. Но когда Петя вернулся, то кошки уже под шкапом не было. Петя поискал кошку под диваном и за сундуком, но кошку нигде не нашел, зато за сундуком Петя нашел молоток. Петя взял молоток и стал думать, что бы им такое сделать. Петя постучал молотком по полу, но это было скучно. Тут Петя вспомнил, что в прихожей на стуле стоит коробочка с гвоздями. Петя пошел в прихожую, выбрал в коробочке несколько гвоздей, которые были подлиннее, и стал думать, куда бы их забить. Если была бы кошка, то конечно было бы интересно прибить кошку гвоздем за ухо к двери, а хвостом к порогу. Но кошки не было. Петя увидел рояль. И вот от скуки Петя подошел и вбил три гвоздя в крышку рояля[497].
Этот текст, который, хотя и начинается традиционным «однажды», обещающим дальнейшее повествование, не в состоянии произвести никакую фабулу: либо потому, что это неинтересно или скучно, либо потому, что персонаж слишком вялый, либо, наконец, из-за непоследовательности последнего, которая побуждает его к действиям, какие можно назвать «абсурдными» в обычном смысле слова, то есть нелепыми. По этой причине данный текст тоже можно считать нагромождением зачинов, даже если все время речь идет об одном и том же единственном персонаже. Однако текст сам создает (здесь — на фонетическом уровне) необходимую связь между героем Гвоздиковым и единственным законченным действием, самым абсурдным из всех — забиванием гвоздей в рояль.
Этот прием далеко не нов. Достаточно вспомнить гоголевского Пирогова, который спасался от тоски, съедая два слоеных пирожка, и многие другие случаи «словесной маски», которыми испещрены произведения великого писателя-классика и которые так удачно описаны Б. М. Эйхенбаумом. Однако фундаментальное нововведение в текстах Хармса — отсутствие всего прочего. Автореференциальность берет верх над остальным. Уничтожая все элементы повествования, которые в принципе создают повествование, Хармс в конечном счете дает понять совершенно другое: как именно он пишет тексты, которые мы читаем. По этой причине мы всегда можем найти в текстах Хармса обнажение приема. В рассказе о Пете Гвоздикове, например, это было определенное использование ономастики.
Нет сомнений, что время — столь фундаментальное во всем повествовании понятие — имеет также право на толкование не как философская категория, существующая вне текста в качестве предпосылки, но и как нарративная категория, предстающая в первозданном виде. Это значит, что оноописывается в тексте, который, казалось бы, описывает совсем другое.
Если вернуться к двум вышеупомянутым типам времени («фабульное время» и «повествовательное время»), можно взглянуть на некоторые тексты Хармса под совершенно новым углом зрения — особенно на тексты, в которых рассказывается о падении. Падение — само по себе красивая (впрочем, довольно мрачная) метафора сближения с ноль-точкой, которое завершается, как правило, довольно печально, и метафора ускорения времени, вплоть до его упразднения («каждый имеет только секунду смерти»; «и времени больше не будет»). Но это — время философское. Упоминание падения равным образом вводит и употребление времени как художественной категории.
Хорошо известный «случай» «Вываливающиеся старухи» начинается фразой: «Одна старуха, от чрезмерного любопытства, вывалилась из окна, упала и разбилась»[498]. Мы отдаем себе отчет, что в этой фразе два времени находятся в прекрасном соответствии: падение (фабульное время) длится столько же, сколько и время повествования о падении (повествовательное время).
Совсем иная ситуация в рассказе «Упадание (Вблизи и вдали)» (1940), о котором А. А. Кобринский совершенно верно пишет, что это «вершина опытов Хармса с художественным временем»[499]. В нем два человека с предельной замедленностью падают с крыши (подобно распространенному приему в кинематографе, о котором удачно написал исследователь):
Два человека упало с крыши. Они оба упали с крыши пятиэтажного дома, новостройки. Кажется, школы. Они съехали по крыше в сидячем положении до самой кромки и тут начали падать. Их падение раньше всех заметила Ида Марковна. Она стояла у окна в противоположном доме и сморкалась в стакан. И вдруг она увидела, что кто-то с крыши противоположного дома начинает падать. Вглядевшись, Ида Марковна увидела, что это начинают падать сразу целых двое. Совершенно растерявшись, Ида Марковна содрала с себя рубашку и начала этой рубашкой скорее протирать запотевшее оконное стекло, чтобы лучше разглядеть, кто там падает с крыши. Однако, сообразив, что пожалуй падающие могут, со своей стороны, увидеть ее голой и невесть что про нее подумать, Ида Марковна отскочила от окна и спряталась за плетёный треножник, на котором когда-то стоял горшок с цветком. В это время падающих увидела другая особа, живущая в том же доме, что и Ида Марковна, но только двумя этажами ниже. Особу эту тоже звали Ида Марковна. Она как раз в это время сидела с ногами на подоконнике и пришивала к своей туфле пуговку. Взглянув в окно, она увидела падающих с крыши. Ида Марковна взвизгнула и, вскочив с подоконника, начала спешно открывать окно, чтобы лучше увидеть как падающие с крыши ударятся об землю. Но окно не открывалось. Ида Марковна вспомнила, что она забила окно снизу гвоздём, и кинулась к печке в которой она хранила инструменты: четыре молотка, долото и клещи. Схватив клещи, Ида Марковна опять подбежала к окну и выдернула гвоздь. Теперь окно легко распахнулось. Ида Марковна высунулась из окна и увидела как падающие с крыши со свистом подлетали к земле.
На улице собралась уже небольшая толпа. Уже раздавались свистки, и к месту ожидаемого происшествия не спеша подходил маленького роста милиционер. Носатый дворник суетился, расталкивая людей и поясняя, что падающие с крыши могут вдарить собравшихся по головам. К этому времени уже обе Иды Марковны, одна в платье, а другая голая, высунувшись в окно, визжали и били ногами. И вот, наконец, расставив руки и выпучив глаза, падающие с крыши ударились об Землю.
Так и мы иногда, упадая с высот достигнутых, ударяемся об унылую клеть нашей будущности[500].
Совершенно ясно, повторяем, что несоответствие двух времен можно найти во всех видах повествований (рассказы, повести, романы): можно довольно легко втиснуть двадцать лет в одну страницу или один час растянуть на двести страниц, и понятно, что случай с «Вываливающимися старухами» весьма специфический. Однако природа происходящего в этом тексте совершенно иная. Если повествовательное время растягивается и более не соответствует фабульному времени (как в рассказе «Вываливающиеся старухи»), то можно констатировать, что оба вида времени разделяются до такой степени, что появляется новое фабульное время. Поясним: если бы длина текста зависела, например, от описания дома или от рассказа о прошлом этих людей, то мы имели бы дело с обычным повествованием. Однако здесь персонажи (причем один из них сам является рассказчиком), которые находятся в противоположном здании, успевают произвести невероятное количество действий, тогда как внизу успевает собраться целая толпа, и милиционер отнюдь не вынужден торопиться, чтобы поспеть к месту происшествия вовремя. Таким образом, наряду с двумя местами действия (оба здания) у нас имеются и два фабульных времени, каждое из которых имеет и свое повествовательное время. Более того, несоответствие двух типов времени в одном случае противоположно другому: рассказ о падении много длиннее, чем само падение, тогда как рассказ о деятельности различных персонажей в здании напротив много короче, чем предполагаемая длительность этой деятельности[501].
Эта весьма выразительная «гетерохронность» (термин Кобринского) должна заставить задаться вопросом, о чем в самом деле идет речь в этом тексте. Кажется, что Хармс прежде всего — скорее, чем падение двух персонажей и чем истерику обеих Ид Марковн и всей остальной толпы, — описывает здесь фундаментальную проблему поэтики. Повторим еще раз, что это не ново: когда Гоголь начинает рассказ «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» словами «С этой историей случилась история», он не совершает ничего иного[502]: смысл слова «история» относится к фабульному времени в первом случае, тогда как во втором — к повествовательному. Все это вписывается в общую автореференциальную тенденцию литературы, которой невозможно избежать и без которой литература не могла бы существовать. Однако у Хармса мы наблюдаем решительную радикализацию, соединенную с той самой тенденцией обнажения приема, которую мы видим в «Упадании». Поэтому можно сказать, что в настоящем тексте, как и в «Вываливающихся старухах», Хармс ведет речь о проблеме времени в прозаических текстах. И не только времени вообще, но и всех приемов, которые с ним связаны: причинно-следственные связи, замедление, затяжка и т. д.
Можно обобщить: в конечном счете то, о чем повествуется в текстах Хармса, является не столько историей персонажа или событиями, с ним связанными (ср. у Введенского: «События не совпадают со временем. Время съело событие»[503]), сколько историей самого текста. Это находится в идеальном соответствии: повествование переместилось с фабулы, то есть с истории, которая рассказывается и которая (как мы уже видели) не может существовать, на историю истории («С этой историей случилась история»); иначе говоря — от повествования к «метаповествованию», и второе полностью замещает первое…
Эти размышления о прямом влиянии философской специфики абсурдного времени на поэтику так называемых «писателей-абсурдистов» далеко не исчерпывают темы. Нам показалось интересным подойти к проблематике абсурда в связи с проблемой времени. Это, как представляется, убедительно отображает поразительные изменения, которые произошли за несколько лет активной литературной деятельности с писателями, которые начинали в рамках авангарда, как раз в то время дошедшего до своих пределов. Можно сказать, что задача идеальной автореференциальности была исторической частью программы авангарда (а также, вне всякого сомнения, вообще модернизма). Она была вписана уже в «Черный квадрат» Малевича, в заумь Хлебникова и Крученых и т. д. Это был период, когда верили, что автореференциальность может стать выражением Всеобщности мира. Потом мечта целого поколения потерпела крах, и на смену бесконечному времени, которое надеялись описать словами, пришло время раздробленное, несущее в себе неподвижность и смерть — новую действительность, которую слово, в свою очередь раздробленное, могло описать лишь в безнадежных попытках раскрыться, однако постоянно возвращаясь к «бессмысленному молчанию», с которым сталкивается человек абсурда.
Предпосылки этого краха существовали уже довольно давно. Например, в 1913 году, когда Гнедов только-только издал свою брошюру «Смерть искусству»[504], состоящую из 15 «поэм», каждая из которых была не длиннее одной строки, а в двух случаях даже сводилась к одной-единственной букве. Например, в поэме 14, ставшей столь знаменитой, — «Ю». Здесь автореференциальность максимальна. Разумеется, являясь в сборнике в качестве предпоследнего включенного в него произведения, она, эта буква «Ю», призывает к себе букву «Я», являющуюся не только следующей и последней буквой русского алфавита, но и одновременно, разумеется, местоимением первого лица единственного числа; местоимением, которое мы были бы вполне вправе ожидать от хорошего эгофутуриста; местоимением, которое, заметим, также авторефе-ренциально и которое вписывает автономного индивидуума в великое Всё… Но это уже философия.
На самом деле произошло другое. Последняя в сборнике «поэма» сводится к его названию: «Поэма конца». Это все: она, стало быть, является совершенно афонической. Причем эта «афония» перформативна, поскольку название, предвещающее конец, обращено в сторону молчания. Это молчание было, однако, прочитано. В. Пяст вспоминал, как автор декламировал эту заключительную «поэму»:
Слов она не имела и вся состояла только из одного жеста руки, быстро подымаемой перед волосами и резко опускаемой вниз, а затем вправо вбок. Этот жест, нечто вроде крюка, и был всею поэмой[505].
Конечно, можно сказать, как это делает С. Сигей в предисловии к переизданию Гнедова, что поэт «оказывается у истоков современного синтетического искусства»[506]. Однако, оказываясь на экстравербальной территории, мы меняем регистр (танец, «перформанс», «body-art»). Поэт-эгофутурист Игнатьев в своем манифесте-предисловии к «Смерти искусству» заявляет следующее: «Гнедов Ничем говорит целое Что»[507]. Но все же далее добавляет, что будущее литературы есть Безмолвие…
Однако молчания не наступило, или же, точнее, это молчание оказалось столь грохочущим, что его нарекли абсурдом.
IV. ПЕРЕЧИТЫВАЯ КЛАССИКУ
Наказание без преступления
(Хармс и Достоевский)[*]
Связь повести Хармса «Старуха» с Достоевским без труда угадывается даже неискушенным читателем. Пародийный аспект этого произведения, поднятая в нем тема наказания в отсутствие преступления и значение, которое она приобретает в контексте 1930-х годов XX века, отмечались уже неоднократно[509], однако нам представляется небесполезным уточнить некоторые положения, чтобы показать, насколько недостаточно интерпретировать отношения двух писателей исключительно с точки зрения пародии.
Стоит напомнить в двух словах содержание повести. Герой-рассказчик — писатель, безуспешно пытающийся создать рассказ о чудотворце, который не творит чудес. Его прототипом во многом является сам Хармс: живет в том же районе Ленинграда, что и Хармс, курит трубку, ненавидит детей, мучается теми же «проклятыми вопросами» бытия, его друг Сакердон Михайлович напоминает друга Хармса Николая Олейникова и т. д.
Однажды утром он встречает старуху, которая держит в руках стенные часы без стрелок; на вопрос о времени она отвечает: «Сейчас без четверти три»[510] (очевидный намек на «Пиковую даму» Пушкина). В этот же день она приходит к герою-рассказчику и умирает. В растерянности тот не знает, что предпринять, хочет доложить о случившемся управдому, но лишь тянет время. Именно из-за этой нерешительности, а еще потому, что голоден, он идет в булочную. Там в очереди завязывается короткий разговор с «дамочкой», он приглашает ее к себе выпить водки, но, спохватившись, ретируется. Затем он направляется к Сакердону Михайловичу выпить водки и закусить сардельками — к этой центральной сцене повести мы еще обратимся в дальнейшем, — а потом возвращается к себе в надежде, что старухи там больше нет («Неужели чудес не бывает?!»; 178). Но, войдя в комнату, видит, что старуха-покойница на четвереньках ползет к нему… В страхе герой хватается за молоток для крокета. В конце концов он принимает решение в духе уголовного романа (как он сам себя убеждает) избавиться от трупа, засунув его в чемодан и выбросив где-нибудь на болоте на окраине Ленинграда. В поезде у него начинаются рези в животе, он бежит в уборную и, возвратившись на свое место, видит, что чемодан украден. Предчувствуя неминуемый арест, герой выходит на станции Лисий Нос и в ожидании обратного поезда идет в лес. Там, став на колени перед ползущей (как старуха!) гусеницей, он произносит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь» (188).
В качестве предварительного замечания хотелось бы также добавить, что повесть занимает особое место в творчестве Хармса: во-первых, это единственный текст такого значительного объема (примерно полтора печатных листа); во-вторых, в поэтике писателя он представляет собой новое направление, более «классическое» по сравнению с авангардистскими поэтическими экспериментами начального периода и крайним, доходящим порой до нелепости минимализмом затем последовавшего периода. Написанная в 1939 году, то есть незадолго до ареста автора, повесть в известной мере подводит итог всему предшествующему периоду. Ее появление в свете периодизации творчества Хармса представляется вполне закономерным. Действительно, как мы старались показать в наших работах, творчество Хармса делится на два периода[511]. Первый период (1925–1932) следует рассматривать в контексте заката авангарда, запутавшегося в непреодолимых трудностях (вследствие как внешнего давления, так и внутренних философско-эстетических проблем, которых мы не будем касаться). Это период оптимизма, отмеченный эстетикой формалистских поисков. Второй период — период сомнений, представленный поэтикой, которую можно (разумеется, со всей осторожностью) сблизить с поэтикой абсурда, понятого как некий вариант экзистенциализма[512].
Вполне закономерно, что при переходе от первого периода ко второму Хармс сменяет поэзию на прозу и что в итоговой повести «Старуха» он вновь поднимает вопросы, близкие к тем, что были у Достоевского. А тот факт, что «Старуха» была написана во время разгула сталинского террора, заставляет нас задаться некоторыми вопросами.
Как уже отмечалось, сопоставительный анализ «Старухи» с произведениями Достоевского был уже в общих чертах разработан, хотя, разумеется, не исчерпывающим образом. По сходству сюжетной ситуации к повести ближе всего «Преступление и наказание»: в комнате с трупом старухи находится молодой человек, в страхе пытающийся найти выход из ужасного положения. Повесть Хармса, как и роман Достоевского, следует включить в «петербургский текст», тем более что действие происходит во время белых ночей, и это влечет за собой целую цепь аллюзий. Герой-рассказчик описывает свой маршрут по городу подобно тому, как описан маршрут Раскольникова, и также страдает от летней жары. Наконец, он, как и Раскольников, живет в одной бедной комнате со скудной мебелью и часто лежит на «кушетке», как Раскольников на своей «неуклюжей большой софе»[513].
Определенные образы являются знаковыми, даже несмотря на то, что у Достоевского и у Хармса они представлены совершенно по-разному. Например, часы, с их важной символикой, появляются в повести Хармса пять раз, напоминая заклад, который приносит Раскольников процентщице во время своего «пробного» визита. Другим примером знакового образа служат ключи. Когда в начале повести старуха приходит к герою, первым делом она говорит ему: «Закрой дверь и запри ее на ключ» (164), чему он машинально повинуется. Это прямо противоположно тому, что происходит в романе Достоевского, где старуха-процентщица, напротив, не закрывает двери, и Раскольников совершает свое преступление при полуоткрытой входной двери:
Он стоял, смотрел и не верил глазам своим: дверь, наружная дверь, из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная: ни замка, ни запора, всё время, во всё это время! <…>
Он кинулся[514] к дверям и наложил запор.
(66)
Вместе с тем этот отрывок перекликается с происходящим позднее в повести Хармса, когда герой внезапно пугается при мысли, что он оставил дверь открытой и что старуха может выползти из комнаты:
Вдруг меня осенило: я не запер дверь. А что, если старуха выползет из комнаты?
Я кинулся обратно, но вовремя спохватился и, чтобы не испугать жильцов, прошел через кухню спокойными шагами.
(182)[515]
Отметим, что, выбежав из дома процентщицы, Раскольников также замедляет шаг, не желая привлекать внимания прохожих:
А между тем ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого поворота шагов сто оставалось.
(69)
Еще один знаковый образ: забитая до смерти лошадь («лошадка», «клячонка», «кобыленка») во сне-аллегории Раскольникова, готовящегося к убийству старухи. Напоминание о ней мы находим в описании трупа у Хармса: «Мертвая старуха как мешок сидит в моем кресле. Зубы торчат у нее изо рта. Она похожа на мертвую лошадь» (166).
Наиболее очевидно к роману Достоевского отсылает сцена, где герой-рассказчик вооружается молотком для крокета, чтобы защититься от мертвой старухи, которая еще двигается (у порога!). Отметим, что в следующих эпизодах, подобно Раскольникову после того, как он берет в руки топор, мысли героя проясняются:
Вихрь кружил мои мысли, и я только видел злобные глаза мертвой старухи, медленно ползущей ко мне на четвереньках.
Ворваться в комнату и раздробить этой старухе череп. Вот что надо сделать! Я даже поискал глазами и остался доволен, увидя крокетный молоток, неизвестно для чего уже в продолжение многих лет стоящий в углу коридора. Схватить молоток, ворваться в комнату и трах!.. (179)
<…>
Но я уже повернул ключ и распахнул дверь.
Старуха лежала у порога, уткнувшись лицом в пол.
С поднятым крокетным молотком я стоял наготове. Старуха не шевелилась.
Озноб прошел, и мысли мои текли ясно и четко. Я был командиром их.
— Раньше всего закрыть дверь! — скомандовал я сам себе.
Я вынул ключ с наружной стороны двери и вставил его с внутренней. Я сделал это левой рукой, а в правой я держал крокетный молоток и все время не спускал со старухи глаз. Я запер дверь на ключ и, осторожно переступив через старуху, вышел на середину комнаты. (181)
<…>
Я моментально вскочил и схватил крокетный молоток. Я опять перешагнул через старуху, поставил молоток возле самой двери, чтобы, вернувшись обратно, я бы мог, не входя еще в комнату, иметь молоток в руках, и вышел в коридор. (181)
<…>
Снаружи все было спокойно. Я подошел к двери и, приотворив ее, заглянул в комнату. Старуха по-прежнему спокойно лежала, уткнувшись лицом в пол. Крокетный молоток стоял у двери на прежнем месте. Я взял его, вошел в комнату и запер за собою дверь на ключ. (182)
<…>
Я взял крокетный молоток и пошарил им в углу. Нет, челюсть пропала. Тогда я вынул из комода толстую байковую простыню и подошел к старухе. Крокетный молоток я держал наготове в правой руке, а в левой я держал байковую простыню. (183)
<…>
Тогда я расстелил по полу байковую простыню и подтянул ее к самой старухе. Потом ногой и крокетным молотком я перевернул старуху через левый бок на спину. Теперь она лежала на простыне. Ноги старухи были согнуты в коленях, а кулаки прижаты к плечам. Казалось, что старуха, лежа на спине, как кошка, собирается защищаться от нападающего на нее орла. Скорее, прочь эту падаль! (183)
Все в этой сцене напоминает беспокойные действия Раскольникова после убийства: жесты, психологическое состояние, лексика и т. д.:
Он положил топор на пол, подле мертвой, и тотчас же полез ей в карман, стараясь не замараться текущею кровию, — в тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме, затмений и головокружений уже не было, но руки всё еще дрожали. Ключи он тотчас же вынул; все, как и тогда, были в одной связке, на одном стальном обручке. Тотчас же он побежал с ними в спальню. (63)
<…> Бросив ключи, и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнул еще раз над старухой, но не опустил. (63)
<…>
Кошелек был очень туго набит; Раскольников сунул его в карман, не осматривая, кресты сбросил старухе на грудь и, захватив на этот раз и топор, бросился обратно в спальню.
Он спешил ужасно, схватился за ключи и опять начал возиться с ними. Но как-то все неудачно: не вкладывались они в замки. (64)
<…>
Вдруг послышалось, что в комнате, где была старуха, ходят. Он остановился и притих, как мертвый. Но всё было тихо, стало быть, померещилось. Вдруг явственно послышался легкий крик, или как будто кто-то тихо и отрывисто простонал и замолчал. Затем опять мертвая тишина, с минуту или с две. Он сидел на корточках у сундука и ждал едва переводя дух, но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни. (64–65)
<…>
Раскольников стоял и сжимал топор. Он был точно в бреду. Он готовился даже драться с ними, когда они войдут. Когда стучались и сговаривались, ему несколько раз вдруг приходила мысль кончить всё разом и крикнуть им из-за дверей. Порой хотелось ему начать ругаться с ними, дразнить их, покамест не отперли. «Поскорей бы уж!» — мелькнуло в его голове. (68)
Можно найти еще немало деталей из «Преступления и наказания», воспроизведенных у Хармса в перевернутом, гротескном виде, или, во всяком случае, сниженных, передразненных, имеющих явно пародийный оттенок. Так, например, оба героя пугаются, услышав шум на лестнице (у Хармса: «В это время громко хлопнула наружная дверь, и мне показалось, что старуха вздрогнула»; 181). Или еще: прежде чем герои берут себя в руки и действуют хладнокровно, как во втором процитированном выше отрывке («мысли мои текли ясно и четко»), они оба испытывают мучительный голод, который туманит их мысли и определяет поведение. Читаем у Хармса:
Я хожу по комнате и начинаю чувствовать голод, все сильнее и сильнее. От голода я начинаю даже дрожать. Я еще раз шарю в шкапике, где хранится у меня провизия, но ничего не нахожу, кроме куска сахара.
<…>
Надо раньше всего поесть, тогда мысли будут яснее и тогда я предприму что-нибудь с этой падалью.
(168–169)
У Достоевского в конце первой главы «Преступления и наказания» Раскольников заходит в харчевню, чтобы подкрепиться, так как свою слабость он объясняет голодом (здесь кусок сахара помогает молодому человеку!):
Один какой-нибудь стакан пива, кусок сахара, — и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения!
(11)
И далее, когда старуха-процентщица спрашивает его, отчего он бледен и дрожит, он отвечает: «Поневоле станешь бледный… коли есть нечего» (62).
Герои испытывают одинаковое чувство страха и неотвязного отвращения (у Хармса: «Брезгливый страх к себе вызывала эта мертвая старуха» (183); у Достоевского: «Он <…> почувствовал к ней непреодолимое отвращение» (53), это слово неоднократно повторяется). Оба беспрестанно твердят себе, что надо бежать, и оба рассеянны и тянут время, когда надо действовать: герой Хармса отправляется в булочную или дремлет на своей кушетке, а что касается Раскольникова, то «минутами он как будто забывался или, лучше сказать, забывал о главном и прилеплялся к мелочам» (65).
Встреча героя Хармса с пьяницей («На углу Литейной какой-то пьяный, пошатнувшись, толкнул меня. Хорошо, что у меня нет револьвера: я бы убил его тут же на месте»; 177) явно отсылает нас к двум встречам с пьяными и к встрече с Мармеладовым в первой главе «Преступления и наказания».
Отметим также финал повести Хармса. Сразу вслед за молитвой перед гусеницей следует: «На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась» (188). Этот финал напоминает заключительные строки романа Достоевского о «постепенном перерождении» героя, которое, впрочем, не описывается: «…но теперешний рассказ наш окончен» (422).
Можно было бы привести и другие примеры спародированных образов, но все они являются главным образом указателями, внешними атрибутами сходства. Однако есть и гораздо более глубокий пласт для сравнения.
Очевидно, более важен мотив детства, выводящий нас далеко за рамки двух произведений: дети без конца мешают герою Хармса, он хочет избавиться от них, они внушают ему не меньшее отвращение, чем старики и трупы (эту тему герой затрагивает в беседе с Сакердоном Михайловичем[516]). В «Преступлении и наказании» тема детства вводится рассказом о подлостях Мармеладова и первым упоминанием о Соне. Тема эта, однако, являясь сквозной в творчестве Достоевского, прежде всего связана с «Братьями Карамазовыми». У Хармса она решительным образом перевернута (напомним известный «афоризм» писателя: «Травить детей — это жестоко. Но что-нибудь надо же с ними делать!»[517]). Отметим, кстати, что эту равную неприязнь Хармса к детям и к старикам (так же как к зародышам и покойникам) можно истолковать как метафизический ужас перед двумя симметрично окружающими человеческую жизнь «идеально черными вечностями», то есть ужас перед возможной пустотой небытия, перед «безличной тьмой по оба предела жизни» (В. Набоков[518]).
Сказанное объясняет присутствие других важнейших мотивов повести Хармса, в том числе самого главного из них: мотива тления. Эта тема звучит и у Достоевского в связи с вопросом о бренности плоти, о воскресении и вообще о том, что происходит после смерти. Сразу после совершения преступления Раскольников на мгновение испугался, что процентщица не умерла:
Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи, и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнул еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая. Нагнувшись и рассматривая ее опять ближе, он увидел ясно, что череп был раздроблен и даже сворочен чуть-чуть на сторону. Он было хотел пощупать пальцем, но отдернул руку; да и без того было видно.
(63–64)
То же самое чудится и герою Хармса, который, как и Раскольников, наклоняется над старухой, чтобы убедиться в ее смерти; жесты одинаковы, описание столь же натуралистично:
Старуха не движется. Я нагибаюсь и заглядываю старухе в лицо. Рот у нее приоткрыт и изо рта торчит соскочившая вставная челюсть. И вдруг мне делается ясно: старуха умерла.
<…> Я с ненавистью посмотрел на старуху. А может быть она и не умерла? Я щупаю ее лоб. Лоб холодный. Рука тоже. Ну что мне делать?
(166)
Сомнение Раскольникова повторяется, таким образом, у Хармса, который в своей повести развивает и воплощает в отталкивающе-комичном плане страхи героя Достоевского. Напомним, что дальше в романе Достоевского старуха вновь появляется во сне героя, который расположен между диалогом о воскресении Лазаря и появлением Свидригайлова[519]: здесь, несмотря на удары топором Раскольникова, «старушонка сидела и смеялась» и решительно не умирала: «<…> а старушонка так вся и колыхалась от хохота» (213).
Воплощением этих страхов является у Хармса образ ползущего, но уже разлагающегося трупа старухи (хотя умерла она всего лишь несколько часов назад):
Может быть, это только показалось, но мне в лицо пахнул приторный запах начавшегося разложения. Я заглянул в приотворенную дверь и, на мгновение, застыл на месте. Старуха на четвереньках медленно ползла ко мне навстречу. (178)
<…>
Да, в комнате определенно пахло трупом. Я перешагнул через старуху, подошел к окну и сел в кресло. Только бы мне не стало дурно от этого пока еще хоть и слабого, но все-таки нестерпимого запаха. Я закурил трубку. Меня подташнивало, и немного болел живот.
Ну что же я так сижу? Надо действовать скорее, пока эта старуха окончательно не протухла. Но, во всяком случае, в чемодан ее надо запихивать осторожно, потому что как раз тут-то она и может тяпнуть меня за палец. (182)
Повторенная деталь — «нестерпимый запах» трупа — позволяет развернуть цепь гораздо более серьезных параллелей: это и «тлетворный дух», исходящий от тела святого старца Зосимы, так потрясший Алешу Карамазова; и, в особенности, центральная в «Преступлении и наказании» тема воскрешения Лазаря (уже через несколько дней сильно затронутого тлением), возникающая в романе дважды: в разговоре Раскольникова с Порфирием Петровичем, а затем с Соней в эпизоде чтения Евангелия; и a fortiori Воскресение Христа (ср. описание картины Гольбейна «Мертвый Христос» в романе «Идиот»), и вообще воскресение мертвых.
Несмотря на несомненную пародийную составляющую «Старухи», было бы сильным упрощением свести к ней всю повесть. Последний пример подводит нас к самой сути философии Хармса, которая перекликается с мыслями Достоевского о вере и безверии. И неудивительно, что, как и у Достоевского, эта тема проявляется в ходе трех философских диалогов, составляющих структуру текста Хармса.
Таким образом, при всей правомерности рассмотрения повести «Старуха» как пародии, такого подхода оказывается недостаточно, чтобы оценить всю глубину этого произведения. Как совершенно справедливо указал Р. Айзлвуд: «Может показаться, что в раскрытии этих тем заложены элементы пародии, но, в конечном счете, Хармс не преуменьшает их важности; скорее он переносит их из области идей в область повседневного бытия»[520].
До сих пор мы говорили о точках соприкосновения в основном на тематическом уровне, между «Старухой» и «Преступлением и наказанием». Укажем теперь (пусть это и покажется излишним) на принципиальное различие сюжетов двух текстов, а именно на то, что в повести Хармса нет преступления. Инверсия абсолютна, текст предстает как рассказ о следствиях, не имеющих причин: герой вынужденно ведет себя как преступник, и делает это осознанно. Решая избавиться от трупа, он отмечает: «У меня возник план, к которому обыкновенно прибегают убийцы из уголовных романов и газетных происшествий» (181). Несмотря на отсутствие преступления (то есть причины), он воспроизводит действия убийцы (то есть следствие). Разумеется, здесь нельзя не вспомнить об искусе преступления, воображаемого, но не совершенного в «Братьях Карамазовых». Этот подтекст несомненно присутствует в повести Хармса, однако нарушение причинно-следственных связей в «Старухе» представляется нам интересным и в других отношениях.
Дело в том, что Хармс увлечен проблемой упорядоченности мира. Это понятие является центральным в начальном периоде становления писателя и выражается в систематических попытках создания (или восстановления) правильного порядка в мире. В программном письме к актрисе ТЮЗа Пугачевой от 16 октября 1933 года он прямо пишет об этом:
Мир стал существовать, как только я впустил его в себя. Пусть он еще в беспорядке, но все же существует!
Однако я стал приводить мир в порядок. И вот тут появилось Искусство. Только тут понял я истинную разницу между солнцем и гребешком, но в то же время я узнал, что это одно и то же.
Теперь моя забота создать правильный порядок. Я увлечен этим и только об этом и думаю. Я говорю об этом, пытаюсь это рассказать, описать, нарисовать, протанцевать, построить. Я творец мира, и это самое главное во мне. Как же я могу не думать постоянно об этом! Во все, что я делаю, я вкладываю сознание, что я творец мира. И я делаю не просто сапог, но, раньше всего, я создаю новую вещь. Мне мало того, чтобы сапог вышел удобным, прочным и красивым. Мне важно, чтобы в нем был тот же порядок, что и во всем мире: чтобы порядок мира не пострадал, не загрязнился от прикосновения с кожей и гвоздями, чтобы, несмотря на форму сапога, он сохранил бы свою форму, остался бы тем же, чем был, остался бы чистым[521].
Такое оптимистическое видение роли творца в мире звучит в унисон с грандиозными утопиями авангарда. Однако, как отмечалось выше, второй период творчества писателя отмечен горьким разочарованием: проза Хармса тридцатых годов — не что иное, как признание непоправимого мирового бес-порядка[522]. Он видит перед собой мир утраченного порядка в самом буквальном смысле этого слова. В подтверждение приведем лишь один пример — «Сонет» (1935) из цикла «Случаи»:
Удивительный случай случился со мной: я вдруг забыл, что идёт раньше — 7 или 8?
Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу.
Каково же было их и моё удивление, когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счёта. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 помнят, а дальше забыли.
Мы все пошли в коммерческий магазин «Гастроном», что на углу Знаменской и Бассейной улицы, и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек и, слегка подвигав носом, сказала: «По-моему, семь идёт после восьми в том случае, когда восемь идёт после семи».
Мы поблагодарили кассиршу и с радостью выбежали из магазина. Но тут, вдумываясь в слова кассирши, мы опять приуныли, так как её слова показались нам лишёнными всякого смысла.
Что нам было делать? Мы пошли в Летний сад и стали там считать деревья. Но дойдя в счёте до 6-ти, мы остановились и начали спорить: по мнению одних дальше следовало 7, по мнению других — 8.
Мы спорили бы очень долго, но, по счастию, тут со скамейки свалился какой-то ребёнок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора.
А потом мы разошлись по домам[523].
Шутливо-анекдотичный по характеру текст ставит тем не менее важный вопрос о последовательности событий: в жизни, как и в любом повествовании, событие (причина) влечет за собой результат (следствие), и было бы немыслимо поменять их местами. Преступление влечет за собой наказание; наказание не может быть прежде преступления, как восемь не бывает прежде семи. Однако именно это происходит в «Старухе». Нарушение причинно-следственной цепи служит Хармсу средством изображения полной неопределенности, в которой живет его герой (да и он сам). Потеря ориентиров рождает тревогу, которая изматывает «абсурдного» человека. В таком мире все становится возможным, именно это показывает проза Хармса тридцатых годов: ссоры вспыхивают безо всякой причины (и могут так же неожиданно утихнуть), люди исчезают, испаряются, и самый невероятный абсурд воплощается в реальность. Трагизм заключается в том, что в контексте террора тридцатых годов мир индетерминизма смыкается с реальностью: ведь аресты безвинных людей были нормой, и конечно же не случайно, что такой важный персонаж, как Сакердон Михайлович, напоминает Олейникова, арестованного, как и многие другие (например, Заболоцкий), незадолго до этого… Таким образом, в «Старухе» реально присутствует политический подтекст. Одновременно интересно отметить, что Хармс то же самое писал уже двенадцатью годами ранее в пьесе «Елизавета Вам» (1927), своем первом большом произведении, где два странноватых «служителя закона» приходят арестовывать героиню:
Стук в дверь, потом голос
Елизавета Бам, именем закона, приказываю Вам открыть дверь.
М о л ч а н и е.
Первый голос
Приказываю Вам открыть дверь!
М о л ч а н и е.
Второй голос (т и х о)
Давайте ломать дверь.
Первый голос
Елизавета Бам, откройте, иначе мы сами взломаем!
Елизавета Бам
Что вы хотите со мной сделать?
Первый
Вы подлежите крупному наказанию.
Елизавета Бам
За что? Почему вы не хотите сказать мне, что я сделала?
Первый
Вы обвиняетесь в убийстве Петра Николаевича Крупернак.
Второй
И за это Вы ответите.
Елизавета Бам
Да я не убивала никого!
Первый
Это решит суд[524].
Этот арест нужно толковать не только как политическую аллюзию, но гораздо шире — как отражение беспорядка мира в целом.
Следовательно, необходимо подчеркнуть, что «Старуху» и «Преступление и наказание» связывают не столько «тематические указатели», рассыпанные по всему тексту повести, сколько коренная инверсия временной последовательности. Здесь мы попадаем в апокалиптическое время, где возможны фундаментальные меж-текстовые параллели. Например, параллель между отсутствием стрелок на стенных часах старухи (повесть Хармса), утверждением «Времени больше не будет» из «Откровения», смысл которого стал понятен Ипполиту перед попыткой самоубийства («Идиот»), о чем он заявляет в «необходимом объяснении», и часами, остановленными Кирилловым в решающий момент («Бесы»).
Как было упомянуто, в «Старухе» присутствуют три «философских» диалога (назовем их так), которые определенным образом организуют текст. Первый — это диалог героя у булочной с «дамочкой», с которой он заигрывает и приглашает к себе, пока вдруг не вспоминает о трупе старухи; второй — с Сакердоном Михайловичем за водкой с сардельками; и третий — со своими собственными мыслями. Философский диалог является, безусловно, еще одной точкой соприкосновения между двумя авторами, и если по форме — лапидарной и схематичной — диалоги Хармса походят на пародию, то по серьезности затронутых в них вопросов они ничуть не уступают Достоевскому.
В первом диалоге, посреди обычного бытового разговора, герой вдруг совершенно неожиданно спрашивает собеседницу, верит ли она в Бога:
Я. Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с вами вместе выпить.
Она: И я тоже хотела бы выпить с вами водки.
Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи?
Она (сильно покраснев): Конечно, спрашивайте.
Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога?
Она (удивленно): В Бога? Да, конечно.
Я: А что вы скажете, если нам сейчас купить водки и пойти ко мне. Я живу тут рядом.
(171)
Во втором диалоге вопрос поднимается вновь и на этот раз принимает неожиданный оборот:
Сакердон Михайлович внимательно посмотрел на меня.
— Хотите еще водки? — спросил он.
— Нет, — сказал я, но, спохватившись, прибавил: — Нет, спасибо, я больше не хочу.
Я подошел и сел опять за стол. Некоторое время мы молчим.
— Я хочу спросить вас, — говорю я наконец. — Вы веруете в Бога?
У Сакердона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, и он говорит:
— Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека пятьдесят рублей в долг, если вы видели, как он только что положил себе в карман двести. Его дело: дать вам деньги или отказать; и самый удобный и приятный способ отказа — это соврать, что денег нет. Вы же видели, что у того человека деньги есть, и тем самым лишили его возможности вам просто и приятно отказать. Вы лишили его права выбора, а это свинство. Это неприличный и бестактный поступок. И спросить человека: «веруете ли в Бога?» — тоже поступок бестактный и неприличный.
— Ну — сказал я, — тут уж нет ничего общего.
— А я и не сравниваю, — сказал Сакердон Михайлович.
— Ну, хорошо, — сказал я, — оставим это. Извините только меня, что я задал вам такой неприличный и бестактный вопрос.
— Пожалуйста, — сказал Сакердон Михайлович. — Ведь я просто отказался отвечать вам.
Я бы тоже не ответил, — сказал я, — да только по другой причине.
— По какой же? — вяло спросил Сакердон Михайлович.
— Видите ли, — сказал я, — по-моему, нет верующих или неверующих людей. Есть только желающие верить и желающие не верить.
— Значит, те, что желают не верить, уже во что-то верят? — сказал Сакердон Михайлович. — А те, что желают верить, уже заранее не верят ни во что?
— Может быть, и так, — сказал я. — Не знаю.
— А верят или не верят во что? В Бога? — спросил Сакердон Михайлович.
— Нет, — сказал я, — в бессмертие.
— Тогда почему же вы спросили меня, верую ли я в Бога?
— Да просто потому, что спросить: верите ли вы в бессмертие? — звучит как-то глупо, — сказал я Сакердону Михайловичу и встал.
(175–176)
Отметим употребление в этом диалоге глагола «веровать» (в отличие от «верить» в первом), того же самого, что использован в «Преступлении и наказании» и в других произведениях Достоевского в диалогах о Боге. По сути дела, рано или поздно этот вопрос встает перед героями всех больших романов Достоевского. Опуская многочисленные примеры, необходимо тем не менее отметить мимоходом, что «желать верить» смыкается с «буду верить» Шатова, а «желать не верить» — с бунтом Ивана Карамазова[525].
Но, оставаясь в рамках «Преступления и наказания», необходимо еще раз вернуться к диалогу Раскольникова с Порфирием Петровичем, который также совершенно неожиданно и, казалось бы, не к месту спрашивает молодого человека сначала о том, верит ли он в Бога, затем, верит ли он в воскресение Лазаря, и, наконец, «буквально» ли он верит в это чудо, на что Раскольников отвечает утвердительно (кстати, следователь, также как и рассказчик Хармса, извиняется за этот вопрос):
— И-и-и в бога веруете? Извините, что так любопытствую.
— Верую, — повторил Раскольников, поднимая глаза на Пор-фирия.
— И-и в воскресение Лазаря веруете?
— Be-верую. Зачем вам всё это?
— Буквально веруете?
— Буквально.
— Вот как-с… так полюбопытствовал. Извините-с.
(201)
Тема эта поднимается вновь в сцене чтения Евангелия: Соня читает Раскольникову именно место, знаменующее победу Христа над смертью, над бренностью уже тронутого тлением и смердящего тела. Происходит чудо («И вышел умерший»), после которого многие «уверовали в него» (251). Здесь перед нами открывается другая магистральная тема, которой проникнуто творчество обоих писателей: бессмертие. Она затрагивалась в вышеприведенном диалоге с Сакердоном Михайловичем, она же находится в центре третьего, на этот раз внутреннего диалога, который герой ведет со своими собственными мыслями:
— Покойники, — объясняли мне мои собственные мысли, — народ неважный. Их зря называют покойники, они скорее бес-покойники. За ними надо следить и следить. Спросите любого сторожа из мертвецкой. Вы думаете, он для чего поставлен там? Только для одного: следить, чтобы покойники не расползались. Бывают, в этом смысле, забавные случаи. Один покойник, пока сторож, по приказанию начальства, мылся в бане, выполз из мертвецкой, заполз в дезинфекционную камеру и съел там кучу белья. Дезинфекторы здорово отлупцевали этого покойника, но за испорченное белье им пришлось рассчитываться из своих собственных карманов. А другой покойник заполз в палату рожениц и так перепугал их, что одна роженица тут же произвела преждевременный выкидыш, а покойник набросился на выкинутый плод и начал его, чавкая, пожирать. А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом. Да, покойники народ неважный, и с ними надо быть начеку.
— Стоп! — сказал я своим собственным мыслям. — Вы говорите чушь. Покойники неподвижны.
— Хорошо, — сказали мне мои собственные мысли, — войди тогда в свою комнату, где находится, как ты говоришь, неподвижный покойник.
Неожиданное упрямство заговорило во мне.
— И войду! — сказал я решительно своим собственным мыслям.
— Попробуй! — сказали мне мои собственные мысли.
Эта насмешливость окончательно взбесила меня. Я схватил крокетный молоток и кинулся к двери.
(179–180)
Так о каком же бессмертии идет речь? Гротескное развитие этой темы неразрывно связано у Хармса с его концепцией нарушенного мирового порядка и временной последовательности событий, о чем уже шла речь: если может быть наказание без преступления, то и смерть необязательно влечет за собой конец жизни (бес-порядок —> бес-покойники). И куда поместить чудо воскресения — то самое, в котором усомнились самые близкие к вере герои Достоевского (Мышкин перед «Христом» Гольбейна, Алеша у гроба старца), и, одновременно, то самое чудо, к которому взывает герой Хармса («Неужели чудес не бывает?»).
Жажда чуда является жизненно важной как для героя Хармса, так и для него самого. Это отражено во многих записях писателя совпадающих по времени с написанием «Старухи»: «Есть ли чудо. Вот вопрос, на который я хотел бы услышать ответ»[526]. В другом месте из записных книжек чудо определяется так: «Интересно только чудо, как нарушение физической структуры мира»[527].
Заключительная сцена, в которой герой, преклонив колени, совершает молитву перед гусеницей, оставляет повесть открытой, что дало повод некоторым исследователям для очень оптимистических толкований, которых мы не разделяем. Более того, представляется, что в «Старухе» Хармс трагичнее Достоевского, в том смысле, что единственным «нарушением физической структуры мира» в повести является разложение трупа старухи. Предстоит, разумеется, «энтомологическое чудо» превращения гусеницы в бабочку. Как было нами уже отмечено, насекомое, пригвожденное к земле, пока что ползет как старуха, но скоро «взовьется в воздух, обманет притяжение…, станет почти Богом. Ненадолго конечно, но что бы не отдал бедный человек, дабы испытать подобное вознесение. Увы, чудо при этом останется строго в рамках энтомологии…»[528] Напомним также, что герой пишет текст о чудотворце, который не творит чудес, и что текст этот так и остается не написанным: таким образом, в повести нет и чуда творчества. Однако это уже другая тема[529].
Как видим, повесть Хармса, тематически и идейно связанная с произведением Достоевского, не ограничивается лишь его пародированием. Прежде всего, конечно отказавшись от причинно-следственной связи — «наказание без преступления», писатель с явным осуждением смотрит на свою эпоху. Но помимо того, он подхватывает, пусть даже порой в форме гротеска, вопросы и размышления Достоевского о вере, смерти, воскресении, чуде, бессмертии… Не давая ответов, он выявляет то, что движет как им самим, так и героями Достоевского, а именно — метафизическое сомнение. Только в нем и таится надежда на утешение, ведь, по словам Хармса: «Сомнение — это уже частица веры»[530].
Перевод с французского Г. Мкртчян
Между «до» и «после»
(Эротический элемент в поэме Пушкина «Руслан и Людмила»)[*]
Среди вопросов, которые возникают при анализе поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», один из самых сложных — это вопрос об организующем принципе. Проблема, в первую очередь, связана с определением жанра, к которому принадлежит поэма. Сразу после ее публикации в 1820 году этот вопрос стал главным предметом споров, хотя, кажется, эти споры не дали никакого результата. Со своей стороны, мы не собираемся разрешить эту задачу, но кажется небесполезным напомнить, что в поэме представлена удивительная смесь разных жанров и что эта смесь как раз и является главным ее своеобразием. Основным материалом являются, конечно, мотивы русского фольклора — старинных сказок и былин. В русской литературе тем же материалом пользовался В. А. Жуковский в балладе «Двенадцать спящих дев». Из общеевропейских источников необходимо упомянуть прежде всего «Неистового Роланда» Л. Ариосто, «Орлеанскую девственницу» Вольтера и «Оберон» К. М. Виланда. К этому надо еще прибавить влияние эротической поэзии, в частности Э. Парни, некоторые стихи которого переложены почти буквально в «Руслане и Людмиле». Каждый из этих возможных источников заслуживает отдельного разговора, но, повторяем, интереснее задуматься над тем, как Пушкин их синтезировал, преобразуя в свою оригинальную систему.
Подход Пушкина к проблеме жанра в «Руслане и Людмиле» показывает, что он играет в некоторую литературную игру: блестящее чередование сказочного и эпического, волшебного и лирического, средневекового и современного является самым большим достоинством поэмы. Всякая попытка свести ее только к одной из этих характерных черт обречена на неудачу.
Интрига также требует некоторых предварительных замечаний, поскольку она связывает «Руслана и Людмилу» с целой традицией европейского литературного наследия, а именно со средневековым рыцарским романом. Мотив похищения жены, невесты или любимой женщины очень распространен в ирландском и бретонском циклах. Стоит упомянуть роман XII века Кретьена де Труа «Рыцарь телеги», в котором герой Ланселот разыскивает свою любовницу, королеву Джиневру. Еще ближе поэма Пушкина оказывается к некоторым старинным ирландским сказкам[532]. Можно упомянуть довольно известную «Любовь к Этайн», но еще более «Руслан и Людмила» походит на другую ирландскую сказку — «Этна новобрачная»: героиня со своим супругом, также как и пушкинская пара, только что поженились, и во время праздника в замке она вдруг глубоко засыпает; немного спустя ее похищает король-волшебник Финварра. Как и в поэме Пушкина, она спит очень долго и просыпается благодаря чудесному предмету. Нужно назвать еще лэ «Сэр Орфео», в котором королева Юродис, также после долгого летаргического сна, в котором она видит предшествующие события, похищена магической силой[533] и насильственно водворена в очень богато обставленный дворец. Можно также напомнить сказку «Супруга Бальмачизского Владельца», в которой у героя похищают жену и подменяют ее двойником, или «Мэри Нельсон», которую волшебная сила уносит в ту ночь, когда она должна рожать, и т. д. Мотив восходит к греческой мифологии: вспомним исчезновение жены Орфея Эвридики, которое, кстати говоря, является источником вышеупомянутого лэ «Сэр Орфео». Однако у Пушкина движение фабулы подчиняется известным правилам построения, восходящим к средневековым рыцарским романам (вызов, блуждания, поиск, препятствия, сражения, куртуазная любовь и т. п.), хотя очевидно, что здесь присутствует пародийный момент: на самом деле эти правила постоянно нарушаются и составляют, в конце концов, лишь условную псевдосредневековую рамку.
Фабула не изменена: королеву или княжну похищает какая-то сверхъестественная сила (Бог или нечисть), и доблестный герой должен освободить эту женщину, но на его пути возникают препятствия (волшебства, обольщения, соперники, бои и т. д.), которые нужно мужественно преодолеть. «Руслан и Людмила», по-видимому, вписывается в старинную традицию. Однако нельзя не заметить, что Пушкин уходит от героического аспекта, сосредоточиваясь почти целиком на последствиях похищения — на неудовлетворенности сексуального желания и дальнейшем вынужденном воздержании героя. Этот параметр присутствует, конечно, и в рыцарском романе, но на периферии сюжета. Известны в «Рыцаре телеги» томления Ланселота, который забывает все, вплоть до собственного имени, ибо мысль о королеве Джиневре переполняет его существо. После расставания с Говеном он впадает в такое же бессознательное состояние, что и Руслан после расставания с соперниками — Фарлафом, Ратмиром и Рогдаем. Оба, во власти неотвязной мысли, «бросают узду» и представляют лошади выбирать дорогу самой:
<Рыцарь> телеги замечтался, как человек без сил и без защиты перед Любовью, владеющей им. И в своих мечтах он достиг такой степени самозабвения, что уж и не знал, есть ли он или нет его. Своего имени он не помнит и не знает, вооружен он или нет. Не знает, ни откуда приехал, ни куда едет, ничего не помнит, кроме одной вещи, только одной, которой ради все остальные канули для него в забвение. Только о ней он и думает, и так много, что ничего не видит и не слышит. Однако его быстро уносит конь, не отклоняясь от прямого пути[534].
(19)
- Руслан томился молчаливо,
- И смысл и память потеряв[535].
- Что делаешь, Руслан несчастный,
- Один в пустынной тишине?
- Людмилу, свадьбы день ужасный,
- Все, мнится, видел ты во сне.
- На брови медный шлем надвинув,
- Из мощных рук узду покинув,
- Ты шагом едешь меж полей,
- И медленно в душе твоей
- Надежда гибнет, гаснет вера.
Этот мотив у Пушкина занимает тем больше места, что, в противоположность рыцарям Средневековья, которые почти беспрестанно сражаются с врагами, Руслан проводит намного больше времени, вздыхая и мечтая об удовлетворении своего желания, чем совершая отважные поступки. Такие поступки немногочисленны и, вдобавок, поданы гротескно (сражение с головой, с Черномором, с печенегами). Становится очевидным, что в поэме главное — игра эротической тематикой. На эту особенность, впрочем, обратил внимание еще в 1821 году «благонамеренный» критик, пожалев, что «перо Пушкина, юного питомца муз, одушевлено не чувствами, а чувствительностью»[536]. Как бы то ни было, если прочесть «Руслана и Людмилу» с этой точки зрения, поэма становится особенно забавной.
Такое прочтение мы и хотим предложить в настоящей статье, исходя из трех постулатов. Во-первых, нам кажется, что основной замысел Пушкина состоит в игре. Эта игра столько же стилистическая (жанровая смесь), сколько тематическая. Во-вторых, тот факт, что герой проводит больше времени в бездействии, вздыхая, ожидая, словом, претерпевая события, вместо того чтобы их подчинить себе, показывает, что произведение выходит за рамки жанра, к форме которого восходит поэма Пушкина (рыцарский роман). Тут драматическая динамика зависит почти исключительно от любви в крайнем выражении ее куртуазного варианта, то есть секса. Как мы увидим, самое главное для Руслана, у которого похитили жену в брачную ночь, в самый разгар его желания, в самом начале полового акта, и даже, по всей видимости, во время его, цель поиска очень проста и даже прозаична: он хочет закончить то, что начал, то есть удовлетворить свое желание. Есть, видимо, некое наслаждение в задержке сексуального удовлетворения, но есть также наслаждение, связанное с выражением этой затяжки, и это третий важный момент: существует прямая связь между желанием и процессом писания. Последний зависит от первого, и можно сказать, что вся поэма развивается в крайнем напряжении, которое представляет собой такое обострение желания. Мы увидим, что Пушкин тут утрирует другой старинный прием рыцарского романа.
Начиная с «Посвящения», поэма поставлена под знак эротизма, поскольку рассказчик утверждает, что он сочиняет стихи для красивых женщин, и для них исключительно:
- Для вас, души моей царицы,
- Красавицы, для вас одних
- Времен минувших небылицы,
- В часы досугов золотых,
- Под шепот старины болтливой,
- Рукою верной я писал.
Как мы увидим в дальнейшем, цель рассказчика — не изложить отважные поступки храброго рыцаря, а возбудить в душе слушательниц любовное волнение. Причем с самого начала установлено динамическое отношение желания (писания). В первых же строках признается далекий от добродетели характер этого «труда игривого»:
- Ничьих не требуя похвал,
- Счастлив уж я надеждой сладкой,
- Что дева с трепетом любви
- Посмотрит, может быть, украдкой
- На песни грешные мои.
Проследим теперь за ходом приключений Руслана и Людмилы.
Рассказ начинается совершенно традиционным в рыцарских романах образом — с пира во дворце царствующего короля, в данном случае — Владимира-Солнца, в честь своей дочери, которая выходит замуж за Руслана. Однако последний отнюдь не веселится: «храбрый Руслан» (13) томится в ожидании того момента, когда он останется один на один со своей красивой супругой: