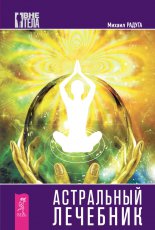В случае счастья Фонкинос Давид

Заметив опрокинутую физиономию Алена, доктор Ренуар в ту же секунду захлопнул ставни. Когда его беспокоили, он всегда с особой остротой ощущал человеческую бесцеремонность. По воскресеньям он старался не подавать признаков жизни. Но вспышка раздражения сразу погасла, растаяв в мучительных спазмах совести. От судьбы не уйдешь; в роду Ренуаров профессия врача веками переходила от отца к сыну (а другие Ренуары, подумать только, перешли от живописи к кино.); на протяжении десятков поколений их воскресенья портила неуемная рать соседей. Он со вздохом открыл дверь:
– Что с тобой такое стряслось?
– Я… я…
Алкогольные пары и порушенное воскресенье лишили Алена способности внятно изъясняться. Он только тыкал рукой в сторону дома. Ренуар решил приступить к врачебному осмотру немедленно.
– Э-э…
– Послушай, прекращай пить, честное слово. Знаю, жизнь не всегда усыпана розами, и даже далеко не всегда…
– М-м…
– Но иногда надо просто взять себя в руки и решиться. Ради здоровья ничего не жалко, ты же сам прекрасно знаешь.
Наконец Алену все же удалось затащить Ренуара к себе, и бедняга оценил масштабы катастрофы. Его взору предстало нечто ужасное: смерть воскресенья.
Ренуар поспешил выяснить, что произошло. Ален, слегка успокоившись и чувствуя себя не таким одиноким, объяснил, что его дочь ушла от зятя. Он настолько воспрянул духом, что осмелился даже выдвинуть гипотезу:
– Это ведь эмоциональный шок, да?
– Да, скорее всего, – подтвердил доктор.
Ален даже подпрыгнул на радостях, он оказался полезным, какой восторг! Но, обернувшись, снова оказался лицом к лицу с женой и вынужден был принять позу, подобающую обеспокоенному супругу. Ренуар же на миг перенесся в сладкие грезы, воображая, как бы счастливо текли его дни с дочерью соседа, раз она снова не замужем. Клер уже не первый год обитала в его мечтах, порой сопровождавшихся легкой, ненавязчивой мастурбацией. Поэтому он с особым удовольствием взялся лечить Рене и прописал ей маленький успокоительный укольчик. Потом они перенесли ее в спальню. Вскоре она уже храпела, заглушая назойливые отголоски сразивших ее событий.
Теперь следовало заняться зятем, чья карьера зятя столь плачевно завершилась. Ренуар был не лишен сострадания, но при виде мужа, брошенного женой, не смог унять задрожавшую внутри жилку ликования[6]. Марилу Ренуар ушла от него шесть лет назад. Да, его Марилу, вступило ей в голову – и ушла, даже вещей не взяла, неблагодарная. Прислала ему открытку сказать, что все кончено. Открытку, после шести лет брака…
– Маленький укольчик? – подсказал Ален.
– Нет… нет… Житейское же дело! Можно подумать, он один такой, со всяким может случиться. И хватит комедию ломать! – огрызнулся Ренуар.
Укола Жан-Жаку не досталось, зато его правая щека удостоилась увесистой пощечины. Ален оценил действенность методы и пожалел, что ее не испробовали на жене. Зять очнулся. Завращал глазами, пытаясь понять, где он. Но проснувшееся сознание сразу подсунуло ему четыре слова, сказанные женой, и он наконец расплакался.
Поскольку слезы, как ни парадоксально, означали, что пациент скорее жив, доктор Ренуар удалился – на манер скромных героев, возвращающихся после подвига к своей неприметной жизни. Ален устремился к зятю с носовым платком. Какая нелепица – первый раз в жизни он видел зятя в слезах. Точно вдруг заплакал автомобиль. Ален проявил инициативу и сбегал в погреб за новой бутылкой сливовицы. Налил рюмку человеку, чье лицо все больше походило на губку, потом налил еще и еще. Этот человек скоро станет лишь воспоминанием о зяте; а пока надо пить, чтобы забыть. Немного упорства – и, быть может, им удастся достигнуть той эпической стадии, когда забываешь, что пьешь.
Под вечер Жан-Жак, пошатываясь, бродил по саду. Он не привык много пить, распалился от алкоголя и яростно рвал цветы. Зазвонил мобильник, он лихорадочно схватил его, не сомневаясь, что звонит жена и что она уже раскаивается в своем нелепом поведении. Ничуть не бывало. Он услышал слова Клер, ясные и точные, как будто она планировала свою выходку с незапамятных времен.
– Я отвезла Луизу к Сабине.
– Зачем?
– Затем, что я сегодня вечером не дома. И в другие вечера тоже.
– Куда ты идешь?
– Не хочу говорить. Поговорим позже. Мне пока не хочется с тобой разговаривать.
– Но ты должна мне объяснить! (После паузы.) И вообще, имей в виду, если уйдешь, вернуться не рассчитывай! Ты уверена, надеюсь?
– …
– Ах, ты этого хочешь? Ну и убирайся!
Клер предпочла повесить трубку. Ее оскорбил тон Жан-Жака. Он никогда так не грубил. Теперь он извергал потоки брани. Ален, чувствуя себя отчасти виноватым, из-за сливовицы, рискнул тем не менее подать голос:
– Если вы о моей дочери, то, м-м-м… я бы попросил выбирать выражения.
– …
– Да-да, именно… Нельзя такие слова говорить… – уточнил он.
Глаза у Жан-Жака были красные. Алену пришло в голову, что лучше бы ему помолчать, бесполезно что-то требовать от человека, который за себя не отвечает. Но в конце концов Жан-Жак извинился.
– Вы ей сказали про мать? – спросил Ален.
– Ой, нет, я как-то не подумал.
– Ладно… я сам скажу, попозже.
Зрелище опрокинутой физиономии Жан-Жака действовало на него почти как современная картина: только и оставалось, что качать головой и делать вид, будто все понимаешь.
– Вот вы, Ален, вы понимаете женщин? – спросил Жан-Жак.
– Э-э…
– Все хорошо, а потом они вдруг – раз, и взрываются…
– Э-э…
– Они как с другой планеты, правда?
– Э-э…
Жан-Жак спохватился. Он, конечно, был пьян, но не настолько утратил здравый смысл, чтобы не осознать комизм ситуации: беседовать о женщинах с тестем – все равно что обсуждать фигурное катание с боксером. Он встал и молча вышел.
II
Женщины, которые уходят от мужа, валяющегося в гамаке, часто ведут себя как преступники, уходящие от облавы: в поисках убежища они возвращаются туда, где прошло их детство. Оставив Луизу у Сабины, Клер поймала такси и назвала первый адрес, который пришел ей на ум – авеню Жюно. Это было еще до Марн-ла-Кокетт. Напротив их дома по-прежнему стояла маленькая гостиница. Она решила снять там номер. С порога она взглянула на окно своей детской. Ей показалось, что на миг в окне мелькнула она сама. Она словно раздвоилась; девочка, какой она была когда-то, смотрела на ее женскую жизнь. Клер решила, что, наверно, это хороший знак.
Устроившись на новом месте, она растерялась – что теперь делать? Сидеть одной не было сил, и она позвонила Игорю. Он предложил встретиться в кафе, но она сказала, что приедет к нему домой. Ей хотелось покоя. Игорь, совершенно не готовый к такому повороту, кинулся срочно прибирать. А перед тем, как открыть дверь, схватил в руки первую попавшуюся книжку.
– Я тебе не помешала?.. Ты уверен?
– Совсем не помешала, я читал, – произнес он, отдуваясь.
Клер уселась на диван. Игорь принес чаю, потом печенья, потом шоколаду, потом опять чаю; оба не знали, о чем говорить.
– Я только что ушла от Жан-Жака, – наконец сообщила Клер. Игорь чуть не поперхнулся, кляня себя за несдержанность (поразительное сочетание). Но быстро взял себя в руки и спросил:
– Как ты себя чувствуешь?
– Ничего, по-моему… Но меня сразила его реакция, он себя вел так грубо…
– Может, это самолюбие.
– Не знаю… Все случилось так быстро… Я теперь думаю, может, он в глубине души давно этого ждал… Я его увидела в гамаке… И мне от этого гамака стало так неприятно…
– В гамаке? – насторожился Игорь.
Он потихоньку встал и, продолжая слушать Клер, прикрыл дверь в спальню. Потом опять сел.
– Ты говорила… в гамаке?..
От его манеры слушать по телу разливался покой. При первой встрече она и представить себе не могла, что он из тех мужчин, кому звонишь, когда тебе плохо. Из тех, в чьих объятиях хочется спрятаться. Он был нежный. Теперь он приближался к ней, по собственной инициативе и сам себе изумляясь, словно рыба, у которой вдруг отросли ноги. Когда первое потрясение прошло, он почувствовал, как в нем разрастается чувство доверия. Чувство усиливалось, крепло, медленно и необратимо. В тот момент, бесспорно, вершилось великое чудо человеческой психологии. Чтобы излечиться от робости, надо оказаться способным кого-то утешить (все это работает, разумеется, только с человеком, которого любишь во всех его проявлениях); чтобы излечиться от робости и неверия в себя, надо оказаться наедине с хрупкой женщиной – женщиной, которая полагается на вас и своим отношением заставляет быть таким, каким вы никогда не были. Под действием этого закона равновесия в нем пробудилась сила, о которой он даже не подозревал. Он уже никогда не забудет, как Клер положила голову ему на левое плечо. Он бы, наверно, задрожал от волнения, но волнение было таким сильным, что превратилось в немыслимую твердость. В момент, когда Клер клала голову ему на левое плечо, в момент, когда он увидел, как качнулись ее волосы; когда он коснулся ладонью волос Клер, когда погладил волосы Клер, в тот момент, когда его рука зависла в двух сантиметрах от волос Клер, – именно в эту долю секунды его робость улетучилась навсегда. В тот день его робость умерла (а для кого-то в тот день умерло воскресенье). Он всю жизнь будет помнить минуту, когда сжал в объятиях женскую хрупкость и навеки похоронил свою робость в волнах волос.
Лучше, конечно, чтобы такая женщина носила имя Клер.
В их возвышенной близости обнаружился источник неловкости. Клер поднялась с дивана:
– У тебя так мило! Можно посмотреть?
Игорь всполошился и, вскочив, загородил спиной дверь в спальню.
– Знаешь, там такой беспорядок! Лучше в другой раз.
– Правда? Точно? – переспросила она, пытаясь пройти.
– Ну пожалуйста, очень тебя прошу…
Вид у него был растерянный; можно подумать, он прятал в спальне ядерную боеголовку или, еще того хуже, другую женщину. Клер достала из сумки сигареты и заодно включила телефон, прослушать голосовые сообщения. Внезапно она изменилась в лице. Извинилась и немедленно ушла. Но прежде коснулась губ Игоря, чуть помедленнее. Оставшись один, он пошел в спальню и спрятал гамак, купленный пару дней назад.
Что делает робкий мужчина, переставший чувствовать себя робким? Он выходит из дому и устремляется в метро. Входит в переполненный вагон и пробирается в самую середину. И на перегоне между станциями начинает вопить во весь голос. На него все смотрят, его все осуждают. Он ошеломлен – оказывается, он способен выдержать целую лавину взглядов; он потрясен: он не провалился сквозь землю со стыда! Его принимают за сумасшедшего. А потом забывают о нем, ведь на следующей остановке он выходит. Походкой победителя.
Такси остановилось в Марн-ла-Кокетт. По дороге Клер позвонила отцу, предупредила, что едет. Он поджидал ее на крыльце; казалось, он стал ниже ростом. Она никогда не видела его таким потерянным. Он спустился ей навстречу, и ей почудились в его глазах стальные лезвия.
– Где ты была? Я тебе весь вечер дозвониться не мог…
– Да, я знаю… Прости…
Она вошла в дом. Он налил ей сливовицы и объяснил, что произошло. Как после ее ухода у матери случился припадок. Клер никак не думала, что разрыв так подействует на мать. Ален рассказал про Ренуара, про укольчик и последовавшую за ним долгую сиесту. Но под вечер Рене проснулась и снова начала бредить. Все время кричала: “Марчелло! Марчелло!”
– Марчелло? – удивилась Клер.
– Да, она обожает “Сладкую жизнь”. Помнишь сцену, когда…
– Ясно, – оборвала Клер. – И что было дальше?
– А что мне оставалось? Я опять отправился к Ренуару… Он пришел, хотя был занят, чинил ставни… Второй раз ему пришлось идти, да еще в воскресенье… Еще один укол ей сделал…
– Боже, это я во всем виновата…
– Просто ты могла бы вести себя потактичнее, – заключил Ален.
Клер была убита. Перед глазами вновь всплыла эта сцена; она не могла вести себя иначе… В голове стучало: Жан-Жак залез в гамак, Жан-Жак залез в гамак…
Потом она заглянула в спальню матери. Впервые за долгие годы она видела ее неподвижной. Мелькнула мысль, что это, быть может, прообраз ее смерти. Она вышла из спальни, приняла таблетку снотворного и немного поспала на диване. Наутро дела обстояли гораздо лучше. С первыми лучами солнца Рене спустилась в сад и стала полоть сорняки. Клер подошла к ней:
– Как ты себя чувствуешь, мама? Все в порядке?
– Прекрасно, девочка, не волнуйся.
– Но… вчера…
– Говорю тебе, все отлично. Ну, слетела с катушек, со всеми бывает, правда?
– …
– Пошли, я сварила кофе.
Клер с облегчением отправилась с матерью на кухню. Она боялась произнести хоть слово. Это понедельничное утро казалось ей каким-то 29 февраля, днем, как будто украденным у неизменного хода вещей. Она отпила кофе. Ее первый день незамужней женщины. Меньше всего ей хотелось вспоминать вчерашнее, но мать заговорила сама:
– Знаешь… тебе надо подумать о себе… живи своей жизнью, и будь что будет…
– …
– Жизнь-то у нас одна…
– …
Клер удивили ее слова. И тон, совсем не похожий на обычный тон Рене. Та мягко нанизывала фразы, напоминающие буддистские четки, словно ночью в нее вселился Вишну. Вообще-то удивляться тут особо нечему. Утратив (хотя бы на время) разум, люди нередко обретают мудрость. Первый раз в жизни Клер захотелось погладить мать, попытаться найти лазейку для нежности.
– Спасибо, мама… Ты меня утешаешь, я так тронута…
– Да, но знаешь… Я хотела сказать тебе одну вещь…
– Да?
– Очень важную вещь.
– Я слушаю.
– Так вот… по-моему, тебе надо побриться.
– …
– Да, я тебе добра желаю. Мужчины не любят бородатых женщин.
– …
– Борода колется, и вообще это так непрактично.
Клер провела ладонью по лицу, проверяя непостижимое; приходилось признать, что у матери легкий рецидив. Та продолжала рассуждать о волосяном покрове у женщин. Клер сказала, что ей нужно на минутку отлучиться, и отправилась к отцу. Отец лежал в постели и слушал радио, подбирая подходящую позу, словно тренировался перед послеобеденным сном. Клер изложила ситуацию; ему ничего не оставалось, как оторваться от арабо-израильского конфликта. Оба застыли в дверях кухни, глядя на Рене. Похоже, что-то пошло не так.
III
Через несколько часов после сцены с гамаком Жан-Жак уехал из Марн-ла-Кокетт. Пока такси везло его в Париж, он все время думал, до чего же Клер жестока. Что ж, если ей так хочется, он станет Эдуардом, будет наслаждаться жизнью. Какая вопиющая несправедливость: столько лет быть образцом любви и верности, и вот при первой же шалости потерять все, что посеял в поте фрустрации своей. Такси затормозило у входа в бар. Осваиваясь в шкуре холостяка, Жан-Жак окинул взором женщин. С напускной вальяжностью уселся за столик и спросил виски. Да, он сегодня и так много выпил, но ведь он теперь был другим человеком. Каждой частичке его тела, начиная с печени, пора привыкать к холостяцкой жизни, к разврату, к доступному сексу. Кстати, за этим, похоже, дело не станет: весьма элегантная женщина не сводила с него глаз. Он был высокого мнения о своей наружности и прекрасно понимал, какое неодолимое влечение пробудил в этой незнакомке. Долгие годы он носил шоры верности (Соня не в счет) и не мог испытать свои чары. Повернув голову, он заметил еще одну женщину, явно проявлявшую к нему интерес. Сколько же доступных женщин болтается по барам, просто невероятно. В газете писали, что женщин гораздо больше, чем мужчин, и вот наглядное доказательство. Клер совершила огромную ошибку. И пусть не плачет и не просится обратно, у него и так отбоя не будет от желающих.
Он направился к первой из замеченных женщин. Его пошатывало, но это могло сойти за хорошо рассчитанную небрежность. Предложил ей выпить, и женщина согласилась. Как все просто. Отпустил несколько шуток, женщина оказалась тонкой ценительницей юмора и громко смеялась. Чувства переполняли ее, и она не стала откладывать дело в долгий ящик:
– Куда поедем, в гостиницу или к вам?
Каков он соблазнитель! Уж точно не из тех, кто часами ходит вокруг да около; с ним женщины идут прямо к заветной цели. Они покорены, охвачены необузданным, звериным желанием…
– Но деньги лучше вперед, – продолжала она.
…Мужская сила в полном расцвете, чистая чувственность с легкими плотскими переливами, гремучая смесь.
– Что? – переспросил он.
– Просто чтобы сразу рассчитаться…
Озаренный внезапной догадкой, Жан-Жак обернулся: везде сидели полураздетые улыбающиеся женщины. Он попал в бар с проститутками. Он почувствовал себя смешным, как будто попался на удочку цыганке, и поскорее удрал.
Было уже очень поздно. Его тошнило и одновременно разбирал смех – какой же он дурак! В конце концов он зашел в другой бар. Здесь женщины были бесплатные, и их было мало. Он взял себе виски и подошел к одной из них. После пережитого позора приходилось все начинать с нуля.
– У вас огонька не найдется?
– Найдется, – ответила женщина, отметив про себя, что начало неважное.
Она достала зажигалку, но тут Жан-Жак обнаружил, что у него нет сигарет.
– Да вы прямо комик, – улыбнулась она.
Жан-Жак был горд. Атака удалась. Он где-то читал, что если женщина смеется, она мысленно готовится заняться любовью. Только не останавливаться, развивать успех, и как можно быстрее. Минуты шли, а в голову ничего не приходило. От отчаяния он произнес свою коронную фразу, ту, что использовал в разговорах с тестем:
– По-моему, голосовать за зеленых совершенно бессмысленно.
Повисла недоуменная пауза, а потом женщина дала ему пощечину.
Все взгляды обратились на Жан-Жака. Подошел владелец бара:
– Чтобы я тебя тут больше не видел. Нам извращенцев не надо!
Жан-Жак ушел совершенно оглушенный. Что он такого сделал, откуда такая ненависть? Вовсе не развязная фраза, наоборот, чтобы разговор завязать. После долгих мучительных раздумий он пришел к единственно возможной разгадке: Клер стоит во главе международной секты женщин, которые будут ненавидеть его всю жизнь.
По дороге домой он наконец вспомнил о Соне. Какое облегчение! Он от души пожалел бедолаг, которых бросают жены и у которых даже нет любовницы. На улице ему попался на глаза плакат с той самой женщиной, что дала ему пощечину. Он было решил, что на сей раз у него и впрямь помутнение рассудка. Но, подойдя поближе, увидел, что эта женщина возглавляет список партии зеленых на выборах в Европейский парламент. Нет, ему решительно не везет. Вишенка на торте проклятого дня. По счастью, солнце высунуло из-за горизонта свою понедельничную макушку. Добравшись до дому, он понял, что ложиться уже бессмысленно. В душ, побриться – и на работу. Он принял три таблетки витаминизированного аспирина в надежде унять головную боль и снова обрести координацию движений. Бреясь, он порезался. И залепил порез маленьким пластырем.
У лифта Жан-Жак столкнулся с Бертье, сослуживцем, занимавшимся биржевыми потоками. Оба пришли на работу первыми и – второе совпадение – с одинаковым пластырем на одном и том же месте; можно сказать, визуально уравновешивались. Обычно они обменивались служебными банальностями, но теперь их сковало молчание. Бертье первым попытался разбить лед:
– У тебя тоже проблемы с женой?
Жан-Жак пожал плечами, но изобразить улыбку не смог. Он всегда недолюбливал этого Бертье, а теперь сделает все, чтобы исподволь помочь его карьере побыстрей съехать под откос. В кабинете у Жан-Жака шевельнулась было мысль поделать отжимания, но он тут же убедился в полной бесперспективности этой идеи. Остатков сил не хватало даже на то, чтобы открыть папку с делом. Он дождался прихода Эдуарда и вывалил свою беду на него. Друга новость ошеломила. Он довольно долго не мог сказать ничего утешительного, но наконец нашел слова:
– Слушай, старик, все образуется… Все скоро уладится… Знаешь, если жена от тебя хоть раз не уходила, то это вроде как и не жена…
– …
– И я тебе всегда помогу, ведь ты мне всегда помогал… Приходи, когда хочешь, в любое время…
Последняя фраза повергла Жан-Жака в ужас. Как можно сравнивать их положение! Одно дело, когда в самолете что-то барахлит, а другое – когда он разбился. Эдуард хотел было обнять друга, но не посмел: их дружба не предполагала особого тактильного контакта. Они смущенно разошлись по кабинетам.
Это проявление дружбы его почти доконало. Большую часть дня он с упорством и дотошностью маньяка делал вид, что работает, слившись с костюмом образцового служащего. А ближе к вечеру сочинил себе страшно важную встречу с японским бизнесменом. Господином Осикими. Да-да, Осикими. Жан-Жаку очень нравилось это имя, он его подыскивал добрых полчаса. И немедленно пожалел, что встреча виртуальная – словно одинокий ребенок, придумавший себе воображаемого друга. С ним, наверно, хорошо, с этим Осикими.
IV
Жан-Жака не так-то просто было выбить из колеи. Отоспавшись ночью, он снова обрел победный ритм. Каждый вечер после работы он заезжал к Сабине повидаться с дочерью. Сабина, конечно, обо всем докладывала жене, поэтому для начала ему пришлось решить весьма непростую дилемму: что лучше – изображать прекрасное настроение и притворяться, что все идет по плану, или напустить на себя убитый вид? В конце концов он выбрал первый вариант. Он постарается не обращать внимания на решение жены; его холодность наверняка заставит ее вернуться. Но при виде дочери его напускная бодрость трещала по всем швам.
Нельзя лгать больше, чем тебе дано природой. Сабина находила, что временами он даже умилителен, и ее это трогало. Ей впервые казалось, что в этом мужчине, которого она ни в грош не ставила и считала поверхностным, проснулось что-то настоящее.
Вечера он проводил с Соней, в основном чтобы не оставаться одному. Теперь они сидели в итальянском ресторане. Заметив, что любовница в сомнениях, Жан-Жак спросил:
– Ты в порядке?
– Да… Просто не знаю, что взять, пиццу или пасту. Главная проблема итальянских ресторанов.
– Главная проблема в жизни, – иронически заметил он.
Соня собиралась за ужином завести разговор об их отношениях.
– Ты мне совсем перестал рассказывать про твою жену… И ты каждый вечер свободен…
– …
– Ты ничего не хочешь мне сказать? Мне бы так хотелось поговорить, по-настоящему, понять, что ты чувствуешь, что думаешь о будущем.
Будущее. В ту минуту “будущее" представлялось Жан-Жаку весьма расплывчатым понятием; забытое слово, обрывок забытого языка. Спасение пришло в лице пакистанца с цветами. Всей душой устремившись навстречу человеку, который позволит ему выгадать минутку и придумать смысл будущего, Жан-Жак не расслышал, как фыркнула Соня: смешно покупать цветы в такой ситуации. Он вспомнил, как Клер захотелось цветов, и заявил, что берет весь букет.
– Мадемуазель повезло, – позволил себе заметить торговец, которому собственное будущее (сегодняшний вечер) на сей раз предстало в розовом свете. Пораженная Соня засмеялась; но смех вышел сырой, замороженный, ее смех был точь-в-точь как тирамису, которое она выбрала в комплексном меню.
По дороге в гостиницу Жан-Жак ясно почувствовал, как Соня расстроена. И признал, что запутался:
– Я не на высоте, я знаю… Мне нужно время… Бывают минуты, когда все в жизни непросто…
– …
– Минуты, когда жизнь не течет широкой спокойной рекой…
Жан-Жак с радостью ухватился за эту избитую фразу. Она всплыла в его пустынном мозгу, словно спасательный круг перед носом утопающего. Соня была достаточно влюблена, чтобы услышать в этой фразе начало диалога, нечто вроде буквы “б" в слове “будущее". А главное, ей не хотелось приставать к любимому с вопросами; ведь у него и так все сложно (бедняжка!). Она поцеловала его и поставила едва живые цветы в бесцветную вазу.
Заниматься любовью Жан-Жаку не хотелось. Он включил телевизор и попал на последние кадры “Неба над Берлином". При виде его восторга Соня пожалела, что не смотрела фильм. На экране появилось слово Ende[7]. Фильм напомнил ему Клер, фильм, по сути, и был ею. Она вдруг резко, стремительно заполнила его целиком. Жан-Жак закашлялся, задыхаясь; сказал, что хочет пройтись, и вышел, не оглянувшись. Он шагал по улице, и Париж превращался в Берлин. Два города сливались для него воедино. Берлин из фильма поселился в нем неотступным воспоминанием. А Париж распался. Теперь Париж разделяла стена.
И они жили по разные ее стороны.
От нечего делать Жан-Жак отправился к Эдуарду. Друг встретил его в шелковом халате и предложил тоника. Вечерний гость разбередил его худшие старые раны.
– Что с тобой? Я думал, ты все воспринимаешь спокойно.
– Да, но вот… Мне плохо… Бывают моменты, когда Клер у меня в каждой клеточке.
– Так я и думал. Поначалу все хорохорятся…
– Да нет, все в порядке… Просто сегодня вечером смотрел один фильм, наше общее воспоминание… Не могу поверить, что все кончено… И вообще я ее не понимаю…
– А, вот это главная проблема! Привыкай, женщин понять нельзя. Я даже вот что скажу: мы – туристы в стране женщин… Все женщины – китаянки, а косеем мы… Не верю больше в семейную жизнь. Лет через пятьдесят максимум число разводов достигнет ста процентов и, хочешь не хочешь, придется пересмотреть наши представления о мире… Я тебе точно скажу: любовь – это просто мера амортизации… – Эдуарда понесло.
Спасибо, ты настоящий друг. Жан-Жак пришел за поддержкой, а перед ним стоял омерзительный конферансье, рассуждающий о семейной жизни. Конферансье, извергающий потоки избитых фраз, как будто выжить в женском мире можно, только вооружившись трюизмами. Жан-Жак не желал верить в эти глупости. У них с Клер всегда все было иначе. Да, у них случались кризисы, как и в любой семье; но они их преодолеют. Они с Клер – одно целое. Он твердил себе, что не хочет жить как Эдуард. Если тот обрел душевное равновесие, не впуская в себя чувства, тем лучше для него. А тот все говорил, все убеждал, грубо, как продавец, втюхивающий новый способ пользоваться жизнью. Жан-Жак поднялся и поблагодарил друга за утешительные речи. Оставшись один, Эдуард признал, что, кажется, перегнул холостяцкую палку.
Жан-Жак снова шагал по ночным улицам. Временами красота Парижа на миг представала ему во всей очевидности и простоте, и он радовался таким мгновениям. Наверно, к этому и надо стремиться, чтобы достичь безмятежной ясности, – к проблескам красоты в простых предложениях жизни. Он гулял до рассвета. И в конце концов все же решил вернуться в гостиницу к Соне. Она спала. Простыня сбилась у нее под плечами неподвижной волной на белом песке. Жан-Жак присел на край кровати и провел рукой над спиной Сони, над самой спиной, но не касаясь ее. В голове наконец стало пусто. Да, она красива, вот и все. Ее красота утомляла, и он уснул.
V
Раньше Клер часто уставала по вечерам, а теперь у нее хватало сил на бессонные ночи. Она проводила у Игоря уже не первый вечер. Они пили вино, болтали о пустяках, рассуждали о важных вещах. Он спросил, как здоровье ее матери.
– Знаешь, с ней все очень сложно… Мы думали, у нее рецидив, но, кажется, обошлось… вроде бы она получше… но ведет себя очень странно.
– Как она относится к тому, что ты ушла от мужа?
– Когда как. Видишь ли, с ней всегда было непросто. иногда мне хочется превратить ее в чучело, как в “Психо”!
Игорь расхохотался и немедленно рассказал несколько историй про то, как фильм Хичкока выходил в прокат во Франции. С киноманами вечно так, стоит упомянуть при них какой-нибудь фильм, как они тут же нагромоздят теорий. Но обычно рассказы Игоря казались Клер увлекательными; он умел очень живо говорить о самых абстрактных вещах. Иногда она отключалась и просто растроганно смотрела на него. Главным образом на губы: это было в высшей степени эротичное зрелище.
То, что мы уже знаем об Игоре, никак не позволяет предположить того, что мы сейчас узнаем об Игоре. Мы всячески подчеркивали его невероятную робость, а потому в особо бойких умах наверняка зародилась мысль, что он наверняка был девственником. Данная гипотеза не просто неверна: как ни удивительно, Игорь обладал весьма богатым сексуальным опытом. Чтобы понять, почему так вышло, нужно напомнить, что Игорь был русский. А раз ты русский, ты ходишь в русскую общину. А в русской общине множество молоденьких девиц, разной степени красоты, но равной степени отзывчивости, – девиц, которых Игорь знал с детства, с которыми вместе вырос и вступил в возраст чувственных открытий. По случаю свадеб и религиозных праздников все нередко собирались в прекрасных усадьбах, где большие деревья вполне способны скрыть размах желаний. Игорь, до ужаса робкий, почти не играл с мальчиками; подростком он обычно сидел подле отца за столом с белой скатертью, уставившись в белую скатерть, мечтая превратиться в белую скатерть. Некоторые девочки подходили к нему и звали прогуляться – по дружбе, чтобы не бросать его одного; он соглашался. Любоваться пейзажами на прогулке он не мог, потому что смотрел себе под ноги. Колыхания белых платьев, естественно, наводили на него страх. Но девочки по большей части не обращали на него внимания. До того самого дня, когда одна из них, по имени Нина, предложила поиграть в более чувственную игру. Пусть все по очереди поцелуют Игоря, а он потом скажет, кто целуется лучше всех. Красный как рак, Игорь не успел отказаться. Он превратился в предмет, в добычу русских девичьих языков. Не пошевелив и пальцем, он осуществил мечту многих мужчин. Конечно, оценивать что бы то ни было он был не в состоянии; языки мешались и сплетались друг с другом. Зато все девочки пришли в восторг и в один голос заявили, что у Игоря очень вкусные губы. Он и не подозревал, что у его губ эротический вкус. Вернее сказать, эротический потенциал.
К величайшему его удовольствию, игра длилась не один год. И к тому времени, как девочки выросли, большинство из них хотя бы раз переспали с Игорем. Ему представилась возможность обогатиться весьма ценными познаниями. Он сделался живым парадоксом: стеснительный мужчина с огромным опытом общения с женщинами. Но это странное приключение имело кое-какие не слишком радостные последствия. Первое состояло в том, что из-за вереницы женщин, сменявших друг друга у него во рту, а затем и в постели, он так и не узнал, что такое настоящее чувство. И в этом смысле до встречи с Клер оставался девственником. Вторым подводным камнем стало то обстоятельство, что некоторые девицы малопривлекательной наружности тоже не упускали свой шанс. Не в сексуальном плане (он вполне успешно отбивался от отдельных опасных атак), но в череде языков. Распознать источник губ в бешеном круговороте зачастую было нелегко; к тому же ему говорили, что это конкурс, а значит, участвовать могут все. А потому – и это последнее, что нужно знать про Игоря, – при всем своем чувственном опыте опыт бесчувственности он тоже накопил немалый. Иначе говоря – да, Игорю приходилось целоваться с усатыми девушками.
Все слова, сказанные ими до сих пор, были только дорогой, ведущей к губам. Их головы сблизились, тихо, еще неуверенно, потом увереннее, и они поцеловались. Клер долгие месяцы мечтала о такой ситуации. Встретить незнакомца, позволить обольстить себя в кафе, вспоминать старые фильмы, целоваться как подростки – все это было частью мечты, которую она более или менее ясно сформулировала для себя, пока задыхалась в рутине. Они узнавали друг друга без всякой игры, в чистой простоте простого желания. Время от времени Игорь закрывал глаза, словно тренировался представлять себе потом тело Клер; готовился хранить его в памяти, на случай фантазмов и дождливых дней. У Клер на миг включились сразу все воспоминания чувственного прошлого. Она подумала о прежних возлюбленных, в ней зазвучали отголоски удовольствия. В семнадцать лет она спала с пианистом, чуть старше нее. Он играл на рояле на ее теле и любил повторять: – Твое тело издает самый звучный звук – звук тишины.
То было одно из первых ощущений счастья, конечно, наивного, но реального. Она вспоминала его, и память воскрешала ее собственные связи с эротикой. От погружения в прошлое все ее тело внезапно пробудилось. Вся ее женская жизнь вдруг разом вышла на передний план; груди и бедра, колени и губы, щиколотки и плечи, спина и затылок вновь превратились в актеров и вернулись на подмостки.
VI
После ночных блужданий Жан-Жак проснулся другим человеком. Человеком, который осознал размеры катастрофы. Всю неделю он жил в чужой шкуре, ломал комедию перед Сабиной и слишком много времени проводил с Соней. Последние кадры “Неба над Берлином” обозначили возвращение Клер на авансцену его сознания. Пора брать дело в свои руки. После обеда срочный звонок господина Осикими заставил его поспешно покинуть кабинет. Он кинулся к Сабине. И когда та открыла дверь, шагнул к ней вплотную, так что она даже попятилась: – Где Клер? Говори, где она? Так больше продолжаться не может!
– Но я не знаю…
– Нет, знаешь!
– Нет, Жан-Жак. Честное слово…
– А случись что с Луизой, что ты будешь делать? И не говори, что не знаешь, где она.
– Да нет же… Она телефон оставила… мобильный. Ну ты понимаешь, чтобы всегда быть на связи.
Жан-Жак отступился. Потом взял свой телефон и позвонил Клер. Она, конечно, не ответила. Он знал, что это бесполезно. Первый раз в жизни он не мог с ней поговорить, когда хотелось. Это было мучительно до ужаса. От одной мысли, что больше он ее не увидит, пробирал озноб.
– Хочешь чего-нибудь выпить? – спросила Сабина. Она подошла и положила руку ему на плечо. Это
был какой-то разрыв шаблона. Горе сделало его настоящим, словно с экрана вдруг сошел живой киноактер. Она повторила:
– Тебе налить чего-нибудь?
Он не успел ответить: к нему уже бежала дочь.
– Ой, папа! Как здорово!
– Собирайся, дорогая. Мы едем домой.
Луиза послушно пошла собираться; что-что, а не показывать свое удивление она умела. Сабина, пользуясь моментом, попробовала его переубедить:
– Послушай, по-моему, это не лучшая идея… У тебя такой усталый вид…
– Мой вид тебя не касается. Она моя дочь. А если позвонит Клер, передай ей, чтобы возвращалась домой… Хватит уже. Начинаем жить, как раньше.
Они вылетели из квартиры, как будто спасались от погони. Сабина немедленно позвонила Клер; сказала, что ничего не могла поделать. А нажав на отбой, облегченно вздохнула: наконец-то она развязалась с этой историей. И вообще, она считала, что оба они эгоисты. Ее эмоциональная жизнь – настоящая Хиросима, и всем наплевать. Приходят, уходят и даже не спросят ее мнения. У Клер и Жан-Жака случилось несчастье счастливых людей; ну а она – она пытается разбросать по своей несчастливой жизни маленькие смешные крошки счастья.
Не успел Жан-Жак выйти на лестницу, как у него зазвонил телефон.
– Мог хотя бы меня спросить. – Клер сразу перешла в наступление.
– Имею я право жить дома с дочерью или нет? Можешь приезжать тоже.
– Нет.
– Что “нет"?
– Нет, не хочу тебя видеть.
– Но нам надо наконец объясниться. Скажи, где ты?
– Нет.
– Ты нашла кого-то другого, так?
– Прекрати. Просто не хочу тебя видеть, и все.
– А дочь? Как ты с ней увидишься, если меня видеть не хочешь?
– Ничтожество! Не думала, что ты такое ничтожество.
– Я ничтожество, потому что я люблю тебя!
– Дочери я позвоню. А мы на днях встретимся, вот так…
– Скажи мне, где ты. Пожалуйста.
– …
Потом Жан-Жак слонялся по квартире. В голове вертелся вопрос: “Как я умудрился все прошляпить?” Один-единственный неотвязный вопрос. Он сел на край кровати и просидел до утра. Там его и обнаружила дочь, но сделала вид, что так и надо.