Роксолана. Полная версия легендарной книги Загребельный Павел
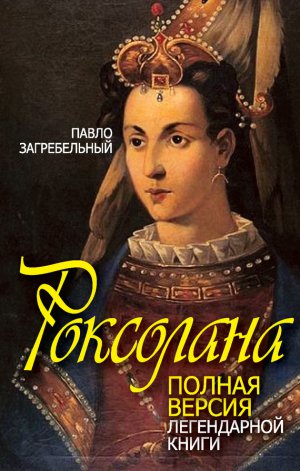
На следующий день с утра, после молитвы в мечети, султан поехал посмотреть, как будут низвергать колонну Кызташи.
Оплетенная тысячью толстых веревок, колонна походила на плененного раба, приготовленного то ли на продажу, то ли на казнь. Тысячная толпа шевелилась у основания колонны – гологрудые, жилистые, в грязных чалмах, с диким неистовством в глазах, готовые свалить что угодно на свете: колонну, святыню, а то и самого султана. Муллы, стоявшие по краям толпы, затянули молитвы: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Когда упадет падающее – нет ничего отрицающего ее падение! – унижая и возвышая, когда сотрясется земля сотрясением, когда сокрушатся горы сокрушением».
Султан с пышной свитой стоял в ограде из толстых деревянных брусьев. Четыре ряда янычар, готовых зарубить каждого, кто бы осмелился кинуться через брусья, замыкали широкое пространство, отделявшее султана от смрада и пота тех босых, жилистых, гологрудых.
Синан-бей ждал знака султана. Султан едва заметно качнул тюрбаном; Синан-бей поднял руку. Ударили барабаны. Расставленные повсюду помощники Синан-бея прокричали приказы. Муллы завыли слова о сотрясении. Гологрудые натянули веревки. Раскрылась тысяча ртов. Вздулись жилы на сильных шеях. Дикий вой перекрыл все звуки. Плененная колонна качнулась и, описав жуткий огромный полукруг, стала падать прямо на людей. Вой перешел в полный ужаса вопль. Толпа бросилась врассыпную, чуть не смяв султана с его свитой. Колонну уже ничто не могло ни удержать, ни остановить. Она падала тяжко и мучительно. И когда ударилась оземь, то словно бы стон прозвучал в пространстве, стон земли или камня – кто же разберет. Когда сотрясется сотрясением…
Синан-бей спокойно докладывал султану, как он хочет перевозить колонну на пятый холм Стамбула. Снова всю опутать веревками. Подложить деревянные катки. Тысяча людей станет перетаскивать колонну пядь за пядью все дальше и выше. Долго и упорно. Но неотступно. Ибо разве же не так творится все на свете?!
Сулейман долго смотрел на поверженную колонну. Молчал. Неведомо было, слушает он Синан-бея или не слушает. Перед его глазами все еще мелькали босые грязные ноги, что-то гневно кричали черно раскрытые рты, било в нос смрадом нужды и бедности. Хотел спросить, что это за люди – рабы или правоверные. Но не спросил. Молчал тяжело, упорно. Потом неожиданно сказал:
– Пусть остается тут. – И добавил загадочно, как всегда: – «Ведь поистине с тягостью легкость, поистине с тягостью легкость!»
Поздно ночью прибыл в столицу гонец, принесший весть, что в Будиме венгерский король убил султанского посла Бехрама.
Река
Вступив на престол, Сулейман обратился с посланиями к правителям всех дружественных и враждебных земель в Азии, Европе и Африке. Могущество султана должно было проявляться уже в пышных титулах, какими начиналось послание: «Я, неоценимой, бесконечной благостью Всевышнего и великими, исполненными благословения чудесами Главы пророков (которому да воздается нижайшее поклонение, купно как и его дому и его спутникам), Султан славных Султанов, Император могучих Императоров, раздаватель венцов Хозроям, что сидит на престолах, тень Аллаха на земле, служитель православных Хоремейн-у-Шерифейн (Мекки и Медины), мест божественных и священных, где все мусульмане провозглашают обеты, покровитель и властелин святого Иерусалима, повелитель трех великих городов – Константинополя, Адрианополя и Бруссы, а равно и Дамаска, запаха Рая; Триполи и Сирии; Египта, редкости века и славного своими радостями; всей Аравии, Алеппо, Араба и Аджена, Диарбекира, Зулькадрии, Эрзерума чудесного, Себаста, Аданы, Карамании, Карса, Чилдира, Вана, островов Моря Белого и Моря Черного, стран Анатолии и королевства Румелии, всего Курдистана, Греции, Туркомании, Татарии, Черкесии, Кабарды, Грузии, благородных племен татарских и всех иных Орд, от них зависимых, Кафы и других соседних городов, всей Боснии с зависимыми от нее землями и укрепленными местами великими и малыми в этих землях, властитель, наконец, множества городов и крепостей, которые излишне перечислять и приводить имена, я, Император, убежище правосудия и Царь Царей, средоточие победы. Султан, сын султанов султана Селим-хана, сына султана Мехмеда Завоевателя, я, по могуществу своему, украшен титулом Императора обеих земель и для довершения величия моего Калифатства прославленный титулом обоих морей…»
Далее в зависимости от того, кому предназначалось послание, предлагалось подчиниться, или же обещан мир, или требовался мир, подтверждением чего должна была быть дань, немедленно выплаченная султанскому послу.
С таким именно требованием поехал Сулейманов посол Бехрам к венгерскому королю Лайошу, но тот, подговоренный своими бесстрашными и драчливыми графами, велел обезглавить Бехрама, султану же не ответил ничего, да и какой еще ответ мог быть после столь мерзкого поступка? Когда великая держава убивает послов державы малой, то это еще можно объяснить, ибо чрезмерность силы неминуемо должна проявиться хотя бы в действиях позорных. Но кому же может пожаловаться малая держава и у кого ей просить помощи? Зато держава великая имеет возможность надлежащим образом покарать коварных нарушителей мирового порядка, проучив их и всех тех, кому бы возжаждалось следовать нечестивцам.
В Стамбуле ударили пушки в знак войны. Янычары на Ат-Мейдане радостными криками приветствовали священную волю султана. Сулейман не созывал дивана[45], не советовался, не говорил, против кого война, но все знали и без того: против неверных, как бы они там ни назывались!
Сам султан торжественно выводил войско из Стамбула. Ехал на любимом своем черном коне в золотой сбруе, позади себя держал любимца своего Ибрагима, с которым только и мог перебрасываться словом, дальше ехали четыре его визиря, за ними беи, придворные пажи и капиджии из придворной стражи, янычарские старшины и сами янычары, которые шли за конными пешим строем в своих высоких шапках и войлочных уборах. Султан удивлял всех своим тюрбаном, высоким, как колонна, с двумя павлиньими перьями в огромных рубинах. У четырех визирей тюрбаны были низкие, широкие, с золотыми шнурками вокруг верхнего рубца. Беи красовались в тюрбанах таких, как и у падишаха, но намного ниже. Головы ученых улемов украшали округло намотанные чалмы. Дильсизов можно было узнавать по острым высоким колпакам из златотканого полотна, а капиджиев – по красным шапкам, заломленным так, что они свисали назад. Янычарские старшины, в отличие от рядовых янычар, украшали свои войлочные колпаки пучками перьев, скрепленных драгоценными камнями.
Вслед за роскошной султанской свитой, за грозным корпусом янычар в течение целого дня шли по улицам Стамбула триста тысяч воинов, приведенных сюда из Ункьякчаири, где они томились от скуки уже целый год, за войском в туче смрада проплыло шесть тысяч приведенных из Сирии Ферхад-пашой верблюдов, нагруженных припасами, за ними, пугая уличных разинь, прошли могучие слоны, среди которых был и султанский слон, в золотой сбруе, со стальными мечами на бивнях, черный, как и Сулейманов конь.
Происходило это в субботу 18 джемада (мая) 1521 года, Сулейман положил первый камень в мечеть отца своего Селима на пятом холме Стамбула, поклонился праху великого Мехмеда Завоевателя и повел свое ужасающее войско на Эдирне, часто останавливаясь для передышки и для охоты в лесах на Мериче.
Никто не знал, против кого будет направлен удар этой силы, кто первый станет жертвой султанова могущества. Может, не знал этого еще и сам султан?
Десять дней шли до Эдирне. Передышки, охота, молитвы, диспуты ученых улемов. Тут присоединились к огромному султанову войску отряды румелийского беглербега Ахмед-паши, потомка святого Саввы. О своем высоком славянском происхождении Ахмед-паша вспоминал только тогда, когда на султанском диване нахально одергивал визирей. Всех считал ничтожествами, мечтал стать визирем, а там и сменить самого Пири Мехмеда.
Еще через десять дней достигли Пловдива. С лесов и гор в войско были пригнаны тысячи новых людей, они вливались в грозную тучу, не ведая, куда идут и что должны делать, у многих не было никакого оружия, кроме обычного заостренного кола или лесорубского топора.
Еще семь дней потребовалось, чтобы дойти до Софии.
Болгарская земля стонала от нашествия. Как исполинский полип, присасывалось войско тысячами присосков к городам, селам, полям со снопами, к пчеле и к каждой скотинке, к каждому дыму, к каждому колодцу и сосало, сосало, несло страх, порабощение и опустошение. С каждого двора брали один дукат, две овцы (одну с ягненком) и барана. Двадцать дворов объединяли в катун (летнее пастбище). От каждого катуна полагались один шатер, головка сыра, три веревки и шесть обротей, один бурдюк масла и один баран. Только в Софию велено было привезти десять тысяч возов провианта для войска. Кроме того, от каждых пяти дворов должен был идти с султаном в поход один воин. А с тех, кто оставался, положено было брать по дукату с каждой головы и десятую часть от урожая султану за то, что он оберегает землю Аллаха, четвертую, часть урожая спахиям[46], по две аспры с каждой головы скота, по две аспры с каждого улья, коня, колодца, дыма из печи пашам, которые отправляются в путь, и пашам, которые прибывают, войску, когда оно проходит, и войску, когда оно должно пополняться. Но это подати обычные, согласно с законом шариата, – харадж, ушр и джизье. А там, где проходило войско, султанские кехаи[47], едущие впереди с отрядами янычар, начинали собирать подать по обычаю – урифийе. Велись принудительные работы – авариз: сооружение крепостей, прокладывание дорог, наведение мостов. Султанские чиновники по сбору продовольствия – арпа-эмины – принудительно днем и ночью собирали сюрсат – продовольствие для войска: ячмень, пшеницу, муку, мясо, дрова. Кто укрывал запасы, подлежал немедленному и беспощадному уничтожению – люди, поселки, общины. Казалось, что могло остаться даже в самой богатейшей стране после такого грабежа? Но изобретательности султанских дефтердаров не было удержу. Выдумывались новые подати, сдирались с еще большим рвением и жестокостью: алаф – фураж для султанских коней и животных, имдад-и-сеферийе – помощь для нужд похода, имдад-и-дихадийе – помощь для священной войны, бедел-и-нюзюдль – подать для постоя, даже подать за труд, затраченный зубами османцев на поедание христианских харчей, – дишь параси.
Если бы султан взял в поход свой гарем, тогда собирали бы еще и подати на гарем, но Сулейман вез с собой только стамбульский зверинец: на огромных арбах, запряженных быками, железные клетки со львами, тиграми, пантерами, гиенами, волками и медведями. Для зверей собирали свежее мясо. Хорошо, что хоть не человеческое пока.
Отбирали коней, буйволов, ослов, каждое колесо, бревно, кусок веревки. Горемычные люди, схватив, что могли, а то и с пустыми руками, спасая хотя бы душу, убегали в леса и горы, искали плодородные земли как можно дальше от дорог, бросали там зерно в землю, чтобы вырос какой-никакой колосок и можно было бы прокормить детишек, продолжить свой род, не поддаться уничтожению.
Только в Софии на диване Сулейман изложил план своего похода. Идти на Белград, чтобы взять эту крепость, закрепиться навсегда на Дунае, исполнив волю предков. Намерение было дерзкое, но достойное величия султанской державы. Сам Мехмед Завоеватель не мог взять Белград уже и после того, как прославился взятием Царьграда и когда казалось, что нет в мире силы, которая смогла бы устоять перед его мощью. Сулейман спрашивал у своих визирей совета, но всем было видно, что не отступится от бесстрашного намерения этот молчаливый, загадочный властитель, да и огромное войско, которое целый месяц топтало болгарскую землю, уже невозможно было повернуть вспять. Стрела наложена на лук, тетива натянута – выхода нет.
С софийского поля султан послал тысячу янычар с Хусрев-бегом, чтобы они начали осаду Белграда и взяли Земун для лучшего доступа к городу, который ждал нападения с юга, от горы Авалы. Сулейман помнил, что заботило Мехмеда Завоевателя под Белградом. Тот хотел переправить войско через Саву, расположить возле Дуная и там укрепиться, чтобы не дать венграм прийти на помощь Белграду. Но на диване беи отговорили его от этого намерения: «Счастливый повелитель, не делай этого, ибо в этом нет нужды». Так берег Дуная остался оголенным, и оттуда венгры без помех посылали осажденным с суши белградцам необходимую помощь и припасы, и Завоеватель так и не смог взять этот славянский город.
Вслед за янычарами под Белград был послан великий визирь Пири Мехмед-паша с двадцатью тысячами всадников и полусотней огромных пушек для разрушения стен верхней крепости.
Сам султан пошел на Шабац, который назывался тогда Буирделен, но через четыре дня его встретила весть: «Град Буирделен пал, и сто неверных стали поживой осиянного мусульманского меча». Эти сто защитников убили семьсот турок, но более выстоять не могли. Султан вошел в крепость через шпалеры голов, насаженных на колья. Велел укрепить Шабац, провести через него Саву. Сидел на берегу реки в зеленом шалаше, сделанном из свежих веток, смотрел на работы, молчал, думал. Затем приказал построить через Саву мост. Снова сидел с самого рассвета в зеленом шалаше, не подпускал к себе даже Ибрагима, смотрел на реку. Тело реки переливалось солнечными блестками, как серебристо-стеклянная змея, как тело женщины, плывущей мимо него, сквозь него, вне его, обтекая, проскальзывая дальше и дальше, неуловимо и нереально, как сон и бред.
Визири, паши, янычарские аги подгоняли людей палками, люди работали иногда по шею в воде, таскали колоды, тяжелые челны, плоты, вязали, настилали, скрепляли.
Султан не мог оторвать взгляда от поверхности реки, она лежала перед ним, как земля, как беспредельный текущий простор, что поглощает все на свете, порабощает, заточает даже время, останавливает его бег. Он подчинил себе время, должен подчинить и пространство. Одолеть, подавить, поработить! Перейти через эту реку, не прикоснувшись к ней, с сухими подошвами, легко и летяще, дать ей почувствовать свою силу, власть, могущество, злость, поработить, обезволить, презреть, пусть корчится, стонет, мечется, кричит!
Река была как та забытая им славянская девушка, она притягивала и отталкивала одновременно – странное соединение несоединимого – она пахла чужим зельем, неведомыми травами и растениями, пахла чужой волей, от которой Сулейман пьянел, как от кандийских вин или одурманивающего опиума. Целыми днями неподвижно сидя в зеленом укрытии на берегу великой славянской реки, мутной и норовистой, он неожиданно для себя (может, это от султанского одиночества?) вспомнил то, чего не помнил или не хотел помнить, выбросил из души уже наутро после той ночи с маленькой смешливой чужестранкой. Трепетанье птиц на предутренних деревьях, звезды зодиака, величие небес и непробиваемой густоты листва, а сквозь все это – белые пальцы на тяжелых полушариях грудей, слова без значения, невозможность понять язык друг друга; он закрывал веками глаза, но она проникала и под веки, оживала в его глазах и в нем самом, проходила сквозь него без усилий и без желания, как дух без Бога, оставляла в нем невесомую белизну своего тела и обольстительную тяжесть полушарий, растерянно прикрываемых корзиночками из тонких пальцев.
Он сидел, смотрел, как перебегают по недостроенному еще мосту на ту сторону спахии Ахмед-паши и царьградские янычары, а какие-то демоны желания, не подвластные ему, толкали его вновь и вновь к воспоминаниям о том, чего не помнил, искушали пробиться памятью под шелковистую кожу той, что была как ветер, который никогда не уймешь, как река, которую никогда не остановишь, как земля, которую никогда не исходишь. «Разве они не посмотрят на верблюдов, как они созданы, и на небо, как оно возвышено, и на горы, как они водружены, и на землю, как она распростерта? Напоминай же, ведь ты только напоминатель».
Султан сидел день, другой, на исходе второго дня послал в Стамбул подарки для одалиски Гульфем. Почему для Гульфем, сам не мог бы ответить. Его гигантский шатер с золотым шаром наверху окружали тысячи людей, но из тех тысяч не подпускал к себе никого, ждал покорения реки.
На третий день начался дождь. Он шел целую неделю, разбушевавшиеся волны ударили в мост, оторвали его от берегов, понесли вниз по течению, ломая и руша. Десять дней тысячи людей, изнемогая, погибая, утопая в воде, строили этот мост, десять дней султан в зной и в дождь сидел на берегу под зелеными ветками и неотрывно смотрел на реку, а теперь от сделанного не осталось ничего. Сава текла свободно и своевольно, и Сулейману казалось, что она течет сквозь него, сквозь его душу.
Он велел переправлять войско и коней на ту сторону галерами. Сам четыре дня отдыхал, призвав к себе Ибрагима. Это был странный султан. Не водил войска на приступ, не размахивал саблей, не реяли над ним зеленые знамена, не гремели султанские барабаны. Распустил по всей земле своих пашей и бегов, как кровожадных псов, знал, что все сделают и без него так, как делалось при всех Османах: шпалеры набитых на колья людей, пирамиды из отрубленных голов, горе людское, страх, кровавая завеса, сотканная из чужих страданий, а за нею – отгороженный от всего султан, падишах, Сахиби Киран – Повелитель Века, тень Бога на земле.
Бесстрастная рука султанского словослагателя, между тем, записывала в походном дневнике:
«Земля неверных наполнилась беженцами. В этой победоносной войне акинджии были разделены на два войска. Одно их крыло перешло в землю валахскую, чтобы захватить Эрдель и Темишвар, другое крыло шло с царской ордой, эти грабили окрест лежащие города и края».
«И от Пири-паши прибыл гонец. Он принес весть: град по имени Земун взят! Били пушки, длилась тяжелая борьба, но наконец милостью божией захвачен. Много мусульман в боях полегло за веру. Неверные, схваченные в городе, стали поживой для меча. Жены и дети взяты в рабство».
«Один родственник сына татарского хана пошел с татарами в Срем собирать харч для войска. Пришла весть, что их на пути встретило много неверных, вспыхнул бой, и в том бою многие татары с родственником ханова сына погибли».
«Боснийский санджак-бег Яхья-пашич, проходя по венгерской земле с шестью тысячами войска, взял три города. Два из них взяты с боями. Все неверные зарублены. Были грабежи».
«Мустафа-паша вернулся с грабежей. Привел много рабов».
«От Яхья-пашича прибыл человек. Принес пять голов и привел закованных в железо шесть неверных. На диване их зарубили».
«Навалился Яхья-пашич на один город. Много неверных зарубил, 70 или 80 неверных посланы султану. На диване все зарублены. Шестеро брошены слону, и он растерзал их».
Сулейман спокойно созерцал эти жестокости, словно бы считал, что в наказаниях нужна не только суровость, но и изобретательность, даже утонченность. Не замечал, что жестокость еще более изобретательна, чем мудрость. К сожалению, только в преступлениях и карах.
В последний день июля Сулейман впервые смотрел на Белград с земунского берега. В Земуне брошены диким зверям братья Михайло и Марко Скобличи, защищавшие город от Хусрев-бега. Тешило ли и это зрелище султанские очи?
На берегу Дуная напротив Белграда вновь поставлен большой зеленый шалаш для султана. Он приезжал в него каждый день, проводил короткий диван, отдавал приказы и целыми днями из-под своего зеленого убежища молча рассматривал неприступный славянский город на высоком берегу реки. Кроваво-красный от пожаров, вознесенный под самое небо, Белград напоминал ту порфировую колонну, которую свалил Сулейман в Стамбуле. Свалить все, свалить, бросить под ноги, поработить и поневолить, иначе порабощен будешь сам.
Восемьдесят семь тысяч воинов окружили Белград и беспрерывно били в его стены из пушек, поставленных в одиннадцати местах. Никто не мог помочь обреченному городу. Лайош, король венгров и чехов, которому принадлежал город на Дунае, не имел сил, чтобы выступить против грозного султана.
Император Карл был озабочен борьбой с немецким монахом Лютером и французским королем Франциском, напавшим на Италию. У австрийского герцога Фердинанда не было чем оборонять даже свою собственную землю. Папа римский Лев IX не знал, как покончить с ересью, расколовшей его церковь. Венецианцы не хотели ссориться с султаном.
Таким образом, какая-то полутысяча защитников Белграда, отрезанная от всего света, оставленная всем светом, должна была обороняться от могущественной султанской силы. С савского берега шел с войсками великий визирь Пири Мехмед-паша, с дунайского наваливался визирь Мустафа-паша, с которым были все стамбульские янычары. Начался рамазан, большой радостный мусульманский праздник, и войско с еще большей рьяностью бросилось на неприступную крепость. Султан велел построить у самого Белграда наплавной мост через Саву. Снова пошел дождь. «И пролили мы на них дождь; и плох дождь тех, кого увещали!»
На диване было решено: с утра четвертого дня рамазана – первый приступ! Защитники подожгли нижнюю часть города и перебежали в верхнюю крепость, где их с трудом приняли из-за нехватки продовольствия. Через неделю спрыгнула со стены крепости женщина. Приведенная к Пири Мехмеду, она сказала, что в крепости уже нет ни харчей, ни военных припасов. В пятницу, на следующий день, Сулейман подошел под стены крепости, велел поставить шатер, отдыхал в нем какое-то время, потом повелел идти на приступ. Тучи войск двинулись под стены крепости. Она агонизировала. Замолкла даже башня серба Якова Утешеновича, огонь из которой был самый опустошительный во все эти дни. Над крепостью вывесили белый флаг. Султан повелел прекратить огонь. Защитники просили десять дней, чтобы подготовить город к сдаче, а сами тем временем поспешно латали пробоины в стенах. Снова загремели пушки.
Пойман был переодетый янычаром посланец к венгерскому королю за помощью, поставлен был перед султанским диваном, посажен на кол.
От последнего приступа уже не было спасения. 26 рамазана 927 года хиджры (или 29 августа 1521 года) султанские муэдзины впервые пропели с белградских высот азан[48]. «Пири-паша с дефтердаром вошли в башню, чтобы завладеть казной. Сразу после них появился отряд Хусрев-бега, смедеревского санджакбега. Музыка играла. На высоком диване трижды пробили в барабан, которым оглашаются радостные вести. Янычарский желто-красный флаг был поднят над городом. В честь этого события играла музыка. Настала благословенная ночь Лейле-и-кадр, святейшая для мусульман, ибо в эту ночь Магомету пришло первое божье откровение».
Сто пятьдесят венгров, защищавших Белград вместе с сербами, Сулейман отпустил, чтобы поплыли по Дунаю к своему королю и рассказали ему о султанской силе. Двух из них – Блажа и Моргая – поставили перед Ибрагимом, который был теперь султановыми глазами, ушами и устами, был волей султана и его карающей десницей, все это знали, кроме этих пленных, а если знали и они, то все равно уже ничем не могли себе помочь, ибо побежденный может только ждать. Чего? Милости или смерти?
Наверное, они уже догадывались о том, что умрут, поэтому смотрели на Ибрагима с понурым равнодушием, он же блаженствовал от неограниченной власти над этими двумя бесстрашными мужчинами, которые доказали своими действиями, что не боялись смерти, но которые (и это неизбежно и необратимо!) должны испугаться той смерти, какую он им определит, испугаться и ужаснуться. Поскольку для ужаса тоже нужно какое-то время, то Ибрагим решил предоставить его этим двум упрямым глупцам, за тем и велел привести их сюда. Они были удивительными людьми. Если бы даже кто и захотел найти среди тысяч и тысяч двух столь неодинаковых людей, то, пожалуй, никогда бы и не нашел – так отличались они внешне друг от друга.
Блаж, высокий, белокурый, голубоглазый, тонкий и гибкий, как юноша, с красивыми тонкими усами, с золотистым загаром на лице, весь в голубом, с золотыми позументами на одеянии, стоял гордо, отставив ногу, как бы опираясь правой рукой на рукоять воображаемой сабли (оружие у них, ясно, отобрали), смотрел поверх Ибрагимовой головы куда-то в далекую даль, видел там только то, что доступно было его глазу, – может, окидывал взглядом с высоты своей смертной самое отдаленное и самое удивительное из истории своего свободного народа: черноморские степи, травы, табуны коней, прекрасных всадников, костры под звездами, ласточек в небе, широкий Днепр, золотые соборы Киева, Карпаты, солнце над придунайской равниной.
Моргай, невысокий, черный, как кипчак, стоял неуклюже, неумело, раскорячив привыкшие охватывать конские бока ноги, пронизывал бледнолицего султанского сипехсалара[49] острым, как у юрюка[50], взглядом, презрительно кривил губы под черной подковой усов, словно хотел сказать Ибрагиму: «Не ты меня, а я тебя должен был судить, ибо во мне кровь столь же неистова, как у этих родичей моих далеких предков – куманов, а ты лишь идололицый предатель, только и всего».
Но это лишь казалось, что Моргай хотел заговорить с Ибрагимом таким образом. Ибо при всей его внешней несхожести с Блажем было в нем нечто неуловимое и непостижимое, роднившее его с Блажем даже больше, чем сынов одной матери. Стояли, как два крыла своего народа, как две его ипостаси, как две ветки могучего дерева, как две половинки орехового ядра – не разорвать, не расколоть, не разрубить, – жить, так жить обоим, умереть, так тоже вместе!
Ибрагим обладал метким взглядом и еще более метким умом. Он мгновенно постиг, что запугать этих людей не дано никому, поэтому повел себя с ними, разыгрывая сочувствие.
– Как же это случилось, что вы не сдержали слова?
Блаж все так же горделиво смотрел поверх Ибрагимовой головы, слишком далеко отбежал он мыслью от этого безнадежного места, чтобы возвратиться сюда для удовлетворения чьего-то любопытства, зато Моргай возмущенно встрепенулся на Ибрагимов вопрос и бросил в ответ коротко и твердо:
– Мы сдержали.
– Позвольте напомнить, что это неправда, – усмехнулся Ибрагим. Белград выбросил белый флаг в знак сдачи, а потом снова стал обороняться. Что это, как не измена? Всемогущественный султан…
– Флаг подняли слабые духом. Такие, к сожалению, находятся всегда. Мы же не обещали сдаваться никому и никогда. Мы дали слово защищать крепость, и мы защищали ее до последнего.
– Какая-то жалкая тысяча защитников против всемогущественного исламского войска?
– Разве храбрость зависит от числа? – вскинулся Блаж. – За нами стояла вся наша земля.
– Это земля турецкая. Султан Баязид Ильдерим подарил эту землю сербскому деспоту Стефану Лазаревичу, и тот построил здесь крепость.
Блаж терпеливо пояснил:
– Этот берег Дуная дал Стефану венгерский король. И с тех пор венгры обязались помогать своим сербским братьям. Наш воевода Янош Хуньяди прогнал отсюда самого султана Завоевателя, перед которым склонился Царьград.
– Но вам не удалось повторить подвига Хуньяди? – засмеялся Ибрагим.
– Зато мы не изменили своей земле, – упрямо сказал Блаж, как бы намекая на то, что он, Ибрагим, несмотря на его нынешнее величие и власть над их жизнями, в конце концов, просто мелкий ренегат и более ничего.
Любого это довело бы до бешенства, но Ибрагим оставался холодным и спокойным.
– У вас есть какие-нибудь желания? – почти кротко спросил он.
Блаж не ответил. Моргай пожал широкими плечами. Какие еще желания у людей, до конца выполнивших свой долг и имеющих полное право считать, что таким образом исполнили свое предназначение на земле…
И это непроизнесенное слово «земля» превращалось в оскорбление и обвинение уже самого Ибрагима, он это почувствовал и понял и мысленно поблагодарил Бога (какого – разве не все равно), что затеял эту игру с обреченными без высоких свидетелей – без султана и его визирей, а то пришлось бы ему пожалеть о своем неуместном любопытстве, но он не относился к людям, которые сожалеют о содеянном, и, поигрывая золотой саблей, лежавшей у него на коленях, небрежно произнес:
– Похваляетесь, что остались верными своей земле? Такая верность требует награды. Султан поручил мне соответственно вознаградить вас. Вы хотели этой земли – мы вам дадим ее. Вас закопают в эту землю. Закопают живыми. Яму себе выроете сами. Правда, землекопство у мусульман считается позорнейшим делом, а рытье могилы для себя крайне позорным, но что я могу поделать? Да и вы не мусульмане.
– Да, мы христиане, – твердо произнес Блаж. – И поэтому рыть для себя могилы мы не станем, даже если бы с нас живьем сдирали кожу.
– Такая возможность существует, – усмехнулся Ибрагим, – но вы захотели земли…
И он, подражая султану, едва заметным движением руки велел убрать обреченных с глаз.
И эти люди для него уже не существовали. Были давно мертвы. Он и разговаривал с ними из простого любопытства. Узнать, что говорят мертвые. Живые ему нравились больше. Были почтительнее.
Блажа и Моргая закопали живыми в тот же день между четвертой и пятой молитвами. Свидетелями нечеловеческой кары были все венгры – им Сулейман даровал свободу после этого страшного зрелища – и плененные в Белграде сербы.
Ибрагим наблюдал за казнью со своего черного (как и у султана) коня в золотой сбруе. Лишенные одежды, связанные крепкими веревками, брошенные на дно глубоченной ямы, выкопанной под высоким берегом, на котором стоял истерзанный, закопченный, поверженный Белград, Блаж и Моргай не просили о пощаде, ни стона, ни вскрика не прозвучало из ямы, когда с торопливых лопат дурбашей[51] посыпалась на них безжалостная земля. Ибрагим представил себе, как земля засыпает живой красивый рот Блажа, глубоко, с наслаждением втянул в себя ласковый дунайский воздух и с новой для себя омерзительной радостью в душе поскакал к султанскому шатру.
Сулейман уже разослал всем, кого надо было обрадовать или напугать, фетх-наме[52] о том, что Белград в его руках. Теперь, сидя в своем роскошном шатре, сочинял стихи, полные горечи, меланхолии и тоски. Не спрашивал о венграх у Ибрагима, пили вино, султан читал газели о тщете богатства, славы, могущества.
– Нравятся мои газели? – спросил своего любимца.
– Для вашего величества нет невозможного, – весело отвечал наглый грек. – У вас возникло желание сочинить газели, и вы его выполнили. Кто может помешать?
– А собственное неумение?
– А кто посмеет заметить вашу неумелость?
– Когда я сочиняю стихи, я перестаю быть султаном Сулейманом. Тогда я поэт, который зовется Мухибби.
– А кто посмеет разъединить великого султана и застенчивого Мухибби?
Двенадцать дней оставался султан в Земуне. Оттуда кораблем или по мосту часто перебирался в Белград, охотился в окрестных лесах, смотрел, как чинят башни и стены, созвал диван, раздавал награды и подарки.
Самым первым наградил Яхья-пашича Бали-бега, вызвав его из Сланкамня. За полное разрушение Срема (тот сжег и сровнял с землей гарода Купиник, Митровицу, Червеч, Илок, срезал подчистую все живое, что поднималось над землей, создал широкий пояс опустошенной ничейной земли). Камни сремских городов везли теперь для восстановления разрушенного Белграда.
Две тысячи плененных сербов – женщин, детей, стариков – под янычарской охраной султан приказал гнать пешком в Царьград. Гнали их три месяца. Через Ниш, Софию, Пловдив, Эдирне, через горы, реки, болота. Плач и стон неслись по горам и лесам.
И скорбная песня шла за ними, песня о тех сербских юношах, которые пали под Белградом и уже не встанут никогда:
- Под Белградом конек стоит вороной,
- А на том коне
- С кровью на виске
- Сидит милый мой.
- Хочешь, милая, знать, как идет война?
- Из коня моего,
- Из меня самого
- Кровь течет красна.
- Хочешь, милая, знать, что у нас на обед?
- Конина сухая
- Да вода из Дуная,
- Такой наш обед.
- Хочешь, милая, знать, где почию я?
- Во широком поле,
- Во темном раздолье
- Могила моя.
- Хочешь, милая, знать, кто у нас звонари?
- Сабли да булаты,
- Выстрелов раскаты,
- Трубы до зари[53].
Несли с собой иконы и мощи святых. Люди выходили им навстречу, чтобы поклониться святыням и их страданию, выносили хлеб и воду, вино и мясо. Откуда только могло взяться здесь после разорения султанскими душегубами? Гонимые несли с собой мощи святой Пятницы, выпрошенные когда-то у крестоносцев из Византии болгарским царем Йованом Асеном и перенесенные им в свою столицу Тырново. Перед турецким нападением на Болгарию мощи были спрятаны в Вене, а потом княгиня Милица упросила своего зятя султана Баязида отдать их сербам. С тех пор Белград был местом хранения Тырновской Пятницы. «Пришествием твоим сербская земля обогатится», – говорилось в церковной службе святой Пятницы.
Еще несли с собой чудотворную руку царицы Феофано, жены Льва, царя премудрого, а также икону Богородицы, писанную евангелистом Лукой.
Сулейман позволил людям выходить на дорогу, целовать иконы и мощи, но за плату. Деньги должны были идти в султанскую казну.
В Царьграде султан повелел греческому патриарху выплатить за реликвии двенадцать тысяч дукатов, если тот не хочет, чтобы их бросили в море.
Тогда Сулейман еще не был назван Кануни – Справедливым, но он старался проявлять свою жестокую справедливость на каждом шагу.
На прощанье еще долго смотрел с высокого белградского берега на слияние Дуная и Савы. Гулямы[54] держали над султаном огромный (шелк и золото) султанский чадор[55]. Никто не смел ступать в просторный круг тени, образуемый чадором. А сам султан как бы прятался в том кругу, не осмеливаясь ступить за его пределы. Имея такую империю, ограничиваться клочком тени под чадором? Такова малость человека, ибо что такое человек перед миром и стихиями! Две исполинских славянских реки текли у него под ногами, стлались ему к ногам и не стлались, норовистые, непокорные, могучие. Ореховые воды Дуная, глубокие и загадочные, плыли спокойно и мощно, а Сава катила с гор водовороты глины, ила, пены, ударялась с разгона в пречистое тело Дуная, мутила его глубокие воды, загрязняла. Дунай отталкивал Саву; какое-то время они мчались рядом двумя неистовыми потоками – один темный, ореховый, чистый, другой желтоглиняный, не вода – сплошная грязь. Дунай не давался, отталкивался от загрязненной Савы, но желтые потоки растекались шире и шире, затягивали в свою муть новые и новые светлые слои воды – и большая река сдалась, дала себя полонить, мечась и вздрагивая, точно в конвульсиях, плыла теперь к морю такой взбаламученной, как души людей, охваченных несчастьями, преступлениями и ненасытной жаждой власти. Не так ли мутна и его душа? Сулейман не мог найти в себе силы оторвать взгляд от слияния рек.
В Стамбул возвращался без войска. Шел быстро, с короткими ночевками и передышками. Семьдесят пять дней понадобилось ему, чтобы дойти от Стамбула до Белграда, тридцать дней потратил на захват города и еще тридцать один день возвращался назад в столицу. Странно было, как могло еще в той земле остаться что-то живое!
В одном сербском селе Сулеймана встретила весть о смерти его самого младшего сына Мурада. Только старый Пири Мехмед отважился передать султану тяжкую весть. Любой другой за такое известие мог бы поплатиться головой, но какая рука поднялась бы на седины старого визиря? Султан печально ответил строками из Корана: «Если бы Аллах желал взять для Себя ребенка, то Он избрал бы что Ему угодно из того, что творит. Хвала Ему! Он Аллах, единый, мощный!»
Два дня после получения вести о смерти сына Сулейман отдыхал. Дважды присутствовал на конных состязаниях, принимал участие в охоте, рассматривал с коня старую сербскую церквушку. Когда любовался конями на состязаниях, вспоминал слова: «Вот представлены были ему вечером легко стоящие, благородные». Верил, что вечный Бог и счастье повелителя не оставят его, – родился ведь, чтобы владычествовать, и должен исполнить свое предназначение. «И подчинили Мы Ему ветер, который течет, по Его повелению, легким, куда Он пожелает, – и шайтанов, всякого строителя и водолаза и других, соединенных в цепях». Двинулся на Стамбул. Никого не хотел видеть в дороге, кроме Ибрагима, Пири Мехмеда и старого Касим-паши. В Эдирне призвал к себе Ахмед-пашу, которого полюбил за храбрость, проявленную под стенами Белграда. Не пугало его то, что в Стамбуле свирепствовала чума, за которой шла черная оспа, безжалостно унося маленьких детишек.
Когда в Стамбуле французский посол станет через великого визиря умолять султана, чтобы он выпустил его из охваченной моровой язвой столицы, Сулейман гневно и в то же время с изумлением воскликнет: «Чего он хочет и куда бежит? Разве он не знает, что чума – это божья стрела, которая никогда не бьет мимо цели? Если Бог захочет его умертвить, никакое бегство и исчезновение не помогут. Человек всегда стоит перед неизвестностью. Чума вошла и в мой дворец, но я же не оставляю его».
В столицу Сулейман возвратился без пышности, без триумфа, незаметно переправился устланной коврами султанской баркой от Силиврии, сошел на берег в садах гарема, заперся в своих покоях. Через два дня умерла его маленькая дочка, не получившая даже еще имени. Еще через восемь дней черная оспа забрала перворожденного султанского сына Мехмеда. Три маленьких тельца, поставленных в табутах[56] к ногам покойного султана Селима, забрали с собой любовь Сулеймана к Махидевран. Черкешенка обезумела от горя. Столько радости доставляла своим ладным, округлым, холеным телом и детьми, которых рожала легко, охотно и радостно, а теперь все утратила в несколько дней, и хоть оставался в живых трехлетний сын султанский Мустафа, она чувствовала: короткие годы ее возвышения кончились без возврата.
Сулейман не хотел более видеть свою жену. Горлица подстрелена – зачем лук?
Хамам
Всю жизнь в четырех стенах, заточенные заживо, погребенные. Поэтому с такой радостью вырывались раз в неделю за стены и железные ворота Баб-ус-сааде, в день, отведенный на хамам – турецкую баню, роскошь и негу Востока, блаженство для тела и для души, особенно когда душа заточена еще больше, чем тело.
Хуррем не знала, что это за хамам, и поначалу отказывалась туда ходить, довольствуясь гаремной купальней. «Чего я там не видела?» – отвечала она кизляр-аге, когда тот объявлял день похода в хамам. Противно было подумать, что евнухи погонят тебя в отаре одалисок, что с целой отарой будешь плескаться в той их бане, весь день просидишь там, объедаясь, скучая, в ожидании темноты, поскольку только в сумерках можешь покидать стены гарема и в сумерках возвращаться, чтобы ни единый мужской глаз не осквернил священной собственности падишаха.
Почему же изменила самой себе и пошла наконец в хамам? Не знала и сама. Бледнело небо по ту сторону моря, над серо-синими волнистыми горами Ускюдар, над горой Бургурлю, на вершине которой сатана искушал Христа, показывая ему чарующую картину Константинополя. Тоскливо воркотала где-то в деревьях горлинка, звала ее домой, домой, домой… А где твой дом, Настася? Где твой дом? И Настася ли ты еще или уже только Хуррем? И кого тебе теперь слушать – горлинку или собственное сердце? Любовь, мудрость и птицы не знают отчизны. Они перелетны и вездесущи, как тоска и отчаянье. А ты разве перелетная? Зачем и почему ты здесь, так далеко от Рогатина, от своего дома? А где теперь ее дом? Страшно подумать. Хотела найти на блеклом небе хотя бы одну звезду, звезду не свою, но хоть для себя. В Рогатине, когда была девочкой, была у них с подружками забава – искать свою звезду. Хотелось самой яркой. Чтобы освещала всю душу, чтобы смех брызгал с ее алмазных лучей, чтобы возносилась твоя гордость в недосягаемость и беспредельность миров, выше птиц, выше облаков и самого неба. И тут небо тоже высокое, как и дома, и то же солнце, и звезды словно бы те же. Только месяц чужой. Какой-то опрокинутый, как челн, что плывет неведомо куда, а с ним отплывает твоя душа. «Ой, не свiти, мiсяченьку, не свiти нiкому!» А тут поэты ищут в месяце утешения и спасения от душевных мук: «Когда становится грустно, то надо тебе посмотреть, как по изумрудному морю плывет золотой корабль».
Заплетаясь в широких шароварах, еще сонные, вяло перебрасываясь словами, выходили гаремницы за врата Баб-ус-сааде, евнухи перекликались вокруг них, как пастухи, служанки, чуть не надрываясь, тащили тяжелые кошелки с кушаньями и напитками на целый день, каждая из женщин несла для себя в больших вышитых суконных мешках – бохчах – простыни, мыло, благоухания, ароматные мази. Темная громада Айя-Софии, где правоверные совершали свой предрассветный намаз, надвинулась и отодвинулась, еще какие-то строения, каменные или деревянные, разве разберешь, а потом замшелые купола приземистого причудливого сооружения без окон, без дверей, как в загадке: «Без окон, без дверей – полна горница людей». Дверь нашлась, незаметная и приземистая, как и само строение. И людей стала полна горница, когда теплая волна гаремниц заполнила хамам. Внутри еще царила темнота, ибо все помещение освещалось только через небольшие круглые прорези в куполах. Женщины шумливо, торопясь, раздевались меж высоких колонн, окружавших круглый просторный зал, пышущий приятным сухим теплом. Складывали свою одежду, свои бохчи на резных деревянных скамьях, завертывались в яркие простыни – пештемалы, разбредались по бане, никем не охраняемые, обретшие временную свободу хотя бы в этом каменном средоточии тепла, воды и покоя. В круглом зале раздевальни посреди мраморного пола бил фонтан, от него отходили уступами мраморные чаши, все уменьшаясь. Вода тихо журчала, переливалась из больших чаш в меньшие, и, как бы вторя голосу воды, безумолчно пели желтые канарейки в клетках, украшенных голубыми бусами – бонджук. Узкие двери вели в теплый соуклук, где на деревянных широких скамьях, подкладывая под головы и под бока маленькие подушечки, уже лежали, парясь, одалиски. Множество маленьких дверей вели из соуклука в комнаты для омовений, а через широкий проход можно было попасть в третий мраморный зал, где вдоль стен стояли мраморные ванны-курны и над каждой из них – бронзовые краны с горячей и холодной водой, в четырех углах, отгороженные низенькими стенками, были купальни для валиде, баш-кадуны Махидевран и султанских сестер, а посредине просторное восьмиугольное возвышение Гьёйбек-таш (Камень-пуп) для тех, кто хотел изведать истинное наслаждение хамама.
Хуррем, побродив по хамаму, вернулась в зал, где пели канарейки, улеглась на теплое мраморное возвышение, которое шло вокруг залы под колоннами, не брала подушек, спрятала лицо в согнутых руках, только краешком глаза наблюдала, как медленно светлеет в зале оттого, что становились все более мощными столбики света, падавшие из стеклянных колпачков в высоком куполе. Вокруг, давно уже поснимав пештемалы, наслаждаясь вольной наготой, отлеживались одалиски, грелись на теплом мраморе, парились, исходили потом и ленью. Тело становилось как замазка. Не хотелось ни шевелиться, ни говорить, ни думать. Может, в этом тоже счастье?
Возле Хуррем, непрошено нарушив ее одиночество, примостилась белокурая полнотелая венецианка Кината. Розовая ее кожа так и пышела здоровьем, тепло входило в Кинату и щедро вырывалось из каждой клетки ее сильного тела. Рядом с этой могучей самкой Хуррем казалась даже и не девочкой, а мальчиком – маленькая, тонкая, только груди тяжелые и выпуклые, но она прятала их под себя, лежала ничком, поглядывая по сторонам своими зелеными глазами, из которых так и выпархивал смех, – да и как тут не смеяться при виде этих голых ленивиц, распаренных, разомлевших, одуревших от тепла, хотя – она не раз уже убеждалась – не стали бы они умнее и на злейшем холоде, среди снегов и морозов.
– Видела, какие подарки прислал султан Гульфем из Белграда? – горячо зашептала Кината. – Бирюза в золоте, серебряная посуда для омовений.
Хуррем поудобнее вытянулась на мраморной скамье.
– В хамам надела свою бирюзу, – не отставала Кината.
Хуррем хмыкнула:
– На верблюдах бирюзы еще больше.
– А что подарил султан тебе?
– А почему он должен дарить мне?
– Ты же была у него?
– Ну и что?
– Султаны брали свои гаремы в походы. Сулейман не берет. Ты только один раз была у султана?
– А тебе что за дело?
– И я только раз. Но ты новенькая. Я же в гареме три года. Еще из Манисы. В Манисе мы погибали от скуки. Там теснота и убожество. Как мы ждали, когда умрет Селим и султаном станет Сулейман! Как хотелось роскоши и сытости Царьграда!
– Зато уж кормят вас тут, как свиней на убой! – засмеялась Хуррем.
– Не оскверняй уст упоминанием о нечистом животном! – испуганно замахала на нее руками Кината. – Пророк запретил вспоминать его.
– А что мне пророк?
– Ты до сих пор не переменила веру? Еще носишь крестик?
– Отвяжись!
– Это же так просто – отуречиться. Поднять палец перед кадием и повторять вслед за евнухом, который тебе подсказывает: «Признаю, что есть только единый бог и Мухаммед его посланник. Признаю, что перехожу от ложной в праведную веру, и отрекаюсь от предыдущей веры и всех ее символов». Целуешь руку кадию – и все. Мужчинам надо терпеть еще это ужасное обрезание и носить потом всю жизнь чалму, а нам так просто!
– Может, тебе и просто, но не мне, – почти сердито сказала Хуррем. Хотела еще похвалиться, что она дочь священника и потому ценит свою веру особенно высоко, но промолчала. Разве теперь имеет значение, кто ты и что ты?
– Тебя схватили татары, они благородные.
– Благородные? – Хуррем засмеялась горько и мучительно. – Кто тебе сказал?
– Султан наш зовется повелителем татар благородных. Разве ты не слыхала? А меня выкрали морские разбойники Хайреддина Барбаросы. Это страшный человек. Он хотел меня изнасиловать, как только увидел. Но решил подарить в султанский гарем и не тронул. Тут же велел принять их веру. Иначе грозился бросить в море. Если бы ты видела этого краснобородого разбойника!
– Может, лучше было бы тебе утонуть?
– Что ты, что ты! Я так хочу жить! Это вы, роксоланы, равнодушны к жизни и умираете легко и охотно.
– Умирают все тяжело.
– Я могла бы родить султану сына и стать баш-кадуной, как Махидевран. У меня тело лучше, чем у Гульфем. Только она чернявая, а Сулейману нравятся чернявые.
– Перекрасилась бы, – насмешливо посоветовала Хуррем.
– Тогда буду похожа на всех. А я не хочу.
– Так чего же тебе надо?
Хуррем посмотрела на Кинату, не скрывая презрения. Та лежала рядом, как гора молодого мяса, как поверженная белая башня, как нахальное воплощение похоти и низменности. Только представить себе, что и эта была на султанских зеленых подушках. Проклятый мир! Проклятый и заклятый!
Хуррем брезгливо отодвинулась от Кинаты, но та никак не хотела от нее отвязаться, хоть ты ее режь!
– Нам с тобой не повезло, что мы такими родились, – сочувственно вздохнула она.
– Кому не повезло, а кому, может, и повезло.
– Кому же? – вцепилась в нее Кината. – Уж не тебе ли?
– А если и мне?
– Вот уж нет, – уверенно возразила венецианка. – У меня вон какое тело, и то не могу привлечь повелителя, а ты… Ребра все посчитать можно. Кости так и колются… Султан и платочек случайно опустил тебе на плечо. Намеревался на меня, а упал на тебя. Все это видели…
И теперь уже она отодвинулась от Хуррем и застрекотала с другой одалиской, хвасталась, как провела ночь с султаном и как тот сказал, что ему понравилось ее тело. Тут она вспомнила, что не спросила у Хуррем самого главного, и, забыв обиду, какую могли нанести Хуррем ее последние слова, снова переползла к ней, тяжело шлепая по мраморным плитам пышными бедрами.
– А что тебе сказал султан после?
– Ничего.
– Ни словечка?
– Может, и ни словечка.
– Да ты что, забыла?
– Может, и забыла.
– Разве можно забывать слова повелителя?
– А я не поняла.
– Говоришь вон как живо, а там – не поняла?
– Тогда еще не умела говорить, теперь говорю.
– Уже и тогда умела.
– Отстань!
Хуррем встала и пошла через соуклук туда, где шумела и клокотала вода, но когда ступила в зал Гьёйбек-таш, ударили ей в уши визгливые женские голоса, переплетались с журчанием воды, талалаканья и галалаканья, шепоты и сплетни, вздохи и смех. Где тут спрячешься, куда подашься?
Она вошла в Гьёйбек-таш, который весь сплывал водой и мыльной пеной. Может, хоть здесь найдет спасение от этого шумливого одурения. Только растянулась на горячем мраморе Гьёйбек-таша, как на нее, не спрашивая, молча накинулась жилистая усатая бабища с шершавыми, как у кожемяки, руками, схватила голову Хуррем, стала безжалостно тереть лоб, виски, скулы, челюсти, потом принялась за шею, за руки, ноги, пальцы, груди, живот, бедра, била, лупцевала, растягивала, сжимала, выкручивала руки и ноги, играла на позвонках и на ребрах, как на цимбалах, упиралась коленями в спину, подпрыгивала, кряхтела, урчала, потом стала вытанцовывать на Хуррем, топтала ее ногами. Хуррем стонала, охала, вскрикивала и уже не знала, где боль, где удовольствие, где жизнь, где смерть. Вот что такое хамам!
Потом рукавицей из козьей шерсти бабища стала снимать с Хуррем пот, омертвевшую кожу, все лишнее, ненужное, под ее безжалостной рукой Хуррем линяла, как змея, словно бы заново рождалась на свет, а ее мучительница уже разводила в большом медном тазу мыло, взбивала его пальмовой мочалкой до высокой, пышной пены, напустила той пены полную наволочку из крепкого полотна, еще и надула ее и начала тереть Хуррем той наволочкой-пузырем, била, массировала, топила ее в мыльной пене, трижды вымыла волосы, смывая попеременно то теплой, то ледяной водой, долго вытирала и завертывала в сухие, теплые пештемалы, и только тогда Хуррем заметила, что за всеми этими сладостными пытками пристально наблюдала валиде.
Закутанная в красно-зеленый пештемал, маленькая и легкая, в деревянных сандалиях, украшенных перламутром и бирюзой, валиде стояла спокойно, молча, невозмутимо, словно бы не лились вокруг нее потоки воды, не летали целые облака густой мыльной пены, не клокотало все замкнутое пространство визгливыми женскими голосами. Полуприкрытые веки как бы свидетельствовали, что валиде видела все, даже больше, чем надо видеть постороннему человеку, что она перенасыщена виденным, утомлена, может, и разочарована, ибо надеялась на нечто большее от этой удивительной девушки, которую султан выделил, как только увидел среди гаремниц, а потом забыл так же неожиданно, как и облюбовал.
Заметив, что Хуррем тоже увидела ее, валиде сделала ей знак глазами, повела за собой в соуклук, дала себя догнать, пошла рядом с Хуррем, как с равной, неожиданно спросила голосом, лишенным любопытства, холодно и равнодушно:
– Ты тоже хотела бы родить султану сына?
Хуррем могла бы только рассмеяться в ответ, но ее резануло маленькое словечко «тоже», в котором слышались презрение и надменность, поэтому она почти надменно бросила на валиде быстрый взгляд, окинула султанскую мать взглядом с ног до головы, точно желая сказать: «Ты такая же маленькая, как и я, а родила ведь такого долговязого султана», но вовремя сдержалась, сказала другое:
– Я не думала об этом.
– О чем же ты думала? – возмутилась валиде.
– Вы велели мне изучать языки, я это делаю. Турецкий из ежедневных разговоров, арабский из Корана, персидский из поэтов.
Валиде хмыкнула.
– Может, ты хочешь стать ученым улемом? Женщины в гареме для того, чтобы рожать султану детей или не рожать их. Заруби себе на носу, девушка. Пойдем со мной, тебе надо побольше есть. Ты совсем невзрачна телом. «Не понесет носящая ношу другой…»
В соуклуке служанки уже разложили на широких деревянных диванах мезу – нечто вроде закуски-перекуски: копченую рыбу, морских устриц, печенку, холодный бараний мозг, вареных молоденьких баранчиков, патладжаны, тушенные в оливковом масле, брынзу с кусочками сладкой дыни, зелень, фрукты, долму из перца в виноградном листе, лукум и щербеты, йогурт и айран с чесноком.
Валиде усадила Хуррем возле султанских сестер Хатиджи и Хафизы, там уже объедались сладостями Гульфем, Кината и еще несколько толстых одалисок, любивших поесть. Хафиза, дочка султана Селима от первой жены, выданная за придворного капиджибашу, которого вскоре султан Селим за какую-то незначительную провинность велел казнить, подавленная своим вдовством, считалась в гареме милостивее красавицы Хатиджи, чванливой и мстительной, любимицы своей матери – валиде, поэтому Хуррем села возле Хафизы, которая немного подвинулась, давая ей место, и даже изобразила на лице некое подобие ласковой улыбки, хотя султанским сестрам не полагалось проявлять к одалискам ничего, кроме презрения и безразличия.
Ели с жадностью, безумолчно сплетничали, не имея сил сидеть, полулежали на широких, удобных диванах, наслаждались сытостью, теплом, легкостью в теле, блаженствовали, наибольшую же радость получали от беспрерывной болтовни, хвастовства, восторгов, пересказывания ужасов, мерзостей, недозволенностей. И сама валиде, несмотря на свое высокое положение, превратилась в обычную любопытную женщину, лежала среди этих молодых сплетниц и хоть в разговор не вступала, но и не останавливала ни Хафизу, ни Гульфем, ни Кинату, у которых не закрывались рты в разговорах то о противоестественной похоти, то о неверных женах, то о богатых купцах-гяурах, не жалеющих денег за хорошо ухоженную, наученную всему гаремную жену. Рассказывали о какой-то богатой стамбульской кадуне, которая, влюбившись в молоденькую девушку и переодевшись мужчиной, соблазнила отца девушки огромным калымом, справила свадьбу, но в первую же «брачную» ночь обман был раскрыт, девушка вырвалась от похотливой бабы, подняла крик, кадуну поставили перед стамбульским кадием, и когда тот стал допрашивать ее, она воскликнула: «Вижу по всему, честный кадий, вы не знаете, что может значить любовь для нежного сердца. И пусть хранит вас Аллах, чтобы вам никогда не довелось почувствовать всю жестокость того, что пережила я». Кадий чуть не умер со смеху, слушая ошалевшую бабу. Чтобы она остыла, приказал зашить ее в кожаный мешок и бросить в Богазичи, что и было сделано.
За прелюбодеяние в Турции нет мягких кар. Когда ночная стража схватит где-нибудь прелюбодеев, то бросают их в зиндан[57], а наутро ведут к субаши[58], тот, по обычаю, велит посадить блудницу-жену на осла, к голове которого привязывают оленьи рога, а ее любовник должен взять осла за повод и провести через весь город на всеобщее посмеяние. Впереди идет слуга от субаши и дует в рог, созывая люд, любовников забрасывают гнилыми апельсинами, камнями, когда же они, опозоренные, полуживые, возвращаются домой, то женщину еще заставляют заплатить за осла, словно она его нанимала для такого развлечения, а мужчине дают сотню ударов по пяткам или же берут откупного по аспре за каждый удар.
– Разве и Хуму возили на осле? – спросила Кината.
– Хума из царского дома, – чванливо ответила Хатиджа, – а султанским дочерям не положено то, что низкорожденным.
– Не надо про Хуму, – вмешалась валиде, сбрасывая с себя сонливость, в которую погружалась под монотонное журчанье голосов.
– А пусть они знают! – не послушалась Хафиза, видимо не любившая валиде. – Ты же не знаешь про Хуму? – спросила она у Хуррем.
– Не знаю.
– И я не знаю! – бросилась к Хафизе Кината. – Слышала, а знать не знаю.
– Бали-бег покрыл себя неумирающей славой под Белградом, – сказала валиде, – негоже трепать языком о его жене.
– Бали-бега назовут Гази, величайшим воителем священной войны, – повернулась к ней Хафиза. – А что с того? За шестьдесят лет своей жизни он насобирал столько титулов и званий, что хватило бы на тысячу воинов, а кому от того польза?
И она, издеваясь, принялась перечислять титулы какого-то неведомого Хуррем Бали-бега: крепкий столп, высокое знамя, великий прорицатель из прорицателей, величественный, как звезда Юпитер, сияющий, как утренняя заря, пылающее острие меча, занесенная над шеей божьих противников и врагов пророка сабля, слава борцов за веру и подвижничество, уничтожитель неверных и многобожцев, обладатель высоких достоинств и недостижимых ступеней, за доброту нрава и щедрость возносимый до небес, благодарный Господу за дарованные ему блага. Этот человек швырял под копыта своего коня целые земли, оставлял позади себя целые горы трупов, но не способен оказался на то, на что способен последний бедняк, – не удержал свою жену.
– Говорят, он маленький, как прыщик, – засмеялась Гульфем. – Его и зовут Кучук Бали-бег. Как же он мог удержать Хуму?
Бали-бег был сыном Яхья-паши, великого визиря султана Баязида. Яхья-паша был женат на султанской сестре, родившей семь сыновей, в том числе и Бали-бега. За Бали-бега султан Баязид выдал свою дочь Хуму. Хума была так же далека от целомудрия, как ее муж от милосердия. Она упорно вырывалась из гарема Бали-бега, ссылаясь на свое желание вернуться в султанский гарем в Стамбуле, но по дороге всякий раз цеплялась за какого-нибудь мужчину, обманывая или подкупая своих евнухов-надсмотрщиков, ненасытная в любовных утехах, вожделеющая к новым и новым сообщникам греха. Наконец в Стамбуле она по-настоящему влюбилась в молодого чтеца Корана в Айя-Софии хафиза Делак-оглу и даже родила от него девочку. Стамбульский кадий, не смея поставить перед собой Хуму, прогнал Делак-оглу из джамии, и тот отправился в Эдирне. Но в Баба Эскерии он умер от чумы, и когда Хума узнала об этом, то оставила сераи, метнулась в Ени Хисар, откуда тайком пробралась до могилы Делак-оглу, откопала тело, убедилась, что он действительно мертв, вновь зарыла, вернулась в Стамбул и закрутила, как прежде с Делак-оглу, с его братом, тоже хафизом. Когда же молодой хафиз изменил Хуме, она плюнула ему в лицо и утешилась с придворным луноликим конюхом, потом взяла еще раба-черкеса, потом еще одного раба-конюха, затем какого-то чауша, прислужника джамии султана Ахмеда, – и все это не за свою необыкновенную красоту, а за деньги, за дурные и несметные деньги. И так тянулось до тех пор, пока Бали-бег, не выдержав позора, не пожаловался султану Селиму, и тот укрыл свою сестру где-то на островах, подальше от соблазнов.
Не зная, что можно сказать на такие странные россказни, Хуррем запела припевочки: «Чи ти мене вчарувала, чи трутiвки дала, ой що ж бо ти менi розум зовсiм вiдiбрала? Ходжу, нуджу, гукаючи, говорю з собою: «Чи ти тужиш так за мною, як я за тобою?»
Пение ее отозвалось эхом в гареме и в разнеженности хамама, нашло отзвук и там и сям, запели и другие одалиски, песни были печальные и безнадежные, протяжные и короткие, как вскрик, молодые голоса ударялись в высокие каменные своды, падали вниз, точно раненые, некоторые лились ровно и несмело, другие дерзко взлетали вновь и вновь под самый купол, точно хотели пробиться наружу через те стеклянные колпачки, что впускали в хамам узкие струи яркого солнечного света. Хуррем запела новую: «Посiяла-м руту круту помiж берегами; ой, як тяжко менi жити помiж ворогами! Що ж я маю та й бiдненька з ними учинити, кого ж бо я вiрно люблю, з сим менi не жити. А вже ж моя рута крута береженьки поре, а вже ж мої вороженьки попiд боки коле. Ой, пiду ж я рутi крутi верхи позриваю, вороженьки спати ляжуть, я си погуляю. Колом, колом по-над водом, там стеженьки в’ються, часом душа невинная, люде набрешуться…»
В соуклуке появился кизляр-ага, нарушил неприкосновенность хамама, за что незамедлительно и поплатился, покрывшись обильным потом. Четырехглазый нашел взглядом валиде, направился к ней. Никто даже не закрывался от глаз черного дьявола, который и без того видел не раз каждую из них в чем мать родила. Кизляр-ага уже давно воспринимался ими не как живой человек, а как нечто вроде подвижного орудия султана, этого султанского прислужника ненавидели они тяжко, люто.
Кизляр-ага поклонился валиде, прижав сложенные лодочкой руки к груди, печально произнес:
– Умер сын нашего высокого повелителя Мурад.
Только теперь Хуррем вспомнила, что возле них нет Махидевран.
В Стамбул пришли чума с черной оспой.
Лестница
Прошлое, даже отступая, не исчезает в человеке бесследно, оно переплетается с настоящим, порой лишь маячит на горизонтах сознания, всплывает в мучительном воспоминании или же приходит в снах.
Кто она – Хуррем или Настася? Что в ней перевесит для нее самой и долго ли она удержится в неестественной своей раздвоенности, когда прошлое отнято у нее навеки, а настоящее призрачно, неопределенно и тревожно?
В ту ночь, когда султан высадился из своей барки в садах гарема, пришли к ней два страшных сна.
Первый был для Хуррем, собственно, и не сон, а страшная явь вымирающего Стамбула.
Мертвые дома, мертвые улицы, огромные черные возы вывозят трупы за врата Стамбула, везут их навстречу победоносному войску, которое султан ведет из-под Белграда. Черные люди, в просмоленной черной одежде, вытаскивают умерших из домов, подбирают на улицах, во дворах мечетей, на базарах. Закрыт Бедестан, опустели мечети, не раздаются с высоких минаретов звонкие азаны муэдзинов, всюду только следы смерти, пожаров, грабежей, эти жуткие возы, полные трупов. Черные возы, черные кони, черные люди в черной, просмоленной одежде и черные костры за вратами Стамбула, на которых сжигают трупы.
И вот она идет по мертвому Стамбулу, и нигде ничего живого, ни человеческого голоса, ни пения птиц, ни звериного рыка – только мертвый всплеск воды в мраморных фонтанах, на плитах которых упорно повторяются слова Корана о том, что только вода дарует всему жизнь; идет по Стамбулу не Настася, а Хуррем, султанская жена, баш-кадуна, а ей навстречу через Эдирне-капу входит султан Сулейман, без свиты, сам-один, и не на коне, а пеший, весь в золоте, печальный и несчастный, и протягивает к Хуррем руки, умоляя о чем-то, и тогда она видит, что золото на нем такое же черное, как все в мертвом Стамбуле.






