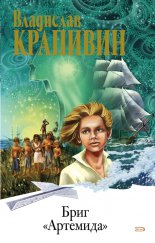Жаворонки ночью не поют Дедусенко Идиллия

— Ты что! — возразила Зойка.
— Заболеешь — потом за тебя отвечать.
— Не тебе же отвечать.
— Всё равно кому, — не унимался Паша. — Таня, ты староста, прикажи ей! Посмотри, сейчас рухнет. Можно посидеть в грузовике.
— Отдохни, — сказала Таня. — Все будем отдыхать по очереди.
— О-о-ой, — застонала подошедшая Рита, — совсем нога разболелась.
— Вот и полезайте обе в кабину, — сказал Паша. — Отдохнёте — от вас больше пользы будет.
Небольшая передышка оказалась кстати, но Зойку поскрёбывали угрызения совести: все работают, а она сидит, слабее других оказалась.
Ночью у Зойки начался жар, а утром она уже не смогла оторвать голову от подушки. Бабушка, достав из своего тайника в кухонном шкафу малиновое варенье, пыталась напоить внучку целебным чаем, но её организм ничего не принимал: тошнота подступала чуть ли не к самой макушке. Мать пораньше побежала за врачом в поликлинику, а Юрке приказала сказать в школе, что сестра заболела и на занятия не придёт. Юрка ещё на улице встретил Генку и всё сказал. Генка вошёл в класс с высоко поднятой рукой:
— Сеньоры и сеньориты! Одну прекрасную даму подкосила коварная болезнь.
— Немецкого не будет! — раздался радостный вопль.
— Мария Игнатьевна жива и здорова, чего и тебе желает, — галантно отозвался Генка. — Зойка заболела.
— Нашел, чем шутить, — тихо сказал Паша, но так, что его услышали все.
— Не-е-нор-ма-а-альный, — высказалась в Генкин адрес Рита.
— Ну, может, она и ничего, — пролепетал смутившийся Генка, — может, чуть прихворнула. Сходим после уроков и узнаем.
К Зойке направились трое: Рита, Паша и Генка. У двери их встретила удручённая бабушка.
— Вот, — говорила она, разводя руками, — температура сорок. Весь день глаз не открывает, ничего не ест. Врачиха приходила, молоденькая такая. Говорит, как бы не это…воспаление лёгких. А может, что в горле. Так разве от горла так болеют? Рецепт выписала. Вот чего-то тут, не разберу.
Паша взял бумажку, прочёл, сунул в карман и сказал:
— Я поищу…
Генка, глядя с порога на Зойку, не то спавшую, не то лежавшую без сознания, вдруг сказал громким шёпотом:
— А она не…это…
Он хотел спросить «не умерла?», но потом сам этого испугался и сказал совсем другое:
— Дышит, кажется…
— Каждый человек дышит! — оборвала его Рита, догадавшись, что он хотел сказать на самом деле. — Идите отсюда! Когда людей много, больному вредно.
Паша и Генка послушно вышли. Зойка лежала бледная, с заострившимся носом, и Рите вдруг показалось, что она действительно не дышит. В испуге Рита прислонила ухо к груди подруги, уловила глухие торопливые удары сердца и радостно сказала бабушке:
— Стучит!
— Кто стучит? — не поняла бабушка.
— Сердце, говорю, стучит!
Рита смотрела на Зойку и думала, что никогда у неё не было подруги лучше этой. Только в девятом они сели за парту вместе. Столько лет ходили в один класс и словно не замечали друг друга. Зойке ближе была серьезная Таня, которая тоже интересовалась литературой и искусством. Изредка они обменивались впечатлениями о прочитанном, но виделись в основном в школе. Свободные часы Зойка любила проводить дома. За партой сидела рядом с Генкой, которого воспринимала как нечто привычное, как сама парта.
Однажды Рита случайно остановилась около Зойки, которая на перемене так и не поднялась, захваченная какой-то книгой. На дворе лил дождь, и многие толкались в классе, образуя тот неописуемый гвалт, каким в такие минуты оглашается вся школа. Но Зойка ничего не слышала, уткнувшись в книгу. Рита скользнула взглядом по строчкам, шутя приподняла несколько листков и небрежно спросила:
— Неужели так интересно?
— Очень!
Зойка будто выдохнула это слово. Её тихий голос был наполнен такой страстью, что Рита, сделавшая уже шаг к шумной ватаге, приостановилась, поинтересовалась:
— А что это?
— «Воспоминания Полины Анненковой».
— Кто така-а-ая?
— Француженка. Полина Гебль. Выпросила у царя разрешение повенчаться с декабристом, сосланным на каторгу. И осталась с ним в Сибири.
— О-о-о! — заинтересованно протянула Рита. — Так это же про любо-о-овь!
Она тут же вытолкала подошедшего Генку, выбросила из парты его ранец и приказала принести свой портфель, объявив ему, что отныне он будет сидеть рядом с Пашей. Сама же так и осталась около Зойки, вдруг осознав, что эта неразговорчивая девчонка её давно уже чем-то неодолимо притягивает.
При явном несходстве характеров они всё-таки подружились. Если Рита изливала свои восторги и печали бурно, экспансивно, то Зойка вела себя сдержанно. «Скрытная ты», — укоряла её Рита. Но когда нужно было высказать о ком-либо определённое мнение, Зойка была откровенна до беспощадности. Рита так не умела, она предпочитала вообще не высказывать своего мнения в острых ситуациях, отделываясь любимыми словечками и междометиями. А Зойке говорила, смеясь: «Ты — моя громко высказанная совесть. Что ни скажешь, всё от нас двоих».
Рита теперь сознавала, что вчера в лесу вела себя нехорошо. Видела, что Зойка ослабела, но от дела отлынивала, а Зойкина совесть опять сработала за двоих.
Вошёл Паша.
— Вот лекарство. Как она?
— Спит, наверное, — неопределённо ответила Рита.
— А она…не без сознания?
Паша еле выговорил эти слова, почему-то пронизавшие его безотчётным страхом. Рита с испугом посмотрела на него, на Зойку, прошептала:
— Не знаю.
— Ты попробуй…р-разб-буди…
Паша даже заикался от страха, потому что Зойка лежала, будто неживая. Рита осторожно потолкала Зойку, та не шевелилась. «О-ой», — тихонько заскулила Рита. Бабушка выглянула из-за ширмы:
— Чего вы, чего?
Зойка вдруг шевельнулась, приоткрыла веки и повела туда-сюда невидящими глазами. Это было так страшно, что Рита подскочила: «Ой, умирает!» Сейчас она готова была одна вырубить лес, только бы Зойка жила! Паша, стоя у порога, в томительном ожидании мял шапку и чувствовал, как в животе медленно поворачивался клубочек страха.
— Да что ты, что ты! — махнула бабушка рукой на Риту. — Живая она. Вон и пот выступил. Покойники-то не потеют. А вы не тревожьте её, идите. Пусть спит, скорее поправится.
Рита и Паша уже подходили к своей улице, когда увидели Генку с Лёней. Рита тут же «собралась», приготовилась к встрече — миновать им друг друга никак невозможно.
— Ну, как она там? — спросил Генка, понимая, что Рита и Паша идут от Зойки.
— Ой, это такой ужас! — ответила Рита и принялась красочно описывать, как Зойка сначала лежала без движения, а потом поводила глазами и снова впала в беспамятство.
— Это девчонка из нашего класса, на лесозаготовке простудилась, — пояснил Генка Лёне. — Может, видел её? В пуховой шапочке ходит.
— В белой? — уточнил Лёня, и изумленная Рита растерянно посмотрела на него.
— В белой, — деловито подтвердил Генка, ему такая деталь в Лёнином вопросе ни о чём не говорила. — Соседка моя, напротив нашего дома живёт, в двадцать первом номере.
— Мы вместе сидим, — добавила Рита в надежде продолжить разговор.
Лёня мельком взглянул на неё, и она поняла, что продолжения не будет. А Лёня уже повернулся к Генке:
— Завтра в школе будешь?
— А как же!
— Встретимся. А сейчас мне пора.
Лёня повернулся на миг к Рите и Паше, махнул всем рукой и быстро зашагал по улице.
Поникшая Рита грустно смотрела вслед уходящему Лёне. Догадливый Паша деликатно молчал, потом осторожно тронул её за руку, мягко сказал:
— Пойдём домой, холодно. А то ещё и ты заболеешь.
Рита, увидев, как Лёня заворачивает за угол, послушно кивнула головой.
Он стоял у окна и, продышав на морозном стекле «глазок», смотрел на улицу. Огни в домах давно погасли, и всё вокруг освещалось лишь светом нескольких звёзд, прорвавшихся сквозь тучи. Откуда-то доносился вой собаки, приглушенный ветром. Такие ветры в эту пору здесь не редкость, в них было что-то беспокойное, горестное, и он чувствовал, как в нём самом растут беспокойство и растерянность. Он думал о девчонке, схватившей простуду в зимнем лесу, и мучился от своей беспомощности.
— Ты чего не спишь? — спросила мать, проходя из кухни в свою комнату.
— Сейчас лягу, — ответил он.
Мать тоже взглянула в окно через «глазок» и вздохнула:
— Тревожная ночь. Старики говорят, хорошая ночь для смерти, чтоб никто не видал.
Он вздрогнул. Мать хлопнула дверью, а он всё стоял и уже не видел ни домов, ни звёзд. «Хорошая ночь для смерти…» А если она умерла? Он тут себе стоит и ничего не делает, а она…
Он оборвал свою страшную мысль, тихо вышел в коридор, наскоро оделся. Торопливо шагая по улицам, загадал так: темно в окнах — жива, а светятся — значит, что-то случилось, без нужды ночью никто лампу не зажигает. Сердце его сильно и часто билось, дышать становилось всё тяжелее, но он с каждой минутой ускорял шаг, уже почти бежал. Неизвестность пугала его, давила страшной тяжестью. Ему казалось, что он не выдержит этой муки. Но когда вышел на Степную улицу, замедлил темп, всматриваясь в дома, которые в темноте казались совсем одинаковыми, как новобранцы, выстроившиеся в шеренгу. Им овладело такое беспокойство, будто он уже наверняка знал, что случилось самое худшее. От этой мысли сердце обмирало, а непослушные ноги с трудом отрывались от земли.
Иногда ветер разрывал тучи, и в узкую щель пробивался печальный свет луны, и тогда всё вокруг обволакивало голубовато-молочной пеленой. В другую ночь он бы залюбовался фантастической игрой природы, но сейчас не видел ничего вокруг — его мысли и чувства сосредоточились на доме под номером 21. И чем ближе он к нему подходил, тем тяжелее становились шаги и всё чаще подкатывала к горлу удушливая волна страха. Наконец он замер перед тёмными окнами, перевел дыхание.
Он не помнил, сколько простоял вот так, не считал ни минут, ни часов. Продрогнув, несколько раз собирался уйти, но тогда ему казалось, что в доме, за тёмными окнами, раздавался плач и какой-то шум. Прислушиваясь, он понимал, что это скрипят деревья да чья-то калитка «плачет» под ударами ветра. Наконец он уже совсем собрался уйти, обнаружив, что стало светать, как вдруг услышал сзади негромкий и удивленный шепот:
— Салют, кабальеро! Проснулся, смотрю, кто-то стоит и стоит… А это ты…
Корабль на Степной улице
Зойка никогда не ожидала такого от бабушки, испуганно думала: «Зачем она это делает, зачем?» Бабушка, распоров подушку, вынимала пригоршнями перо и засовывала Зойке в рот. Перо расползалось во рту и лезло внутрь, забивая бронхи. Зойка чувствовала, что её лёгкие, как подушки, уже полны пера, а бабушка всё толкала и толкала его. «Я же задохнусь, — подумала Зойка, — задохнусь». Она пыталась вытащить перо, сама лезла в рот пальцами, но его было очень много, и дышать становилось всё тяжелее.
— Господи, что это с ней? — прошептала бабушка, увидев, как Зойка корчится, мечется в бреду и, тяжело дыша, лезет пальцами в рот.
— Кризис, — сказала врач, всё та же молоденькая, которая приходила в первый раз; она сделала Зойке какой-то укол и теперь ждала результата.
Тихонько отворилась дверь, и непривычно робко вошел Генка. В руке у него был бумажный пакетик.
— Вот, — сказал Генка, — лекарство. Принёс тут один. У него мать в госпитале работает.
— Дай сюда.
Врач вынула из пакетика крошечные ампулы, радостно сказала:
— Да мы её теперь живо на ноги поставим! Бабуля, где шприц прокипятить?
Бабушка поспешила в коридор разводить примус.
— Будет…жить? — солидно поинтересовался Генка.
Врач, уже забывшая о нём, удивлённо обернулась, а потом понимающе улыбнулась:
— Будет, будет!
Генка тихонько вышел. К Зойке он не просто привык, потому что жили напротив, учились в одном классе, сидели несколько лет за одной партой, он её уважал за серьёзность и прямоту, за товарищескую надежность. И когда первый раз увидел Зойку больную, беспомощную, умирающую (!), не на шутку встревожился. Поделился с Лёней своими опасениями, а тот и принёс редкое лекарство. Нехорошо, что у раненых взяли, но ведь Зойке тоже жить надо.
В середине февраля она уже ходила по комнате, с любопытством смотрела на улицу и во двор через оттаявшие стёкла. Их улица, такая простенькая, как и всё в этом небольшом городке, сейчас казалась ей изумительно красивой. Сугробы поднимались под самые окна маленьких домиков, а над крышами стоял дымок, похожий на вытянутый кошачий хвост. «К хорошей погоде», — радостно думала Зойка, и ей хотелось поскорее выйти из дома. И в школу, в школу, к друзьям! Так хотелось в школу!
Воскресенье. За стеной у тётки Степаниды с раннего утра играл патефон. А у них было тихо. Юрка куда-то забежал, мама тоже ушла, когда Зойка ещё спала. Одна бабушка толклась в доме. Зойка слышала, как она гремит чем-то в коридоре, который одновременно служил и кухней. Скоро бабушка внесла оладьи в глубокой синей тарелке, потом налила из баночки мёда в блюдце и сказала Зойке:
— Ешь вот. Тебе сейчас хорошо есть надо.
Зойка, улыбаясь, смотрела на бабушку и вспоминала тот нелепый бред, когда ей казалось, что бабушка вталкивает в неё перо из распоротой подушки. Привидится же такое!
— Чего улыбаешься-то? Давай скорей за стол садись.
Зойка села, обмакнула оладушек в мёд — вкусно! Теперь ей очень хотелось есть, и бабушке больше не пришлось её уговаривать. Уминая оладьи, Зойка вдруг спохватилась:
— А ты? А Юрка, мама?
— Да все уже поели, пока ты спала. Ешь, ешь!
Позавтракав, Зойка начала бесцельно бродить по комнате — ей хотелось двигаться. Она вышла в коридор, прислонилась к окну, из которого хорошо были видны соседское крыльцо и их общий дворик. Стихшая было возня у тётки Степаниды усилилась, и даже в коридоре слышались весёлые крики, за которыми едва можно было различить сладкий голос певца, выводившего чисто и нежно: «В парке Чаир распускаются розы…». А потом стали долетать бодрые звуки «Рио-Риты» и снова томный голос: «Утомленное солнце нежно с мо…нежно с мо…нежно с мо…». Пластинку заело, и её сняли.
Степанида любила жить широко, на показ всей улице, и потому любое, даже самое маленькое событие в её доме выносилось во двор, собирая соседей и любопытных. Складывалось впечатление, что у Степаниды всё время что-то происходит.
Зойка увидела, как во двор вошёл с гармошкой Кирюша, которого не взяли на фронт «по причине незрячести». Этими словами он объяснял и все свои действия, поступки. «По причине незрячести» Кирюша не мог работать и поэтому обслуживал за деньги самые различные события в городе, чаще всего свадьбы и крестины. Играл он хорошо, спиртного «на дух» не принимал, за что его любили и охотно звали. Ну, если сюда Кирюша пришёл, значит у Степаниды большой праздник.
Кирюша свет от тьмы отличал, различал и контуры предметов, поэтому ходил сам, без провожатого. Он степенно поднялся на крыльцо и так же степенно отворил дверь, но тут же и вышел обратно вместе с весёлой компанией. Он растянул меха гармошки и запел: «Эх, Андрюша, нам ли жить в печали?» Рядом с ним затопали, приплясывая и помахивая руками, четыре бабы и один дед, такой древний, что за него даже боязно стало: вдруг сейчас рассыплется? А за ними стояли дочь Степаниды Тонька, работавшая санитаркой в госпитале, и…молодой лейтенант! Зойка всмотрелась внимательно: ну, конечно, он, тот самый, что был у них в школе на новогоднем вечере. Тонька была из тех, о которых бабы на улице говорят: «Видная из себя». И хозяйка отменная. Так что лейтенант не прогадал. Счастливая Тонька взяла его за руку, и он в ответ сдержанно улыбнулся.
Из комнаты в коридор вышла бабушка.
— Что это у них? — спросила Зойка, хотя и сама уже догадывалась.
— Да свадьба! Тонька замуж выходит.
Зойка смотрела на лейтенанта и вспоминала, как он дышал ей в ухо, спрашивая насчёт старшей сестры. Ну вот, сам нашёл. Ей казалась нелепой эта громкая свадьба. В такое время… Расписались бы и всё. Чего шуметь на всю улицу? Сам же говорил, что его товарищи там, в окопах, гибнут. За «танцульки» рассердился, а теперь гуляет. Зойка не понимала, как это совместить. Хотя шум наверняка устроила Степанида. Ей же надо, чтобы всё было, как она говорит, «путём», чтобы потом никто не сказал, будто они силком лейтенанта к себе в дом заманили.
На шум поприходили соседки. Одни стояли, подперев щёки руками, и тихо улыбались, другие весело давали советы, напутствовали молодых и потешались над ветхим дедом Макаром: «Ой, глядите, как пляшет! Того и смотри, крыльцо в щепки разнесёт!» А он невпопад с музыкой едва притопывал ногами и кричал: «Го-о-орь-ка-а!» Соседки тотчас подхватили дружными голосами: «Горько! Горько!» Молодые стали целоваться по требованию публики.
Зойке было неловко смотреть на них, и она хотела отойти от окна, но тут Степанида, обращаясь к соседкам, запричитала:
— Смотрите, люди добрые! Счастье рядом с горем идёт. Сегодня свадьба, а через три дня проводы. Уезжает соколик снова на фронт. Останется моя Антонина, как и я…э-э-эх, без мужика!
— Да не каркайте вы, мама! — в сердцах крикнула Тонька.
— Э-э-эх, доченька, куда судьба повернёт, никто не знает! — орала пьяненькая Степанида. — Горькие мы с тобой, горькие! Ох, и злая доля вдовья!
Все знали, что Степанида первая на улице получила похоронку на мужа, всего через месяц после начала войны, и потому бабы не останавливали её: пусть выкричится, выплачется — может, и полегчает. А Степанида уже приставала к лейтенанту:
— Да ты не боись, сынок! Пуля — дура, авось, не тронет. Ну, а ежели чего… Ты мне только внука оставь, не обдели радостью! Григорием назову, чтобы, значит, как дед…Э-э-эх!
— Мы хоть и с фронта, а не порченые, маманя, — отозвался лейтенант, развеселив соседок.
Свадьба ещё немного пошумела и вернулась в дом. Зойка почувствовала, что устала, и снова прилегла. Вошла мать с плетёной кошёлкой, которую бабушка смешно называла зимбелем.
— Ну как, удачно? — спросила бабушка у матери.
— Ничего. Масла купила. Ещё мёду, а то кончается уже. Сала, муки. Там ещё по мелочи чего.
Зойка с удивлением рассматривала мать: с нею что-то произошло. Пока Зойка болела, вроде как и голову не поднимала, ничего вокруг себя не видела, а теперь что же это? Раньше она тайком не раз любовалась матерью. Уложит мать косу вокруг головы, наденет белую вышитую кофточку — и вот вам русская красавица. А сейчас будто с неё краски соскоблили. Бледная, измученная, с тёмными кругами около глаз, мать часто хваталась за грудь и «исходила» кашлем. Почему она так кашляет? Болеет, что ли? И как Зойка раньше этого не замечала? Стёганная фуфайка и серый платок старили мать. «А почему же фуфайка? — вдруг промелькнула мысль. — Где её пальто?»
— Мама, где твоё пальто?
Мать молча расстегивала фуфайку.
— Где твоё пальто? — настойчиво повторила Зойка.
— Да вон оно! — указала бабушка на стол. — В зимбеле её пальто!
— Ты…Ты продала пальто? — догадалась, наконец, Зойка.
— Кушать-то надо, — ответила за мать бабушка. — А тут позаболели. Тебе вон сколько всего надо. Да и на матери лица нет. Тоже вон грудью ослабла.
Мать, раздевшись, ушла за ширму, где стояла её кровать. Скрипнули пружины — видно, легла. Ошеломлённая Зойка смотрела, как бабушка убирает продукты. «Это из-за меня, — терзалась она, — из-за меня». Ей стало стыдно, как тогда, на уроке физики. Почему ей раньше и в голову не приходило, на что они живут? Ведь в семье работала только мать. А много ли она могла заработать на фабрике, где шили эти самые фуфайки? Как ей трудно, наверное. А тут ещё отец молчит. Уже три месяца. Жив ли?
Зойка лежала, закрыв глаза, и думала, как бы помочь матери. Придётся бросить школу, работать надо.
Бабушка тяжело шаркала тапочками, мешала думать. Бросить школу…Легко сказать. Всего полтора года осталось. После десятилетки в институт можно поступить. Папа очень хотел, чтобы она стала инженером… Вот ненормальная! Какой институт? Война же!
Бабушка посмотрела на Зойку, заглянула за ширму: позасыпали. Пусть поспят. Она тяжело вздохнула: идёт беда за бедой, и ничего не поделаешь, горю-то заслон не выставишь.
Зойка слышала, как бабушка возится потихоньку, но ей не хотелось разговаривать, и она продолжала лежать с закрытыми глазами, теперь уже думая о бабушке.
Когда-то бабушка работала дояркой на ферме, но теперь её скрюченные пальцы никуда не годились, а ноги с распухшими от ревматизма коленями почти не сгибались. И она стала похожа на большую каменную бабу, которая стоит у входа в музей в краевом центре, куда Зойку и Юрку ещё до войны возил папа.
Зойке было до слёз жалко бабушку, особенно с тех пор, как она получила сообщение, что её младший сын, командир Красной Армии Алексей Колчанов пропал без вести. Он служил где-то недалеко от Бреста. В первые дни войны пришло от него единственное письмо. Даже не письмо, а записка, где он сообщал, что после того, как их рота вынуждена была отойти, они закрепились на маленькой железнодорожной станции, и он посылает им письмецо, чтобы они не беспокоились, он им скоро ещё напишет.
И всё. Как в воду канул. Больше ни письма, ни похоронки. Бабушка и мама писали запросы и получали ответы: «В списках убитых и раненых не значится». Раз не значится, то, наверное, живой.
— Может, на какой секретной службе, откуда и писать-то нельзя, — обнадёживала себя бабушка. — Он у меня парень с головой.
А сама украдкой вздыхала и долго смотрела на большую фотографию, с которой улыбался молодой командир Алексей Колчанов. Фотографию бабушка отдавала увеличить с той, которую он прислал в первые дни службы на западной границе. Шли недели и месяцы, а сын не объявлялся. И бабушка сдала. Даже немного похудела, будто каменную статую слегка обтесали, не тронув только тяжелые отёчные ноги.
Зойке надоело лежать, тем более, что всё равно ничего не могла придумать. Она слегка приоткрыла глаза и увидела, что бабушка стоит на коленях и, глядя на портрет дяди Алексея, молится. Потом бабушка повернулась к тумбочке и тоже что-то зашептала, молитвенно сложив руки. Зойка перевела взгляд на тумбочку и увидела маленькую фотокарточку отца, прислонённую к шкатулке. Зойка поняла: бабушка боялась, что и он сгинет, как младший сын, неизвестно где и куда.
Нельзя же так, чтобы сразу оба пропали! Так не бывает! Нельзя же! Зойка тихо соскользнула с кровати, обхватила бабушку за плечи и прошептала, сдерживая слёзы:
— Бабушка, не надо, ну не надо.
— Подглядывать — грех, — смутилась бабушка.
— Я не подглядывала, я нечаянно. Они живы, бабушка, живы!
— Так, конечно, живые, а то как же…
Но Зойка видела, что сама бабушка в этом уже сомневается.
В кровати за ширмой завозилась мать. Она сдерживала мучительный кашель, и оттого дыхание у неё было прерывистое, тяжёлое, свистящее. А может, на этот раз она сдерживает слёзы?
Зойка никогда не видела, чтобы мать плакала, только день ото дня грустнее становились её глаза да глубокие скорбные складки залегли у рта. Первое время, как отец замолчал, мать сама выходила навстречу почтальонке, а теперь, завидя её, прячется в комнату. Боится, что придёт с плохой вестью. Но разве от неё спрячешься? Плохая весть, как болезнь, всё равно настигнет, говорит бабушка.
Всю неделю мать ходила на фабрику, как называли швейный цех горкомбината. Там на серой стене висел большой лозунг, выведенный нетвердой рукой: «Всё для фронта!» Это Юрка старался по маминой просьбе. Когда швеи поднимали головы от машинки, им в глаза бросались красные буквы на белом листе бумаги: «Всё для фронта!» И они не жалели себя. Каждый клочок материи, оставшийся после ватников, тоже шёл в дело — из них шили рукавицы для бойцов.
Дома, конечно, такого лозунга не было, но дух его витал в их небольшой опрятной комнате. И по воскресеньям мать тоже сидела за машинкой или вместе с бабушкой вязала теплые носки, которые потом отправляли на фронт.
Мать вышла из-за ширмы, как всегда, обмотав тугую косу вокруг головы. Она сняла с тумбочки фотокарточку отца и строго сказала, не глядя на бабушку:
— Прекратите это, мама.
— А я — ничего. Что же, мне на своих сынков и посмотреть нельзя? Ой, я ж картошку варить поставила!
Бабушка неловко заторопилась к двери. Тут она столкнулась с Юркой, который вошёл недавно и молча наблюдал за происходящим.
— Мам, а я сон видел, — вдруг сказал Юрка.
— Ну ладно! — испуганно оборвала мать. — Куда ночь, туда и сон.
— А я хороший видел, — упорствовал Юрка. — Правда, мам.
Мать выжидающе посмотрела на Юрку, и он понял, что можно рассказывать.
— Будто я замахал руками и полетел прямо над нашими домами, над нашей улицей.
— Растёшь, сынок, — скупо улыбнулась мать.
— А потом смотрю, по нашей улице, как по воде, корабль плывёт, белый-белый. Плыл, плыл и около нашего дома остановился.
Мать побледнела.
— Пустой корабль, что ли?
Юрка часто-часто заморгал глазами, глядя в застывшее лицо матери, а потом с воодушевлением сказал:
— Нет, мам, не пустой! Смотрю, папка наш стоит на палубе и мне рукой машет!
— Врёшь, небось, — тихо вздохнула мать.
— Нет, мам, не вру, — сказал Юрка, но без прежнего воодушевления.
Зойка испытующе смотрела на брата: врёт или не врёт? Юрка покосился на неё и шмыгнул носом. Зойка догадывалась: корабль-то он видел, только наверняка пустой. У неё защемило сердце, и тоскливая волна медленно поднялась от коленок к горлу.
Мать стояла спиной к Зойке и надсадно кашляла, отчего плечи её мелко и часто вздрагивали. У Зойки сердце разрывалось, когда она слышала, как кашляет мать, видела её поблёкшее лицо. Зойку охватывал панический страх: «А что, если мама умрет?» Нет, нельзя так, чтобы в одной семье было столько горя. Дядя Алексей пропал без вести. Скорее всего, нет его уже на этом свете. Отец тоже молчит. Мать на глазах сохнет. Наверное, не врал Юрка: будет письмо, должно быть письмо!
— Эй, Колчановы, дома кто есть?
Кричала почтальонша. Зойка сразу уловила, что голос у нее весёлый, обнадёживающий. Ну, конечно, письмо! Мать, наверное, тоже по голосу тёти Даши догадалась, что она пришла с хорошей вестью. И кинулась к двери. Почтальонша уже стояла у порога (не поленилась по ступенькам взойти!) и снова кричала:
— Колчановы! Спите, что ли? Почту получайте!
— Входи, входи, Даша! — мать распахнула дверь.
— Да некогда мне, вон ещё сколько домов обойти!
— Ты уж войди, Дарья, — сказала бабушка. — Добрую весть за порогом не держат.
— Ох, ну ладно, — согласилась тётя Даша, — чуток передохну. С радостью вас!
Она протянула треугольничек, сложенный из тетрадного листа. Юрка первым подскочил и выхватил его. На письме стоял обратный адрес: полевая почта, Д. Колчанов.
— Я же говорил! Я же говорил! — радостно орал Юрка. — Вот он, корабль!
— Корабль? Какой ещё корабль в нашей-то степи? — громко удивилась тётя Даша.
— Да сон он видел! — радостно доложила мать. — Вот к письму!
— На-ка вот, Дарья, чайку с мёдом попей, — подвигала бабушка почтальонше чашку.
— С мёдом хорошо, — согласилась тётя Даша, — это я люблю.
— Читай же письмо, — нетерпеливо сказала мать Юрке.
Письмо перечитывали несколько раз. Вот, оказывается, почему отец молчал: был слегка ранен в руку, лежал в полевом госпитале. Сам писать не мог, а просить никого не хотел, чтобы дома не испугались чужого почерка. Теперь всё хорошо, и он вернулся в свою часть.
— Может, и Алёшенька где-нибудь в госпитале, — сказала бабушка. — Беда не приходит одна, а и радость тоже компанию любит.
— Да живой Алёшка, сердцем чувствую, живой, — сказала мать. — Ты, случаем, не два корабля видел? А, Юрка?
Юрка засмеялся, отозвавшись на шутку, но теперь-то Зойка окончательно догадалась, что корабль он видел пустой. В приметы она не верила, в сны тоже, а всё же не могла отделаться от тревожного чувства: ведь это война, пока письмо шло, могло что угодно случиться.
— Может, ответ подождешь? — попросила мать тётю Дашу. — Мы быстренько. Всего-то несколько слов и напишем: мол, так и так, весточку получили, жди подробное письмо. А то ж он там тоже беспокоится.
— Ох, Настасья, когда ждать-то?
— А ты ещё чайку с мёдом, — бабушка придвинула блюдце поближе к тёте Даше.
— Ну ладно, пишите, — сказала она, принимаясь за третью чашку чая.
Юрка быстро вырвал листок из тетради.
— Да, — довольно изрекала почтальонша, прихлебывая чай. — В морозы-то как хорошо медок-то.
А Юрка тем временем уже писал отцу под диктовку матери.
— Где мёд брали? — поинтересовалась тётя Даша. — У Демьяновых?
— У них, — ответила бабушка.
— Так дерут же они!
— А что делать? — вздохнула бабушка. — Зойку надо на ноги поднять.
— Ох, уж эта хвороба…что делает! — сочувственно сокрушалась тётя Даша.
— Я уже совсем здоровая, — вмешалась Зойка. — Работать скоро пойду.
Мать, диктовавшая Юрке письмо, остановилась:
— Куда пойдешь?
— Работать!
— А школа?