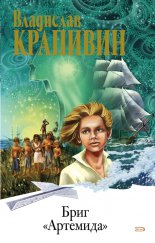Жаворонки ночью не поют Дедусенко Идиллия

Рита подняла голову и… увидела лицо Тараса Григорьевича, оставшегося в телеге, до странности напряжённое, как будто чем-то сильно удивлённое. Тарас Григорьевич приподнялся, опираясь руками о дно телеги, словно чего-то ждал. «Ведь он не может слезть!» — обожгло Риту. Она вскочила, кинулась к нему:
— Тарас Григорьевич! Я сейчас!
Что она хотела сделать? Одна? Он не успел ответить, как где-то неподалёку разорвалась ещё одна бомба, но Рита была уже в телеге.
— Ложись! — скомандовал ей Тарас Григорьевич, и его голос потонул в грохоте разорвавшейся почти рядом бомбы.
Рита бросилась ничком прямо на Тараса Григорьевича и замерла.
— Лежи, лежи, дочка, не вставай, пока не улетит, — шептал Тарас Григорьевич. — Лишь бы не прямое попадание. Глядишь, и уцелеем.
Рита не отвечала. Тарасу Григорьевичу мешали дышать её волосы, рассыпавшиеся по его лицу, но он боялся потревожить девушку и терпел. Последние взрывы прозвучали уже отдалённо, а вслед за этим Тарас Григорьевич услышал удалявшийся гул самолетов. Налёт кончился так же внезапно, как и начался.
— Ну, дочка, всё, пронесло, кажись. Вставай, улетели.
Рита молчала и не двигалась.
— Ты что, дочка? — с тревогой спросил Тарас Григорьевич. — Ты чего так напужалася? — И тут только Тарас Григорьевич сообразил, что не чувствует её дыхания.
— Ты что, дочка?! — испуганно закричал он и попытался приподнять ёе. — Ты что?!
Раненый, лежавший на траве сбоку дороги, прихромал к телеге, услышав крик Тараса Григорьевича. Вылез из своего убежища дед Макар. Вдвоём они перевернули Риту вверх лицом. Девушка смотрела в небо ясными голубыми глазами, и в них не было ни страха, ни сожаления, ни упрека — в них не было ничего, что так свойственно глазам живого человека.
— Она, кажется… — сказал раненый и не договорил, увидев страшное лицо Тараса Григорьевича, объятое ужасом и состраданием одновременно.
Дед Макар глянул на Риту, печально покачал головой:
— И-и-э-эх!
— Меня прикрыла… Меня прикрыла… меня прикрыла… — монотонно повторял потрясенный Тарас Григорьевич. — Зачем? Зачем? Кому я нужен? Обрубок… А ей бы только жить. Меня прикрыла… Зачем?
Потом он вдруг спохватился:
— Может, ранена? Спасти можно? Гони, дед, в госпиталь! Меня снимите и гони!
— Поздно, — покачал головой раненый, рассматривая кровавые пятна на белом халате — следы двух осколков. — Красивая была. Вот ведь как…
— Гони, дед, гони! — настаивал Тарас Григорьевич.
К машине, стоявшей впереди, сходились раненые.
— Эй, люди! — окликнул их дед Макар. — Помогите!
Трое подошли, увидели Риту. Молча покачали головами.
— Осколками её, — пояснил раненый.
— Меня прикрыла… Меня прикрыла… — уже почти бессмысленно повторял Тарас Григорьевич.
Его понесли к машине, туда же похромал раненый. Дед Макар сел в телегу. Тронул вожжи. Тайка, перепуганная бомбёжкой, послушно шла по дороге.
— Гони, гони! — кричал вслед Тарас Григорьевич, всё ещё надеявшийся на чудо.
— Чего гнать-то? — сам себе сказал дед Макар. — Теперь уж домой везти надо.
Хоронить Риту пришли все одноклассники, кто ещё не уехал. Елена Григорьевна, истаявшая за сутки чуть ли не вдвое, молча сидела у гроба, так же молча теряла сознание, а когда её приводили в чувство, опять молча и тупо смотрела на единственную дочь, не в состоянии осознать несчастье. Пётр Петрович, суровый, почерневший лицом, иногда отдавал какие-то распоряжения.
Зойка всё видела, слышала, но воспринимала так, как будто это не она стояла у гроба подруги, а кто-то другой. Лёня где-то вычитал и говорил ей, что иногда в минуты крайнего отчаяния человек видит не только всё окружающее, но и себя как бы со стороны, воспринимает реальность как нечто неправдоподобное — так проявляется способность психики защищаться от горя.
Паша и Генка расставляли венки. Их Зойка тоже не видела со дня последнего экзамена и тут даже удивилась: оказывается, всё ещё в городе, на фронт не сбежали, как постоянно грозились. Таня постриглась совсем коротко, ей это идет. «Господи, о чём это я? Рита даже теперь такая красивая в своём любимом голубом платье. Голубая бабочка… Да что это я?» Мысли путались у Зойки в голове. Таня, стоявшая рядом, осторожно тронула Зойку за руку, потом с силой сжала и горько прошептала:
— Что я буду делать на Урале одна? Только вчера утром смеялись…
Зойка ясно вспомнила слова Риты: «Мне кажется, мы уже никогда не увидимся» и прошептала:
— А она чувствовала… Надо Володе сообщить.
— Надо Лёне сообщить.
— Лёне? — переспросила Зойка.
Таня не смотрела на неё, помолчала, что-то обдумывая, а потом решительно сказала:
— Рита любила его. Его одного больше всех. Она скрывала это от тебя. Недавно только мне призналась.
— Это… Это…
Зойка хотела крикнуть: «Это неправда!» Но спазмы сжимали горло, и слова застряли. До сих пор она не хотела признаться самой себе, что догадывалась об этом. Потому что, если бы знала наверняка, не смогла бы чувствовать себя счастливой, ей мешало бы чувство вины перед подругой. Так, значит, это всё-таки правда. Голубая бабочка… Зойка считала Риту беспечной бабочкой, порхающей с цветка на цветок, а она умела любить глубоко и искренне. Безответно. Тогда, на перроне, в день расставания с Лёней, Зойка видела за кустами сирени её голубое платье, в котором Рита лежит сейчас. Она приходила, чтобы в последний раз глянуть на Лёню, тайно проститься с ним. Как же можно было это не понять, не догадаться?
Зойка чувствовала тошноту и слабость, ей казалось, что она вот-вот упадёт. «Как я могла ничего не видеть, не замечать? Вот уж верно: счастье глаза дымом застилает, делает человека слепым».
Вечером, после похорон, они вчетвером сидели у Риты на веранде. Если бы она была жива, то восторженно закричала бы:
— Ребята, смотри-и-ите, какая луна-а!
Но Рита ушла от них навсегда, а они собрались в её доме, чтобы поддержать родителей подруги и последний раз почтить память о ней воспоминаниями.
На веранду вышел Пётр Петрович и тихо проговорил:
— Сидите, сидите, ребята. Я просто постою немного с вами.
Всем хотелось говорить о Рите, но говорили мало, потому что трудно было произнести слово «была». Нелепая смерть Риты словно оборвала какие-то струны внутри у каждого. Молчаливее всех был Паша. Он, кажется, вообще не произнёс ни слова с тех пор, как Зойка увидела его здесь, во дворе, ещё днём. И вдруг Паша неожиданно обратился к отцу Риты:
— Пётр Петрович, помните, вы говорили о партизанском отряде?
— Говорил, — чуть помолчав, ответил Пётр Петрович.
— Так вот. Мы решили вступить в ваш отряд.
— Все четверо?
— Нет, я и Гена. Мы уже всё обсудили. Если не возьмёте, сами уйдём. Куда — всё равно. К какой-нибудь части пристроимся. Или так, сами, вдвоём, будем действовать в тылу у немцев. Так что лучше возьмите.
Паша говорил твердо, и все понимали, что это не просто слова — он дружил с Ритой с детства и гибель её пережил сильнее остальных друзей. Пётр Петрович молчал, обдумывая ответ, потом с сомнением покачал головой.
— Я должен! — настаивал Паша. — Я должен отомстить за Риту. Вы… вы не имеете права не взять меня!
Пётр Петрович долго молчал, опустив голову, и ребята видели, что сильное волнение мешает говорить ему. Наконец, он махнул рукой:
— Собирайтесь. Только никому ни слова. Завтра уходим. Заодно будете помогать Елене Григорьевне. Она пойдёт с нами, её нельзя оставлять в таком состоянии. Ну, а вы, девочки, живите долго…
Голос Петра Петровича осёкся, он махнул рукой и быстро ушёл в комнату.
Друзья проводили Таню, простились с ней — она уезжала утром с последней партией раненых на Урал, куда переводили госпиталь. Втроём постояли около Зойкиных ворот. Генка сказал:
— Ну, что, сеньорита Зойка, будем прощаться?
— Гена, береги себя, — с участием сказала Зойка. — Не лезь там без толку, куда не надо.
— Ну, если только под танк… со связкой гранат, — ответил Генка, стараясь этой бравадой скрыть волнение.
— Говорю же тебе, не надо…
— А это, Зоечка, надо, — прервал её Генка вполне серьёзно. — Кому-то же надо. В общем, до свидания.
Генка крепко пожал Зойке руку. Она заморгала, удерживая набежавшие слёзы, и неожиданно для него чмокнула его в щёку. Генка заулыбался и пошёл к дому, оборачиваясь и махая рукой. Когда он скрылся за калиткой, Паша протянул Зойке руку:
— До свидания. Я думаю, мы ещё увидимся. Верю в это.
— Я тоже хочу верить. Но там так опасно.
— Сейчас везде опасно, — заметил Паша, и Зойка догадалась, что в этот момент он подумал о Рите.
— Что бы ни случилось, мы будем помнить друг о друге, — сказала Зойка. — Те, кто останется жив. Береги себя, Паша. Ты должен жить.
— Я постараюсь. А ты тоже, Зоя… Разреши обнять тебя на прощание.
— Ой, Паша!
Зойка сама обхватила его руками, а он молчал и гладил её по голове. Потом осторожно отстранил от себя, помолчал, что-то обдумывая, и сказал:
— Вот и всё. А знаешь, это я тогда стоял под твоими окнами, когда ты болела.
Он отступил на несколько шагов, ещё некоторое время постоял, глядя на неё, потом резко повернулся и пошёл. Изумленная Зойка не могла двинуться с места. Паша уже почти бежал, но вдруг остановился, обернулся и, увидев, что она всё ещё стоит, крикнул издали:
— Это я стоял под твоими окнами!
Эвакуация
Раннее утро, а дышать уже нечем. Конец июля — самый зной. Воздух, не успев остыть за ночь, наливался новым жаром. Зойка осторожно открыла пошире окна, стараясь не разбудить девочек. Эту ночь она спала в детдоме — директор приказал. Вчера перед ужином, при всех, он обратился к ней:
— Зоя Дмитриевна, враг уже под Сальском. Может случиться так, что срочно начнём укладываться. Надо, чтобы вы всё время были с детьми. Оставайтесь на ночь.
Она охотно осталась. Что у неё, семеро по лавкам? Ей льстило, что в детдоме все называли её по имени и отчеству, даже Нина Трубникова, которая была всего на год младше, даже директор и сорокалетняя медсестра Ирина Ивановна Бутенко. Но, проходя мимо Зойки, когда никто не смотрел на них, Андрей Андреевич шепнул:
— Зайдёшь после отбоя, поговорить надо.
Зойка хотела спросить, о чём пойдёт разговор в такое позднее время, но директор, как всегда внушительный и деловой, уже выходил из столовой.
Уложив ребятишек, Зойка вышла на ступеньки, ведущие во двор, и стояла в раздумье: а может, всё-таки не пойти к директору? Её что-то беспокоило в его приглашении, сделанном так таинственно, по секрету от всех. Беспокоило и то, как Андрей Андреевич смотрел на неё порой, словно оценивал, чего она стоит. Зойка его немного побаивалась и старалась изо всех сил: пусть видит, что на неё можно положиться. Но идти к нему в кабинет ночью… Она вздохнула: нет, раз директор приказал, разве можно ослушаться?
— Стоишь?
Зойка услышала приглушённый голос Андрея Андреевича. В полной темноте он прозвучал так неожиданно, что она ойкнула.
— Ночь какая, — сказал Андрей Андреевич, голос его прозвучал ровно, и Зойка не поняла, что он хотел выразить, восхищение или неудовольствие тем, что так темно и душно.
— Темно очень, — сказала она, чтобы поддержать разговор.
— Ничего, это даже и лучше, — сказал директор. — Надоело у всех на глазах жить. Каждый шаг на виду. А ведь человек так устроен, что у него обязательно должно быть что-то своё, личное, о котором другим знать не надо. А? Согласна?
— Н-не знаю, — неуверенно протянула Зойка, потому что ей нечего было скрывать от людей.
— Без личного человеку никак нельзя, — продолжал директор. — Не чурбаки же мы, люди. И душа волнуется, и сердце чего-то просит. Как это в романсе поется? «Сердце ласки просит». Это всем нужно. Что, не правда? Ведь правда!
— Не знаю, — опять повторила Зойка, не понимая, к чему он клонит.
— Ну вот, заладила одно: не знаю да не знаю. Всё ты знаешь, только хитришь. Ведь знаешь, что ты мне нравишься.
— Не знаю! — поспешно и испуганно выпалила Зойка.
— Так теперь будешь знать, — спокойно сказал Андрей Андреевич. — А что тут плохого? Ну, нравится человек — и всё. Ничего тут такого нет.
— Да ведь жена у вас!
— А что жена? Она далеко. Я её и сына давно к родным в Сибирь отправил. Что им здесь делать? Здесь неспокойно. Того и гляди, немцы нагрянут. Или какая-нибудь бомбёжка — и нет тебя. И хотел бы тогда взять все радости жизни, а не возьмешь, потому что нет тебя. Вон как твоя подружка… Разве это справедливо, чтобы человек погибал, не познав всех радостей жизни?
Андрей Андреевич сделал ударение на слове «всех» и, остановившись перед входом в беседку, стоявшую в глубине двора, взял Зойку за руку, предложил:
— Давай посидим в беседке.
— Н-нет, — не согласилась Зойка. — Лучше я в палату пойду, поздно уже.
— Давай, давай посидим! Здесь так хорошо. И никто ничего не увидит, не беспокойся. Никто.
Андрей Андреевич перешёл на горячий шёпот, и это было так необычно для человека всегда бесстрастного, подчёркнуто сдержанного, что Зойка в первую минуту опешила. Директор, воспользовавшись её замешательством, почти втолкнул Зойку в беседку. Она рванулась и, толкнув его обеими руками в грудь, крикнула:
— Вы чего это? Вы чего?
— Тише ты, дура! — грубо и зло прошипел директор. — Стой! Куда ты?
Но Зойка бежала, не оглядываясь. Только у входа в палату она перевела дыхание. Потом тихонько скользнула в постель и долго лежала с открытыми глазами. Никак не удавалось уснуть, мешали беспокойные мысли: «Что ему надо? Выгонит теперь».
Однако утром, когда они встретились, лицо директора, как обычно, ничего не выражало, и Зойка уже думала, что всё обошлось. Тут Андрей Андреевич громко, скорее, для остальных, чем для неё, сказал:
— Зоя Дмитриевна, собирайтесь, сейчас поедете с Макаром Захаровичем в краевой центр. Надо получить вещи, которые нам в дороге могут пригодиться. Просите больше одеял и постельного белья. Скажите: нам в дорогу нужны одеяла. Скорее всего, под открытым небом спать придётся — их подстелем, ими и укроемся.
— Значит, всё-таки эвакуация, — грустно сказала медсестра.
— Не немцев же дожидаться! — слегка повысил голос директор.
— А куда же вы девчонку посылаете? — осторожно сказала Ирина Ивановна. — Так тревожно.
— А кого мне послать? Вас? Так медсестра здесь нужнее.
То, что придётся ехать за двести километров по опасной дороге, Зойку не пугало. Сейчас она осознавала только одно: директор оставил её здесь, рядом с детьми, ей никуда не нужно уходить. И обрадованная Зойка сказала:
— Хорошо, Андрей Андреевич, я поеду.
— Но всё-таки… совсем девочка, а немцы так близко, — встревожено сказала Ирина Ивановна.
— Она на работе! — отрезал директор. — Собирайтесь, Зоя Дмитриевна. Сходите за Макаром Захаровичем и поезжайте.
— Хорошо, — ответила Зойка и пошла к Степаниде за дедом Макаром.
В доме у Степаниды опять что-то происходило. Там стоял невероятный гвалт: бабы суетились около стола под вишней, дед Макар путался у них под ногами, а весёлая Тонька кричала:
— Мам, да где вы там? Несите скорее вареники, я уже и сметану достала!
Вареники в доме? Да ещё со сметаной? Значит, какой-то праздник. И только Зойка хотела позвать деда Макара, как на крыльце появилась Степанида и оповестила собравшихся к забору соседок:
— Та радость же у нас! Ночью Тонькин мужик вернулся! Подчистую списали! Всё! Отвоевался!
И тут вышел он сам. Лицо нервное, жёлтое. Он глухо поздоровался и стал спускаться со ступенек, опираясь на костыли. Совсем не таким уходил лейтенант на фронт. Куда девались его молодцеватость, стать. Он горбился и не смотрел на людей, как будто ему было необыкновенно стыдно, что в бою ему сильно повредило ногу, и он теперь не может воевать. Вернулся муж-калека, а счастливая Тонька радостно прижимала руки к груди: теперь он наверняка не погибнет на фронте, он туда больше не попадёт.
Дед Макар взял в дорогу свою неизменную «шубейку» — старую овчину и маленький горшочек с варениками. Зойка успела прихватить только помидоров и огурцов с грядки да кусок хлеба. Бабушка сунула ещё в солому бутылку с компотом. Ехать-то весь день в одну сторону и столько же обратно.
Телега тряско катилась по ухабистой дороге, ударяясь о каждую кочку, ныряя в каждую рытвину. Деду Макару иногда удавалось уговорить Тайку пробежаться рысью, но лошадь быстро уставала и переходила на тяжёлый шаг.
Дед Макар поначалу много говорил, вспоминал войну четырнадцатого года, когда он сильно отличился и получил Георгиевский крест. Потом устал и умолк. Тихо сидел в телеге спиной к Зойке и как будто дремал. Тогда Зойка достала из кармана солдатский треугольник, сложенный вдвое и вложенный в комсомольский билет, который она всегда носила с собой, осторожно развернула письмо и начала читать уже в который раз:
«Здравствуй, дорогая Зоя!
Как я уже тебе сообщал, на передовую нас пока не посылают. Живём в казармах, весь день с утра до вечера проводим на полигоне. Учимся стрелять, ходить в атаку. Хотя пехота — „царица полей“, я прошусь в десантники или в разведку. Говорят, там риска больше, а значит, интереснее. Но ты не волнуйся, потому что риск везде одинаково велик.
Всем нам эти игры на полигоне изрядно надоели, хочется в бой. Уже второй месяц в армии, а настоящего дела пока не видели.
Первое время я сильно уставал, даже снов не видел. Только к подушке прикоснусь. А уже вставать надо. Но вот третью ночь подряд вижу нашу степь, всю в тюльпанах, и слышу, как поют жаворонки.
Ведь я так и не сказал тогда, как люблю тебя. Не знаю, почему, но не мог произнести этих слов. Хочу, чтобы теперь ты это знала.
До свидания, любимая. Жди и помни.
Твой Лёня».
Это было совсем свежее письмо, оно пришло всего день назад, и потому Зойка взяла его с собой, чтобы читать в дороге. Телегу сильно трясло, буквы прыгали перед глазами, и она, скорее, не читала, а вспоминала всё, что писал Лёня, потому что знала уже это наизусть. Она сообщила ему о гибели Риты, но он, конечно, ещё не успел получить её письма, ведь почта идет так долго.
Дед Макар сказал:
— Я вот старый уже, а то бы на фронт убёг.
Зойка засмеялась, представив себе, как дед Макар тайком, кряхтя и проклиная «ридикулит» и больные ноги, пробирается на фронт.
— А ты не скалься! — обиделся дед Макар. — Ежели немцы до нас дойдут, я в партизаны подамся. Вот прямо с лошадью и телегой уйду. Небось, там сгодимся.
— Дедушка, а меня в партизаны возьмут? — оживилась Зойка.
— Не, тебя не возьмут. Стрелять не умеешь. Лошади у тебя нету. На кой ляд ты там сдалася?
— Злой вы, дедушка.
— Не, я ж по справедливости тебе сказал. Не, я не злой. Это вон наш директор — тот злой.
— Почему вы так думаете? — заинтересовалась Зойка. — Он, по-моему, равнодушный какой-то.
— Во! То-то и оно! — подхватил дед Макар. — Морда, как деревяшка обструганная. Вот такие-то самые злые и есть. А добрый бы сам в крайцентр поехал, тебя бы не послал в этакую пору.
В краевой центр приехали в сумерки. Пока нашли базарную площадь, наступила ночь. Последнее, что успела увидеть Зойка, были тяжелые каменные бабы у входа в краеведческий музей, которые по-прежнему стояли незыблемо и прочно. Зойка даже позавидовала этим истуканам — их ни время, ни войны не берут.
На площади пристроились рядом с деревянным шатром, в котором какой-то удалец демонстрировал днём потрясающий (!) аттракцион — «круг смелости», взбираясь на мотоцикле по стенкам шатра.
Утром нашли склад. Он оказался почти рядом, в подвальном помещении крайоно. Грузная женщина в чёрном сатиновом халате посмотрела бумаги, представленные Зойкой, и сказала:
— Берите, сколько хотите, всё равно вывозить не на чем. Побольше берите, не оставлять же немцам.
— А может, их сюда ещё и не пустят, — возразила Зойка, потому что ей было неприятно это постоянное упоминание о немцах.
— Э-э-эх, — вздохнула женщина, — бери уже, пока даю, только распишись вот здесь.
Прав оказался Андрей Андреевич: сейчас можно получить всё, что попросишь. Зойка стала складывать в телегу шерстяные одеяла, постельное белье, полотенца, как он и наказывал. И вдруг она увидела пальтишки, как раз на её ребят.
— Надо? Бери, — согласилась кладовщица. — Только распишись.
Зойка, обрадовавшись, стала носить пальтишки в подводу.
— А может, платья есть, костюмчики для мальчиков, обувь?
— Обувь? Ботинки есть. Бери. И платья есть. Костюмчиков нет, но вот брючата для мальчишек. Хочешь — бери.
Зойка никогда так не радовалась вещам, как в этот раз. Оденут они ребят во всё новое! Уж лучше одеял поменьше взять, ещё старые в детдоме есть, зато у всех будут ботинки новые! Вот удивится Андрей Андреевич! Наверняка останется доволен, что она такая сообразительная. Вот и загладит вчерашнюю резкость!
Назад выехали сразу же, не задерживаясь: путь-то вон какой длинный! Опять придётся несколько раз останавливаться, чтобы дать лошади передохнуть.
Припасы свои они съели, и с полдороги Зойку начал мучить голод. На пути попалось поле подсолнечника. Зойка открутила три шляпки и принялась грызть семечки. Это несколько утолило голод, но есть всё равно хотелось. Дед Макар, как видно, тоже не прочь был пожевать. Успокаивая себя и Зойку, он сказал:
— Ничего, вот в Лександровку приедем, пшёнки поедим. Там завсегда такая каша! Масло сверху так и плавает.
В Александровском они подъехали прямо к столовой, где варили знаменитую кашу. Хмурая повариха налила им по тарелке жидкой пшёнки без каких бы то ни было признаков масла.
— Ну и ничего, она и так вкусная, — решил голодный дед Макар и быстро очистил тарелку.
— А что вы везёте? — спросила хмурая повариха, увидев через окно телегу. — Кажись, одеяла шерстяные?
— Есть и одеяла, — подтвердил дед Макар.
— Продай одно, — сказала повариха.
— Та не можно ж! — возразил дед Макар. — Оно же казённое.
— Ну ладно, бутылку масла ещё дам за одеяло, — продолжала торговаться повариха.
— Та ты что, сказилась? Говорю же: казённое! Для детдому.
— А у меня масло свое, что ли? Тоже казённое. Так я ж не жалею. Или тебе, дед, масла не надо?
Зойка просто онемела сначала от такой наглости, а потом крикнула, отодвинув тарелку:
— Не дам! А воровать… стыдно!
Она выскочила на улицу, не доев кашу. Рядом семенил дед Макар. Им в спины летела брань «обиженной» поварихи.
Летнее солнце садится поздно, около девяти вечера, и дед Макар то и дело подгонял отдохнувшую лошадь, чтобы успеть домой засветло. Зойка уже не удивлялась тому, что старая кляча бежит довольно резво с такой поклажей: к дому ноги сами несут. Однако к городу подъезжали после заката.
— Темно уже, лучше я телегу в нашем дворе поставлю и спать в ней лягу, чтобы вещички не растащили, — решил дед Макар и свернул на свою улицу.
Несмотря на поздний час, на крыльце у Степаниды было шумно. Дед Макар остановил лошадь, крикнул:
— Стешка! Чего тут у вас?
— Приехали, папаня? Ну, слава тебе, господи. О-о-ой, а у нас тут такое-е… Тонькин мужик опять на фронт собрался.
— Да куда же ему с такой-то ногой? — изумился дед Макар.
— Ну! И мы же ему про то! А он говорит: перейду в танкисты, в танке можно и с такой ногой сидеть и даже вовсе без ноги. А Тонька вон ревёт, уже вся слезами изошла!
Зойка, поднимаясь к себе по ступенькам, восхищенно покрутила головой: ну и характер у лейтенанта!
Утром, принимая груз, доставленный Зойкой, Андрей Андреевич лично пересчитал одеяла и белье. Увидев одежду и ботинки, спросил:
— А это что такое?
— Дети пообносились совсем, а тут всё новое, — радостно заулыбалась Зойка. — Вот я и решила самостоятельно побольше вещей для них взять.
— Разве я говорил? — холодно оборвал директор. — Когда будешь сама командовать, тогда и будешь принимать самостоятельные решения. А пока надо делать то, что приказывают.
Зойке опять послышались нехорошие нотки в его голосе. Что он за человек? Да разве плохо детям одеться во всё новое?
— Са-мо-сто-я-тель-на-я, — процедил директор. — Ладно, потом раздадите. Должны звонить из горкома партии, тогда позовёте, я на складе.
Голос Андрея Андреевича опять был ровным и холодным. Когда он вышел, Зойка вздохнула, глянула на перекидной календарь и перевернула два листочка, отметив про себя, как незаметно пробежали первые дни августа. Потом она вырвала два листа из тетради: пока будет сидеть, можно написать Лёне. На столе лежал штемпель детдома. Зойка шлепнула им по чистому тетрадному листу — ничего получается, со-лид-но! Пусть Лёня увидит, в каком учреждении она работает. И Зойка шлепнула штамп ещё на один листок.
Но сесть за письмо ей так и не удалось. Раздался звонок телефона, и она, крикнув в трубку «Сейчас!», побежала за директором. Звонили из горкома партии, приказали немедленно готовить детдом к эвакуации и сообщили, что направление в Среднюю Азию уже выписано, пусть кто-нибудь заберёт. Директор отправился сам, потому что надо было получить и деньги на всю дорогу для детдома.
Зойка, одетая в своё любимое платье из сатина, пошла к детям. По пути заглянула к Ирине Ивановне, спросила английскую булавку. Медсестра, у которой всегда можно было найти любую мелочь, порылась в столе и протянула булавку со словами:
— Вы уже собрались в дорогу, Зоя Дмитриевна?
— Ещё успею.
— А я, пожалуй, сейчас пойду. Да много ли возьмёшь с собой? Так жалко всё бросать. Мы с мужем только обжились перед войной, домик построили. Очень жалко. Правда, его старики остаются, присмотрят. А может, ещё и не поедем? Говорят, их под Сальском остановили.
— Поедем, — сказала Зойка, — только что звонили из горкома партии. Андрей Андреевич пошел за бумагами.
— Тогда я мигом соберусь, — заспешила Ирина Ивановна.
Зойка подумала, что ей тоже надо бы собраться, но тут же представила испуганно-укоризненные глаза матери и остановилась в раздумье. В самом деле, что ей делать? Она не могла взять с собой, с детдомом, всю семью. Уехать со своими, что будет с детьми?
Так ничего и не решив, Зойка вложила проштампованные листки в комсомольский билет, сунула в карман и пристегнула его булавкой: так надежнее, теперь оттуда ничего не выпадет.
Она пошла к детям, которые играли во дворе. Вовик и Толик, прозванные близнецами за то, что никогда не разлучались, лихо скакали на одном прутике, как на коне. Каждый мог бы иметь своего «коня», но тогда они не были бы вместе. Мальчишки из разных семей, они и внешне, и по характеру были разными. Что их сдружило и сблизило, трудно было понять. Но Зойку радовало, что мальчишки привязались друг к другу, как братья, так им легче жить.
Около Розы, как всегда, сидела Люда и заплетала девочке косички, умудряясь завязать симпатичные бантики из каких-то цветастых тряпочек. Рядом сидела с куклой Таня, та девочка, которая подошла к Зойке в первый день. И тоже пыталась заплести косу кукле. К Тане у Зойки было особое чувство. Острая жалость всегда пронизывала её при виде печального бледного личика. Даже Роза отошла от своего горя в детдоме, повеселела, посвежела, а Таня смотрела с такой невыразимой тоской, что сердце надрывалось. Есть дети, которые не могут смириться со своим одиночеством, Таня — из них. И хотя было непедагогично выделять кого-то из ребят, Зойка старалась уделить Тане побольше внимания.
Увидев Зойку, Таня, словно поражённая чем-то, замерла на несколько секунд, глядя на неё.
— У мамы тоже были такие цветочки на платье, — вспомнила, наконец, девочка и, опустив голову, снова принялась заплетать косичку кукле.
Зойка не знала, что и сказать. Да в таком сатине кто только не ходит! Хоть иди и переодевайся. Выручила Люда.
— У нас в деревне все девчата тоже в красивых платьях ходили, — сказала она. — Вот кончится война, и нам такие сошьют.
— Конечно! — подхватила Зойка. — Нарядим вас во всё красивое. Да я вас и сейчас наряжу.
Все пошли к подводе, на которой так и остались лежать не принятые Андреем Андреевичем платья, ботинки, брюки. Зойка старалась каждому что-нибудь подобрать. Скоро ребята весело толкались, хвастая обновами.
— Эй, разойдись, народ!
Во двор со скрипом вкатилось семь подвод. На передней сидел Витя Суханов и по-ямщицки покрикивал, разгоняя малышей, которые мешали проехать дальше. Рядом с ним с видом умиротворённой царевны Несмеяны сидела Нина Трубникова. Второй подводой правил Костя. На остальных тоже были ребята из старшей группы.
Стали укладываться в дальнюю дорогу. Даже малыши старались чем-то помочь. Когда уже все подводы стояли во дворе, загруженные вещами, в небе послышался тяжелый, «подвывающий» гул. Город бомбили уже несколько раз, и этот гул Зойке был знаком. Она подняла голову и увидела, как при ярком солнце, в чистом небе медленно плыли самолеты. Никто не успел ничего сообразить, как раздался первый взрыв. За ним ещё и ещё…