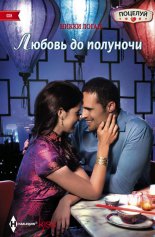Душа Петербурга (сборник) Анциферов Николай

- День по-прежнему гнил и не светел,
- Вместо града дождем нас мочил.
- Средь могил, по мосткам деревянным
- Довелось нам долгонько шагать.
- Впереди, под навесом туманным,
- Открывалась болотная гладь:
- Ни жилья, ни травы, ни кусточка,
- Все мертво — только ветер свистит.
- ……………………………………………..
- Наконец вот и свежая яма,
- И уж в ней по колени вода…
И тему «приключения с покойником» использовал Н. А. Некрасов.
Коляска с проезжавшим офицером зацепила дроги с мертвецом.
- Гроб упал и раскрылся. «Сердечный ты мой!
- Натерпелся ты горя живой,
- Да пришлося терпеть и по смерти»…
- («О погоде»)
Что дает Некрасову созерцание Петербурга? Безысходная тоска овладевает душой.
- Злость берет, сокрушает хандра,
- Так и просятся слезы из глаз.[271]
Большой, бессмысленно суетливый город, какой-то ненужный, «лишний город», как были «лишние люди».
И мрачная стихия, готовая поглотить его, утратила черты и грозного, безликого хаоса, посягающего на космическое начало творчества лица, и Немезиды, карающей за попранную правду. Стихия, выступающая у Некрасова, такая же бессмысленная, слепая, как и сам город. Дуализм исчез. Ни в городе, ни в восстающих против него стихиях нет правды. Все стало бессмыслицей.
- Ночью пушечный гром грохотал
- Не до сна! Вся столица молилась,
- Чтоб Нева в берега воротилась,
- И минула большая беда
- Понемногу сбывает вода.
- Начинается день безобразный
- Мутный, ветреный, темный и грязный.[272]
- («О погоде»)
К этому городу смерти относится Н. А. Некрасов с большим интересом. Внимательно всматривается он и в «архитектурный пейзаж», изучает и «физиологию», иногда невольно увлекаясь своеобразием города. При описании зимы поэт неожиданно находит слова, достойные прошлого Петербурга:
- … Каждый шаг,
- Каждый звук так отчетливо слышен.
- Все свежо, все эффектно: зимой
- Словно весь посеребренный, пышен
- Петербург самобытной красой!
Убор из инея составляет действительно прекрасное украшение туманной столицы севера, сообщая ему своеобразную пышность (только эпитет «эффектно» ослабляет впечатление).
- Серебром отливают колонны,
- Орнаменты ворот и мостов;
- В серебре лошадиные гривы,
- Шапки, бороды, брови людей,
- И, как бабочек крылья, красивы
- Ореолы вокруг фонарей![273]
Но Н. А. Некрасову редко удавалось отмечать красоту Петербурга. Гораздо характернее для него другой отрывок, посвященный описанию петербургского ландшафта:
- Говорят, еще день. Правда, я не видал,
- Чтобы месяц свой рог золотой показал;
- Но и солнца не видел никто.
- Без его даровых, благодатных лучей
- Золоченые куполы пышных церквей
- И вся роскошь столицы — ничто.
- Надо всем, что ни есть, над дворцом и тюрьмой,
- И над медным Петром, и над грозной Невой,
- До чугунных коней на воротах застав
- (Что хотят ускакать из столицы стремглав)
- Надо всем распростерся туман.
- Душный, стройный, угрюмый, гнилой,
- Не красив в эту пору наш город большой,
- Как изношенный фат без румян.[274]
- О погоде
Но туман свойствен Петербургу, что постоянно подчеркивает и Н. А. Некрасов, а солнце лишь редкий гость, чувствующий себя как будто не совсем хорошо в больном городе, а следовательно, по существу Петербург изношенный фат без румян. Иронически-желчный тон поэта подчеркивается эпиграфом, взятым из лакейской песни:
- Что за славная столица
- Развеселый Петербург![275]
Изменились люди, изменился и город. С большим интересом наблюдает Н. А. Некрасов столичную жизнь. Он отмечает суету Невского проспекта:
- Невский полон: эстампы и книги,
- Бриллианты из окон глядят;
- Вновь прибывшие девы из Риги
- Неподдельным румянцем блестят.
- Всюду люди шумят, суетятся.[276]
Но теснота, и блеск, и радость не соблазняют поэта.
Показная сторона богатств европейского города имеет свою изнанку. Исследуя, как точный естествоиспытатель, Петербург, Н. А. Некрасов вводит в свою характеристику и рабочую окраину города:
- Свечерело. В предместиях дальних,
- Где, как черные змеи, летят
- Клубы дыма из труб колоссальных,
- Где сплошными огнями горят
- Красных фабрик громадные стены,
- Окаймляя столицу кругом…[277]
Новый город крупной промышленности вырастает из старой «военной столицы», но, к сожалению, эта тема мало развита, словно поэзия чувствует себя неуверенной на новых местах. Внешняя жизнь улицы в самых разнообразных ее проявлениях, но всегда в тоне желчной иронии тщательно отмечается Некрасовым в его описаниях Петербурга. Столь любимые толпою парады привлекали внимание поэта, но его характеристика антитетична описанию А. С. Пушкиным «потешных Марсовых полей».[278]
- В этой раме туманной
- Лица воинов жалки на вид,
- И подмоченный звук барабанный
- Словно издали жидко гремит…[279]
- О погоде
Парад подмоченный не может удержать внимание поэта, он с большей охотой обращается к толпе зрителей. Кого тут нет.
- Пеших, едущих, праздно-зевающих,
- Счету нет!
- Тут квартальный с захваченным пьяницей,
- Как Федотов его срисовал;
- Тут старуха с аптечною сткляницей,
- Тут жандармский седой генерал;
- Тут и дама такая сердитая
- Открывай ей немедленно путь!
- ………………………………………………..
- Тут бедняк-итальянец с фигурами,
- Тут чухна, продающий грибы,
- Тут рассыльный Минай с корректурами…[280]
Видимо, и сам Н. А. Некрасов хочет набросать эскиз во вкусе Федотова. Пестрая толпа стала больше интересовать, чем «однообразная красивость» войск в их «стройно-зыблемом строю».[281] Более всего удается Н. А. Некрасову описание «трудовой жизни» петербургской улицы.
- Начинают ни свет ни заря,
- Свой ужасный концерт, припевая,
- Токари, резчики, слесаря,
- А в ответ им гремит мостовая!
- Дикий крик продавца-мужика,
- И шарманка с пронзительным воем,
- И кондуктор с трубой, и войска,
- С барабанным идущие боем,
- Понукали измученных кляч,
- Чуть живых, окровавленных, грязных,
- И детей раздирающий плач
- На руках у старух безобразных,
- Все сливается, стонет, гудет,
- Как-то глухо и грозно рокочет,
- Словно цепи куют на несчастный народ,
- Словно город обрушиться хочет.
- Давка, говор… (о чем голоса?
- Все о деньгах, о нужде, о хлебе.)
- Смрад и копоть. Глядишь в небеса,
- Но отрады не встретишь и в небе.[282]
Весь отрывок построен на звуковых впечатлениях. Разнообразные шумы, грохоты, ревы, все сливается в жуткую симфонию (если можно говорить о созвучии там, где нет гармонии), как в Дантовом аду. Все это звуки обреченных на муки рабского труда. Для томящихся в этом inferno[283] нет неба, в котором можно было бы найти поддержку и успокоение. Смрад и копоть насыщают улицу.
- Чу! визгливые стоны собаки!
- Вот сильней, — видно, треснули вновь…
- Стали греться — догрелись до драки
- Два калашника… хохот — и кровь![284]
- О погоде
Это сочетание крови и хохота сообщает всей картине какое-то дьявольское выражение. Во всем городе не найти ничего, на чем бы можно было с отрадой остановиться взору. Остается одно — бегство без оглядки.
- Ах, уйдите, уйдите со мной
- В тишину деревенского поля![285]
Н. А. Некрасов запечатлел Петербург с самой мрачной стороны; его образ знаменует самый безотрадный момент в цепи сменяющихся образов северной столицы. Здесь мы находим полную антитезу городу Медного Всадника.
Вместе с тем следует отметить, что Н. А. Некрасов поставил достаточно широко проблему города, пытаясь в обрисовке его пейзажа, в характеристике его частей, в описаниях его быта найти общее выражение; все это свидетельствует, что Петербург, даже в эпоху своего помрачения, сохранял власть над сознанием, вызывал к себе жгучий интерес. Н. А. Некрасов определил город, в котором он трудной борьбой «надорвал смолоду грудь»,[286] городом страданий, преступлений и смерти.
Среди писателей второй половины XIX века, воспитавшихся в традициях 60-х и 70-х годов, интересно отметить образы Петербурга, отраженные молодыми провинциалами, прибывавшими в столицу для приобщения к культурной жизни, для ознакомления с новыми идеями. Интересны характеристики Петербурга в этом смысле у В. Гаршина и В. Г. Короленко.
Гаршин создает ряд образов на темы «физиологии города» (интересно отметить описание Волкова кладбища). Но особый интерес представляет его синтезирующий образ Петербурга. Это неправда, что наша северная столица просто «болотный, немецкий, чухонский, бюрократический, крамольнический, чужой город». Гаршин, этот «южанин родом», «полюбил бедную петербургскую природу, белые весенние ночи, которые, к слову сказать, ничем не хуже пресловутых украинских ночей». Петербург стал его духовной родиной, и «это единственный русский город, способный стать духовной родиной» уроженца чужих краев. Чем объяснить это свойство? Петербург — столица великой империи не искусственная, не выдуманная, а подлинный узел, связующий разнородный организм России. Гаршин указывает на реальную и могучую связь между страною и ее настоящею, невыдуманною столицею. Вся Россия находит в нем отклик. И «дурное и хорошее собирается в нем отовсюду» — вот почему Петербург есть наиболее резкий представитель жизни «русского народа, не считая за русский народ только подмосковных кацапов, а расширяя это понятие и на хохла, и на белоруса, и на жителя Новороссии, и на сибиряка, и т. д.» Петербург живет жизнью всей империи.
«Болеет и радуется за всю Россию один только Петербург. Потому-то и жить в нем трудно».
Трудность петербургской жизни, на которую уже так хорошо указывал Герцен, заключает в себе большую прелесть. Это какая-то духовная страда.
«Ибо жить в нем труднее, чем где-нибудь, не по внешним условиям жизни, а по тому нравственному состоянию, которое охватывает каждого думающего человека, попавшего в этот большой город».[287]
Петербург Гаршина следует сопоставить с образом его у Белинского. Это столица великой империи, органически связанная со своей страной, живущая лихорадочной сложной жизнью, отражая в себе биение жизни всей России. Город родной всякому подлинно русскому человеку, кто бы он ни был. Так же, как Белинский, не сумел и Гаршин найти художественное воплощение своему интересному образу. Идея Петербурга остается сама по себе, не связанная с очерками его физиологии. В конце первого очерка Гаршин предвидит этот упрек — где же этот «страдающий», «мыслящий» Петербург? — и обещает его показать в следующих очерках. Но мы напрасно стали бы искать исполнения этого обещания. Дать художественное, конкретное воплощение Петербурга как выразителя духа великой империи было непосильно Гаршину, было не по силам и всему его времени. Один только Достоевский сумел дать характеристику «трудной» жизни Петербурга, но это только одна сторона образа Гаршина. Город, который болеет и радуется за всю Россию, остался художественно не воплощенным.
В своих воспоминаниях В. Г. Короленко сумел пополнить пробел в отражении Петербурга в русской литературе, выразив образ, близкий многим десяткам тысяч русских юношей, добравшихся до столицы из глухих углов пространной России в чаянии «неведомой, неясной кипучей жизни».
«…Сердце у меня затрепетало от радости. Петербург! Здесь сосредоточено было все, что я считал лучшим в жизни, потому что отсюда исходила вся русская литература, настоящая родина моей души… Это было время, когда лето недавно еще уступило место осени. На неопределенно светлом вечернем фоне неба грузно и как-то мечтательно рисовались массивы домов, а внизу уже бежали, как светлые четки, ряды фонарных огоньков, которые в это время обыкновенно начинают опять зажигать после летних ночей… Они кажутся такими яркими, свежими, молодыми. Точно после каникул впервые выходят на работу, еще не особенно нужную, потому что воздух еще полон мечтательными отблесками, бьющими кверху откуда-то из-за горизонта… И этот веселый блеск фонарей под свежим блистанием неба, и грохот, и звон конки, и где-то потухающая заря, и особенный крепкий запах моря, несшийся на площадь с западным ветром, — все это удивительно гармонировало с моим настроением. Мы стояли на главном подъезде, выжидая, пока разредится беспорядочная куча экипажей, и я всем существом впитывал в себя ощущение Петербурга. Итак, я — тот самый, что когда-то в первый раз с замирающим сердцем подходил «один» к воротам пансиона, — теперь стою у порога великого города. Вон там, налево, — устье широкой, как река, улицы… Это, конечно, Невский… Все это было красиво, мечтательно, свежо и, как ряды фонарей, уходило в таинственно мерцающую перспективу, наполненную неведомой, неясной, кипучей жизнью… И фонари, вздрагивая огоньками под ветром, казалось, жили и играли, и говорили мне что-то обаятельно-ласковое, обещающее… те же фонари впоследствии заговорили моей душе другим языком и даже… этой же мечтательной игрой своих огоньков впоследствии погнали меня из Петербурга».[288]
Здесь обращает на себя внимание мотив ряда фонарных огоньков. Интересно отметить эпитеты, характеризующие их: «светлые четки»… «веселый блеск фонарей под свежим блистанием неба»… «все это было красиво, мечтательно, свежо и, как ряды этих фонарей, уходило в таинственную мерцающую перспективу…»… Все эпитеты радостные, возбуждающие, бодрые.
К теме убегающей цепи фонарей возвращается В. Г. Короленко несколько раз.
Маленькая студенческая комнатка…
«…Я стоял у окна и смотрел… Таинственная мутная тьма. Беспорядочные огни, где-то над трубой, высокой, тонкой, красный огонь, где-то свисток паровоза, и цепочка огней бежит по равнине… Что окажется днем в этом туманном хаосе из темноты, огней и тумана? Конечно, что-то превосходное, необычайное, неожиданное».[289]
Перед нами вечный русский юноша, стремящийся через Петербург в жизнь. Северная столица — Пропилеи к этой жизни. В нем должно оформиться миросозерцание, закалиться воля, наметиться путь жизненного служения, в нем же придется прикоснуться к горькой чаше гнусной российской действительности.
Но Петербург останется Пропилеями. Дорога бежит дальше. Вспомним юношу Гоголя, смотревшего так на северную столицу и нашедшего в ней могилу мечтаний,[290] но взамен обретшего более глубокое знание тайн жизни, — а затем Белинского, Некрасова и тысячи безымянных, все новыми волнами наводняющих Петербург, превращающих его в город учащихся, в какой-то семинариум просвещенных работников России, жаждущих «сеять разумное, доброе, вечное».[291]
Подготовка кончена. Петербург при всем своем значении есть только этап. Дорога в настоящую жизнь за ним, огоньки бегут дальше:
«…Было свежо и приятно. Резкий ветер от взморья освежил воздух, дышалось легко. Мимо нашего окна быстро пробежал фонарщик с лестницей на плече, и вскоре две цепочки огоньков протянулись в светлом сумраке… Я почувствовал, как внезапная, острая и явно о чем-то напоминающая тоска сжала мне грудь. Она повторялась в эти часы ежедневно, и я невольно спросил себя, откуда она приходит? В ресторане я прочитывал номера «Русского Мира», в котором в это время печатался фельетоном рассказ Лескова «Очарованный странник». От него веяло на меня своеобразным простором степей и причудливыми приключениями стихийно бродячей русской натуры. Может быть, от этого рассказа, от противоположности его с моею жизнью в этом гробу веет на меня этой тоской и дразнящими призывами?
Я взглянул вдоль переулка. Цепь огоньков закончилась. Они теперь загорались дальше, наперерез по Мойке Малой Морской. Я вдруг понял: моя тоска от этих огней, так поразивших меня после приезда в Петербург. Тогда были такие же вечера, и такие же огни вспыхивали среди петербургских сумерек. С внезапной силой во мне ожило настроение тогдашней веры в просторы жизни и тогдашних ожиданий…»[292]
Образ Петербурга, создавшийся не от общения с ним, а из прекрасного далека, мог легко наполниться чисто литературным содержанием. В. Г. Короленко, наряду с Петербургом учащейся молодежи, намечает и литературный Петербург:
«Сердце у меня затрепетало от радости. Петербург! Здесь сосредоточено было все, что я считал лучшим в жизни, потому что отсюда исходила вся русская литература, настоящая родина моей души…»
Литературные образы остаются постоянными спутниками всех впечатлений студента Короленки:
«Это, конечно, Невский… Вот, значит, где гулял когда-то гоголевский поручик Пирогов… А где-то еще, в этой спутанной громаде домов, жил Белинский, думал и работал Добролюбов. Здесь коченеющей рукой он написал: «Милый друг, я умираю оттого, что был я честен…»[293] Здесь и теперь живет Некрасов, и, значит, я дышу с ним одним воздухом…»[294]
Примечательно, что здесь о вымышленных героях говорится в том же тоне, как и о самих писателях. Все невзгоды петербургской жизни заранее приемлются: литература сделала их привлекательными.
«Небо было пасмурное, серое. Так и надо: недаром же его сравнивают с серой солдатской шинелью… Вот оно. Действительно, похоже. На верхушку Знаменской церкви надвигалась от Невского ползучая мгла. Превосходно. Ведь это опять много раз описанные «петербургские туманы». Все так! Я, несомненно, в Петербурге».[295]
Это настроение не является скоропреходящим. В. Г. Короленко признается, что «розовый туман продолжал заволакивать его петербургские впечатления…», «скучные кирпичные стены, загораживавшие небо…», нравились «потому, что они были знакомы по Достоевскому… Мне нравилась даже необеспеченность и перспектива голода… Это ведь тоже встречается в описаниях студенческой жизни, а я глядел на жизнь сквозь призму литературы».[296]
Итак, Петербург Короленко — город учащейся молодежи, определяющий ее жизненный путь, и город литературных традиций.
Ничего существенного в характеристику Петербурга не было внесено Л. Н. Толстым. Д. С. Мережковский объясняет этот пробел[297] равнодушием его, находящегося во власти земли сырой, ко всякому городу. И действительно, Л. Н. Толстой, постоянно избирая Петербург местом действия своих романов, нигде не касается индивидуальности нашего города. Однако его превосходная характеристика общего облика Москвы (см. «Война и мир». Наполеон на Поклонной горе) показывает, что Л. Н. Толстой живо чувствовал лицо города и умел его передать. Остается только пожалеть, что мы остались без образа Петербурга, созданного Л. Н. Толстым.[298]
V
Перед тем как перейти к характеристике восприятия Петербурга в новейшее время, необходимо несколько отступить назад и остановиться на тех художниках слова, которые не утратили сознания значительности духовной ценности Петербурга и подготовили возрождение любви к нему и понимания его души.
В это время, когда, казалось, совсем померк город Петра, незаметно началось возрождение в русском обществе чувства Петербурга. Достоевский открыл в городе, самом прозаическом в мире, незримый мир, полный фантастики. Этот мир предвещал уже Гоголь, а после него в 40-х годах Аполлон Григорьев. Образ его Петербурга чрезвычайно широк и значителен, он охватывает многие черты предшествующей эпохи образа Северной Пальмиры и предопределяет в основном и во многих деталях подход к нему Достоевского и даже Андрея Белого.
Аполлон Григорьев, очутившись в Петербурге совсем еще юношей, ощутил себя перенесенным совсем в другой мир.
«Волею судеб или, лучше сказать, неодолимою жаждою жизни я перенесен в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности».[299]
Здесь намечается вопрос о душе города и его истории. Вся сложность нашего города им вполне учтена.
«Чтобы узнать хорошо Петербург, надобно посвятить ему всю жизнь свою, предаться душой и телом».[300]
«Петербургский зевака» в своем стремлении постигнуть душу города принимает во внимание все особенности города. Он обладает острым чувством индивидуального.
Эта удивительная тонкость восприятия сказалась и в опасной теме о белой ночи, столь разоблаченной художниками слова, всю трудность которой хорошо понимал Ап. Григорьев.
«Бывает в Петербурге время, за которое можно простить ему и его мостовую и дождь и все. Ни под небом Италии, ни средь развалин Греции, ни в платановых рощах Индии, ни на льяносах Южной Америки не бывает таких ночей, как в нашем красивом Петербурге. Бездна поэтов восхваляла и описывала наши северные ночи, но выразить красоту их словами так же невозможно, как описать запах розы и дрожание струны, замирающей в воздухе. Не передать никакому поэту того невыразимого, таинственного молчания, полного мысли и жизни, которое ложится на тяжело дышащую Неву, после дневного зноя, при фосфорическом свете легких облаков и пурпурового запада. Не схватить никакому живописцу тех чудных красок и цветов, которые переливаются на небе, отражаются в реке, как на коже хамелеона, как в гранях хрусталя, как в поляризации света. Не переложить музыканту на земной язык тех глубоко проникнутых чувством звуков, поднимающихся от земли к небу и снова, по отражении их небесами, падающих на землю…»
После описания белой ночи Ап. Григорьев оценивает петербургский день.
«Высокою, неразгаданною поэмой оказывается пошло-прозаический день Петербурга».[301]
Восприятие, указывающее на мистику обыденщины.
Город живет своей неразгаданной жизнью, и его дыхание «петербургский зевака» ощущает повсюду. Его восприятие столь обострено, что он улавливает особый характер каждой улицы.
«Петербургские улицы резко отличаются одна от другой… по крайней мере запахом».
Ап. Григорьев отметил характерную особенность Петербурга, заключающуюся в обилии и разнообразии мостов. Даже названия улиц приобретают для него значение.
«Очень замечательный факт представляют также названия петербургских улиц и переулков».[302]
Жизнь в Петербурге полна «миражной оригинальности».
«В этом новом мире промелькнула для меня полоса жизни, совершенно фантастической; над нравственной природой моей пронеслось страшное мистическое веянье, — но с другой стороны я узнал с его запахом, довольно тусклым, и цветом, довольно грязным… странно-пошлый мир».[303]
Ведь это почти гениальные слова Достоевского.
«Все это до того пошло и прозаично, что граничит почти с фантастическим».[304]
Этот грязный, странно-пошлый мир влечет каким-то странным обаянием прочь от домашнего очага.
«Просто пошлая бесстрастная скука, просто врожденное во всяком истом петербуржце отвращение от домашнего очага».[305]
Читая эти строки, нельзя не вспомнить Версилова с его «убегающей любовью» к семье.[306]
Странный город двойного бытия словно ищет покоя, равновесия в прямых, плавных линиях, равно чуждых его обоим стихиям.
В эпитете регулярный, который находит Ап. Григорьев «в тех географиях, где города очень удачно обозначаются одним эпитетом», он видит существенную черту, определяющую характер города:
«Взгляните, в какую удивительную линию вытянуты все улицы его! Как геометрически равны очертания его площадей и плац-парадов! Если где-нибудь в заневских сторонах дома и погнулись немножко набок, то все-таки погнулись чрезвычайно регулярно».[307]
Этот многогранный город со всеми противоречиями и в Ап. Григорьеве будит чувство трагического, и в этом чувстве он находит источник глубокой симпатии.
Еще раз появляется образ Северной Пальмиры.
- Да, я люблю его, громадный гордый град.
- Но не за то, за что другие;
- Не здания его, не пышный блеск палат
- И не граниты вековые
- Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
- Я прозираю в нем иное
- Его страдание под ледяной корой,
- Его страдание больное.
Тургенев сопоставляет «чахоточный румянец» с облупленными домами, со впалыми окнами.[308] Ап. Григорьев этому серому, скучному образу противоставляет образ старого города контрастов. С одной стороны, гордый град, полный пышного блеска, облеченный в вековые граниты, но скорбящая душа прозревает в нем страдание больное. И словно хочет гордый град скрыть свою муку под внешним холодом спокойствия.
Его страдание под ледяной корой!
Достоевский узнaет эту боль и даст нам трогательный образ чахоточной девушки из белых ночей, олицетворяющей Петербург; вместе с тем ему будет известна и холодная, немая панорама, раскрывающаяся с Николаевского моста («Преступление и наказание»). Но даже Достоевский не сумел слить их в образ гордого страдания, стыдливой муки.
- Пусть почву шаткую он заковал в гранит
- И защитил ее от моря,
- И пусть сурово он в себе самом таит
- Волненье радости и горя,
- И пусть его река к стопам несет
- И роскоши и неги дани,
- На них отпечатлен тяжелый след забот,
- Людского пота и страданий.
- И пусть горят светло огни его палат,
- Пусть слышны в них веселья звуки,
- Обман, один обман! Они не заглушат
- Безумно страшных стонов муки!
В этом отрывке переплелись все мотивы первой половины XIX века. И тщетное торжество над стихиями, и пот, смешанный с кровью, поглощаемый столицей империи, а в заключение гоголевское: все обман, все мечта, все не то, что кажется. Правда лишь в одном — в страдании.
- Страдание одно привык я подмечать
- В окне ль с богатою гардиной,
- Иль в темном уголку, — везде его печать!
- Страданье — уровень единый!
Призрачная «белая ночь» одна разоблачит в своем ясном сиянии весь обман маскарада и выявит подлинный лик его «страдания больного».
- И в те часы, когда на город мой
- Ложится ночь без тьмы и тени,
- Когда прозрачно все, мелькает предо мной
- Рой отвратительных видений…
- Пусть ночь ясна, как день, пусть тихо все вокруг,
- Пусть все прозрачно и спокойно,
- В покое том затих на время злой недуг,
- И то — прозрачность язвы гнойной.[309]
Аполлон Григорьев наметил основные линии, следуя которым Достоевский откроет душу переродившегося Петербурга.
Восприятие Петербурга Достоевским столь глубоко и столь сложно, что легко впасть в ошибку, опираясь на тот или другой текст, касающийся интересующей нас темы. Сколь разноречивы отзывы Достоевского о северной столице! Для выяснения его образа Петербурга следует с особой тщательностью сопоставить все мысли, чувства, желания, рожденные в душе романиста нашим городом, чтобы постигнуть все разнообразие отражения его души.
Достоевский в беглых заметках о городе («Маленькие картинки» в «Дневнике писателя») пытается дать характеристику архитектуры Петербурга. Мы можем быть уверены заранее, что сочувственной оценки ждать не следует. Годы, когда русское общество восхищалось строгим, стройным городом, отошли в далекое прошлое. И даже гениальный его гражданин, ясновидец, в этом отношении был безнадежно слеп. Это указывает лишний раз, как органична жизнь общества, до какой степени велика власть целого над его частями.
Достоевский подчеркивает бесхарактерность внешнего облика города:
«Вообще архитектура всего Петербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда поражала меня именно тем, что выражает всю его бесхарактерность и безличность за все время существования. Характерного в положительном смысле, своего собственного, в нем вот разве эти деревянные гнилые домишки, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах, рядом с громаднейшими домами и вдруг поражающие ваш взгляд, словно куча дров возле мраморного палаццо. Что же касается до палаццо, то в них-то и отражается вся бесхарактерность идеи, вся отрицательность сущности петербургского периода, с самого начала до самого конца»
(«Дневник писателя»: «Маленькие картинки»).
Таким образом, осуждая вместе со славянофилами петербургский период, Достоевский в новой столице видит его символ и его выражение. Ничего своего, все вывезено на кораблях, что со всех концов устремлялись к богатым пристаням.
«В архитектурном смысле он отражение всех архитектур в мире, всех периодов и мод, все постепенно заимствовано и все по-своему перековеркано».
Это последнее замечание вполне справедливо. Действительно, Петербург ничего не усваивал механически, всегда органически видоизменяя в согласии со своей стихией. Но как это ценное свойство оценено Достоевским? Все, что было создано в Петербурге в период его развития, оказывается жалкой копией римского стиля, псевдовеличественно, скучно до невероятности, натянуто и придумано!
Прочитав такую характеристику, хочется оставить Достоевского и не искать больше в его творчестве следов Петербурга. Но это было бы непростительной ошибкой. Вступая в Петербург Достоевского, мы проникаем в чрезвычайно своеобразный, сложный и духовно богатый мир. Уже в продолжение вышеприведенного отрывка мы встретим мысли, с которыми охотно согласимся. Правда, это будет тоже отрицательный отзыв, но он относится к последнему периоду строительства, столь варварски нарушившему строгий облик Петербурга.
«Вот архитектура современной огромной гостиницы, — это уже деловитость, американизм, сотни нумеров, огромное промышленное предприятие, тотчас же видно, что у нас явились железные дороги и мы вдруг очутились деловыми людьми».
Однако эти промышленные дома просты и откровенно меркантильны; их сменил самый безвкусный стиль современности. Какой-то беспрерывный упадок от поколения к поколению.
«…Теперь, теперь, право, и не знаешь, как определить теперешнюю нашу архитектуру. Тут какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберщине настоящей минуты. Это множество чрезвычайно высоких (первое дело высоких) домов «под жильцов», чрезвычайно, говорят, тонкостенных и скупо выстроенных, с изумительной архитектурой фасадов: тут и Растрелли, тут и позднейшее рококо, дожевские балконы и окна, непременно оль-де-бёфы,[310] и непременно пять этажей, и все это в одном и том же фасаде. „Дожевское-то окно ты мне, братец, поставь непременно, потому чем я хуже какого-нибудь ихнего голоштанного дожа; ну а пять-то этажей ты мне все-таки выведи жильцов пускать; окно окном, а этажи чтоб этажами; не могу же я из-за игрушек всего нашего капиталу решиться“».[311]
Этот отрывок свидетельствует об известном художественном чутье Достоевского, об умении поставить в связь с жизнью общества его вкусы, найти архитектурные выражения быта.
Мало того, нельзя сказать окончательно, что Достоевский не знал величия красоты Петербурга. Некоторые его описания дают основание утверждать, что он умел даже угадать пейзажный характер его архитектуры.
И все же для Достоевского Петербург остается «самым угрюмым городом»,[312] который может быть на свете. Достоевский подходит к пониманию его души согласно приемам художественного творчества его времени: через мастерски написанные бытовые картины.
Вот уголок города близ Сенной:
«На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу… Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершали отвратительный и грустный колорит картины».[313]
Не доходя до Сенной, встретил Раскольников черноволосого шарманщика с девушкой в кринолине, в мантильке, перчатках и в соломенной шляпке с огненным пером; все это было старое и истасканное; она выпевала романс дребезжащим, но приятным голосом. Раскольников любил:
«как поют под шарманку, в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают».[314]
Вот знакомые нам мотивы из «физиологии города» наших бытовиков, но как они здесь звучат напряженно и трепетно!
Эта тяга к физиологии так велика в Достоевском потому, что через нее проникают его взоры в таинственные недра души города. Этим открывает Достоевский новую страницу в истории восприятия Петербурга.
Версилов признается подростку:
«Я люблю иногда от скуки, от ужасной душевной скуки… заходить в разные вот эти клоаки. Эта обстановка, эта заикающаяся ария из Лючии, эти половые в русских до неприличия костюмах, этот табачище, эти крики из биллиардной — все это до того пошло и прозаично, что граничит почти с фантастическим.»[315]
Пристально, неотвратимо всматривается Достоевский в облик города; его скучный, больной и холодный вид не пугает, а влечет духовидца, и он начинает прозревать за этой отталкивающей оболочкой «миры иные».[316] В подобном трактире «братья знакомятся»[317] и завязываются беседы «желторотых мальчиков»,[318] в которых ставятся «мучительно старинные вопросы, над коими сотни тысяч голов кружились, и сохли, и потели» (Тютчев, «Вопросы», пер. из Гейне).[319]
Столь глубока и значительна петербургская проза, в которой так много прозревал Достоевский! Фантастическая ненастная ночь Петербурга, когда «бездна нам обнажена с своими страхами и мглами» (Тютчев),[320] сорвет уже все преграды меж нами и сокровенными тайнами души города.
В такую гнилую петербургскую ночь сладострастник Свидригайлов вспомнил в неопрятной гостинице девочку с ангельски чистой душой, нагло поруганную «в темную ночь, во мраке, в холод, в сырую оттепель, когда выл ветер».[321] И теперь дул сильный ветер, — среди мрака и ночи раздался пушечный выстрел, за ним другой.
«А, сигнал! вода прибывает, — подумал он, — к утру хлынет, там, где пониже место, на улицы, зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы, и среди дождя и ветра люди начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой сор в верхние этажи».[322]
Ночь, полная чудовищных кошмаров, сливших воедино сон и явь, — прошла. Наступило утро.
«Молочный, густой туман лежал над городом».[323]
По пути к мокрым кустам Петровского острова, у пожарной каланчи, Свидригайлов застрелился…
Другой герой Достоевского, чиновник с «испуганной душой» — Голядкин, в ненастную ночь находит своего двойника.
«На всех петербургских башнях, показывающих и бьющих часы, пробило ровно полночь… Ночь была ужасная, мокрая, туманная… Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду Фонтанки и задорно потрогивая тощие фонари набережной, которые, в свою очередь, вторили его завываниям… Господин Голядкин отряхнулся немного, стряхнул с себя снежные хлопья, навалившиеся густою корою ему на шляпу, на воротник, на шинель, на галстук, на сапоги и на все, — но странного чувства, странной темной тоски своей все еще не мог оттолкнуть от себя, сбросить с себя. Где-то далеко раздался пушечный выстрел. «Эка погодка, — подумал герой наш, — чу, не будет ли наводнения? Видно, вода поднялась слишком высоко». Только что сказал или подумал это господин Голядкин, как увидел впереди себя идущего ему навстречу прохожего…»[324]
Незнакомец преследует его. Оказывается,
«ночной приятель его был не кто иной, как он сам — господин Голядкин, другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как и он сам, одним словом, что называется, двойник его во всех отношениях».[325]
На фоне ненастной ночи совершается раскрытие ночной стороны души города, приводящее одного героя к безумию, другого к самоубийству. Углубленный реализм обнаружился в подполье души человека, подполье города.
Образ Петербурга был бы неполным, если бы Достоевский не ввел мотива мертвеца, развив его в целую кошмарную симфонию, какую-то danse macabre.[326] Один из безыменных героев, в рассказе «Бобок», ходил развлекаться и попал на похороны. Там на кладбище:
«заглянул в могилы — ужасно: вода, и какая вода! Совершенно зеленая и… ну да уж что! Поминутно могильщик выкачивал черепком…»
Притаилась здесь вражья сила, memento mori Петербурга. Долго оставался он на кладбище, прилег на длинный камень в виде мраморного гроба и услыхал звуки глухие, как будто рты закрыты подушками. Это переговаривались мертвецы, лежавшие в зеленой воде. Душевное гниение их еще более смрадно, чем гниение плотское. Сыны и дочери Петербурга продолжают свою суету суетствий и в загробном существовании, с той только разницей, что здесь они могут отбросить всякий стыд.
«Да поскорее же! Поскорей! Ах, когда же мы начнем ничего не стыдиться».[327]
Таково подполье города.
Достоевский не чувствует жизни внутри ограды семьи. Нигде нет теплоты домашнего очага. Нет семьи, спаянной любовью в одно целое. Нигде не прозвучит нежная мелодия «Сверчка на печи».[328]
Любовь к детям есть, но не родовая, а христианская любовь к «малым сим». Любовь к семье есть, но какая-то одинокая. Все любят друг друга, а слиться в нечто единое не могут. Жизнь сосредоточена на улице, где всегда какая-то тайна, словно из тумана выглянет неведомый, ужалит душу героя знанием его тайны и сгинет в бесконечных пространствах Петербурга; в трактире, где ярко разгорается мысль или трепещет какая-то непонятная струна в душе странного человека, наконец, в гостиной, наэлектризованной сценой «надрыва» или просто скандала. А если и встретится где-нибудь образ «внутри дома» поглубже гостиных, в каморке, он будет полон иступленного страдания, если не кошмарной злобы, доведенной до сладострастия. Город на болоте. Жизнь на болоте, в тумане, без корней, глубоко вошедших в животворящую мать-сырую землю. Нет корней, и душа города распыляется. Все врознь, какие-то блуждающие болотные огни, ненавидят ли, любят, всегда мучают друг друга, неспособные слиться в одно органическое целое. Все в себе, в нерасторжимых пределах своих глубоких и значительных душ, томящихся во мраке и холоде. Какая-то хмара.
«Несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и самом умышленном городе в мире».[329]
Петербург как будто остается отвлеченной идеей своего основателя, лишенной реального бытия. «Строитель чудотворный» заколдовал финские болота, и возник над ними мираж, в котором живая душа человека превращается в страдающий призрак, становится также умышленной и отвлеченной.
«Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе этот гнилой, склизкий город, поднимется вместе с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?»
Что же это — видение или же просто сон?
«Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, — и все вдруг исчезнет». Ясен после этого вывод Достоевского: петербургское утро, казалось бы, самое прозаическое на всем земном шаре, оказывается чуть ли не «самым фантастическим в мире».[330]
Вот за эту фантастику Петербурга и вплелась в ненависть Достоевского многоочитая[331] любовь. Чутко воспринял он хрупкую и тонкую душу весеннего Петербурга и согрел обрисованный образ горячей симпатией.
«Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю жизнь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами… Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательной любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно, сделается неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы, пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? Что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? Что облило страстью эти нежные черты лица? Отчего так вздымается эта грудь? Что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, все кого-то ищете. Вы догадываетесь… Но миг проходит и, может быть, назавтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже расскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады на минутное увлечение… И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами, жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени…»[332]
В белую ночь мгновенно озарил душу Достоевского скорбный облик Петербурга, но он не смог определить отношение навсегда, часто нам приходится слышать жестокие речи о трагическом городе.
Достоевский опалил свою душу о якобы «холодный» город. Его чувство Петербурга многогранно и с трудом поддается анализу.
Однако наряду с характеристиками души всего города, встречаем мы и описания отдельных уголков и их особых «гениев».
«Есть у меня в Петербурге несколько мест счастливых, т. е. таких, где я почему-нибудь бывал когда-нибудь счастлив, и что же — я берегу эти места и не захожу в них как можно дольше нарочно, чтобы потом, когда буду уж совсем один и несчастлив, зайти, погрустить и припомнить…»[333]
В «Белых ночах» показан такой уголок. Один старенький домик обрисован как «нечеловеческое существо».
«Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой маленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг, на прошлой неделе, я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля, слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску». Злодеи! Варвары! Они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка!»[334]
Здесь впервые встречаемся мы с моментом дружбы с городом, знакомимся с возможностью интимного общения с духом местности.
И все же, несмотря на эти достижения Достоевского, предсказывающие возрождение понимания Петербурга и сознательной любви к нему, наш романист остался чужд гранитному облику города, его каменной плоти.
«Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста (Николаевского), не доходя шагов двадцать до часовни,[335] так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо рассмотреть даже каждое его украшение».[336]
Здесь так четко очерчен пейзаж города, и можно ожидать, что Достоевский отдастся пушкинскому восторгу, но:
«необъяснимым холодом веяло на него /Раскольникова/ всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина».[337]
Еще не настали сроки, когда город заговорит властно и раскроются глаза его обитателей на его несравненную, единственную красу, и Достоевский своим углублением и обогащением души Петербурга подготовил это время возрождения.
Совершенно особую группу в истории восприятия Петербурга составляют представители наиболее чутких поэтов — лириков. Среди них никогда не умирала способность постижения Петрова города. Они сумели внести ряд оттенков в глубокий образ Петербурга. Кн. П. А. Вяземский в 1841 году описывает петербургскую ночь:
- Дышит счастьем,
- Сладострастьем
- Упоительная ночь!
- Ночь немая,
- Голубая,
- Неба северного дочь!
- После зноя тихо дремлет
- Прохлажденная земля;
- Не такая ль ночь объемлет
- Елисейские поля?
- ……………………………………….
- Блещут свежестью сапфирной
- Небо, воздух и Нева,
- И, купаясь в влаге мирной,
- Зеленеют острова.[338]
Ночь на Неве составляет содержание всех петербургских стихотворений Ф. И. Тютчева. Все впечатления бытия очищены от суеты житейской и перенесены в самодовлеющий мир поэзии. Петербург, введенный в этот мир, становится призрачным.
- Опять стою я над Невой,
- И снова, как в былые годы,
- Смотрю и я, как бы живой,
- На эти дремлющие воды.
- Нет искр в небесной синеве,
- Все стихло в бледном обаянье,
- Лишь по задумчивой Неве
- Струится лунное сиянье.
- Во сне ль все зто снится мне,
- Или гляжу я в самом деле,
- На что при этой же луне
- С тобой живые мы глядели?[339]
Образы Петербурга тесно связались с личной жизнью поэта. Они переплелись с его былым. Петербург вводится как фон для описания памятного события. Прикасаясь к своим воспоминаниям, Ф. И. Тютчев вызывает образы нашего города. Прикосновение к Петербургу уводит в мир былого и возвращает утраченную жизнь.
- На что при этой же луне
- С тобой живые мы глядели?
Кн. П. А. Вяземскому ночь на Неве представляется проникнутой тишиной и призрачностью Елисейских полей, Ф. И. Тютчев также чувствует себя оторванным от жизни, погруженным в мир теней.
- И опять звезда ныряет
- В легкой зыби невских волн,
- И опять любовь вверяет
- Ей таинственный свой челн.
- И меж зыбью и звездою
- Он скользит как бы во сне
- И два призрака с собою
- Вдаль уносит по волне.
- Дети ль это праздной лени
- Тратят здесь досуг ночной?
- Иль блаженные две тени
- Покидают мир земной?
- Ты, разлитая, как море,
- Пышноструйная волна,
- Приюти в своем просторе
- Тайну скромного челна.[340]
Призрачный город — какой-то Elisium теней![341] «Блаженные две тени», «покидая мир земной», «в таинственном челне» скользят «как бы во сне» «меж зыбью и звездой» по «пышноструйной волне», «разлившейся, как море». Ночь на Неве — основной мотив петербургских строф Ф. И. Тютчева. Наряду с белыми ночами его лира откликнулась и на мертвенный покой зимней реки, покрытой глыбами льда, сжатой гранитными берегами, когда вихрятся нити снежной пыли под тяжелым небом, осаждаемым преждевременным мраком.
- Et, berce aux lueurs d'un vague
- crpuscule,
- Le ple attire lui sa fidle cit…[342]
И наконец, кончающиеся знакомым уже нам мотивом:
Туда, туда, на теплый юг.[343]
Строфы, посвященные той же теме:
- Гядел я, стоя над Невой,
- Как Исаака-великана,
- Во мгле морозного тумана
- Светился купол золотой.
- Всходили робко облака
- На небо зимнее, ночное,
- Белела в мертвенном покое
- Оледенелая река.
В ответе Тургеневу А. А. Фет дает описание «ясновидящей» весенней ночи, «вполне разоблаченной».
- Поэт! ты хочешь знать, за что такой любовью
- Мы любим родину с тобой?
- Зачем в разлуке с ней, наперекор злословью,
- Готово сердце в нас истечь до капли кровью
- По красоте ее родной?
- Что ж! пусть весна у нас позднее и короче,
- Но вот дождались наконец:
- Синей, мечтательней божественные очи,
- И раздражительней немеркнущие ночи,
- И зеленей ее венец.
- Вчера я шел в ночи и помню очертанье
- Багряно-золотистых туч.
- Не мог я разгадать: то яркое сиянье
- Вечерней ли зари последнее прощанье
- Иль утра пламенного луч?
- Как будто среди дня, замолкнувши мгновенно,
- Столица севера спала,
- Под обаяньем сна горда и неизменна,
- И над громадой ночь, бледна и вдохновенна,
- Как ясновидящая шла.
- Не верилося мне, а взоры различали,
- Скользя по ясной синеве,
- Чьи корабли вдали на рейде отдыхали,
- А воды, не струясь, под ними отражали
- Все флаги пестрые в Неве.
- Заныла грудь моя — но в думах окрыленных
- С тобой мы встретилися, друг!
- О, верь, что никогда в объятьях распаленных
- Не мог таких ночей, вполне разоблаченных,
- Лелеять сладострастный юг!
Совсем примыкает к образам Достоевского сжатый образ Полонского из «Белой ночи», передающий панораму Петербурга из «Преступления и наказания», овеянную духом немым и глухим.
- Без тени, без огней, над бледною Невой
- Идет ночь белая, лишь купол золотой
- Из-за седых дворцов, над круглой колоннадой,
- Как мертвеца венец перед лампадой,
- Мерцает в высоте холодной и немой.[344]
Белая ночь становится необходимым фоном для описания Петербурга. В ее освещении как бы раскрывается душа города, резче выступают все индивидуальные ее черты. В ее тихом сиянии город Петра легче достигает своей власти над душами.
Поэты конца XIX века, обращаясь к Петербургу, смотрят на него сквозь призму Достоевского.
- И мнится, что вокруг все пышные хоромы,
- Вся эта ночь и блеск нам вызваны мечтой,
- И мнится: даль небес, как полог, распахнется,
- И каменных громад недвижный караван
- Вот-вот сейчас, сейчас волнуясь колыхнется
- И в бледных небесах исчезнет как туман.[345]
Здесь прямо образ Достоевского облечен Фофановым в стихотворную форму. Фантастический город готов рассеяться как дым, как утренний туман.
И у Allegro Петербург — город туманов и снов, с громадой неясною тяжких дворцов, отраженных холодной Невою, больной город с торопливою жизнью.
- Неласковый город, любимый,
- Ты меня мучишь, как сон.[346]
Для П. Я. (Якубовича) Петербург — город «холодной мглы и тоски», на который поэт взирает с тайным ужасом. Где «загадочно тайно сплетаяся тени бледные движутся… стон чей-то чудится… явь или сон».[347]
Прекрасен этот город с сонмом дворцов-великанов перед лицом горделивой реки, грозно плещущей в стену гранита, город с лабиринтами стройных улиц, громад-площадей. Прекрасен он в белом саване ночи весною, лишенный цветов и песен. И П. Я. признается в любви «к этому городу красоты монотонной, тихой грусти лучом просветленной».
- Ах, любовью болезненно страстной
- Я люблю этот город несчастный.
Настойчивость в повторении этих образов свидетельствует не о бедности художественного воображения. В этом однообразии есть ритм, указующий на глубину пережитого. Это возвращение к одним и тем же идеям, настроениям поэтов разных индивидуальностей, различных школ говорит об известной объективности образа Петербурга, начерченного художниками русского слова.
VI
Исподволь подготовлялось возрождение любви и понимания северной столицы. Первые годы двадцатого века до мировой катастрофы принесли с собою многообразный интерес к Петербургу. Но в этом подходе к нему не было единства стиля. Есть только одна черта, присущая всем: признание значительности Петербурга. Переходя к разбору всех этих течений, следует попытаться сгруппировать их. Прежде всего нужно отметить возрождение интереса к внешнему облику города в связи с интересом к его архитектуре.
Здесь не место вдаваться в решение сложного вопроса о причинах возрождения архитектурного вкуса. Этот вопрос связан не только с явлениями русской, но и общеевропейской культуры и знаменует вступление европейских народов в синтетическую эпоху зрелости, предвещает приближение золотой осени Европы. Для нас важно отметить отрадное явление раскрытия великой архитектурной ценности Петербурга, возрождение его каменной плоти. Без этого процесса мы не могли бы постигнуть полноты образа нашего города, не могли бы даже познать как должно содержание его души, ибо значительная доля ее заключена в архитектурном пейзаже города. Genius loci не заговорит с нами на понятном языке, если мы не углубимся в постижение его каменного святилища. Можно даже сказать, что стихов Державина и Пушкина, посвященных Петербургу, до этого мы не могли понимать как должно. Возобновилась духовная работа, заглохнувшая, казалось, безнадежно в 30-х годах. Прежде всего заговорили художники. Александр Бенуа в своей знаменательной статье, помещенной в «Мире Искусства»,[348] дает характеристику души города, опираясь на оценку его каменной плоти. Эта статья как бы подводит итоги всему пережитому в истории образа Петербурга. Перед нами северная столица, за которой чувствуется великая империя.
«Для прежней, большой, доброй, неряшливой России он все еще через двести лет чужой, непонятный и даже ненавистный сержант, — не добродушный дядька, а именно солдафон с палкой, но для всякого, кто не захочет слушать недовольный ропот расползшейся старушки, так страшно любящей свою тяжелую, но и сладкую дрему, — этот сержант превращается в мудрого, страшного, но пленительного гения, зорко следящего своим светлым холодным взором за всем тем, что творится на белом свете. Разумеется, надолго еще останется загадкой, почему для старушки понадобился не ночной сторож, а такой гений, а также почему его холодный, страшный взор все же притягивает к себе, почему и в этом холодном взоре чувствуется великое, прекрасное и даже любимое, достойное любви божество».
Бенуа не дает объяснения, почему это божество с холодным, страшным взором (не Медный ли Всадник?) притягивает, представляется великим и прекрасным, достойным любви. Не потому ли, что его трагическое лицо озарено отблеском титанической борьбы, великого надрыва, что грозный призрак гибели бросает на него апокалиптическую тень?
Как много должно было пережить русское общество, чтобы вновь полюбить Медного Всадника! Образ города трагического империализма вновь ярко озарен в сознании русского общества. Сложна его душа, полна противоречий. Это видели все, кто умеет видеть. Но Александр Бенуа доводит светотень до резкого контраста. С одной стороны:
«в Петербурге есть именно тот же римский, жесткий дух, дух порядка, дух формально совершенной жизни (вспомним регулярную столицу Ап. Григорьева), несносный для общего разгильдяйства, но, бесспорно, не лишенный прелести».
Далее Александр Бенуа сравнивает его с сенатором, облаченным в свою пурпуром окаймленную тогу с широкими прямыми складками, преисполненным «gravitas».[349] С другой стороны, это действительно самый фантастический город.
«В этой чопорности, в этом, казалось бы, филистерском бонтоне есть даже что-то «фантастическое», какая-то сказка об умном и недобродушном колдуне, пожелавшем создать целый город, в котором, вместо живых людей и живой жизни возились бы безупречно играющие свои роли автоматы (вспомним Гоголя, Одоевского), грандиозная, но слабеющая пружина. Сказка довольно мрачная, но нельзя сказать, чтобы окончательно противная».[350]
Наметив психологический фон, Александр Бенуа дает тонкую характеристику своеобразной красоты архитектурного стиля старого Петербурга.
Физиология города тоже интересует его, но он выбирает в ней не будни, а праздники, видя в них богатый материал для характеристики лица города. В ряде превосходных очерков, появившихся в соответственные дни на страницах «Речи» (в 1915-16 гг.), обрисовывает он: Рождество, Новый год, Масленицу, Вербную неделю и Пасху, и всюду слышится: «люблю тебя, Петра творенье».
Вслед за Александром Бенуа другой художник, Игорь Грабарь, создает впервые «историю Петербургской Архитектуры»,[351] в которой раскрывается великое художественное богатство Северной Пальмиры, обрисовывается лихорадочный рост каменного города и спутников этого светила, окрестных «Парадизов»: Петергофа, Царского Села, Павловска. Указывается на грандиозный размах архитектурных начинаний, сообщается и о замыслах, которым не суждено было воплотиться, но которые дополняют характеристику того, что воплотиться смогло. Наконец, обрисованы образы строителей, наложивших печать своей индивидуальности на художественное творчество северной столицы.
Лукомский[352] задается целью научить любить второстепенные «интимные, заброшенные уголки» милой старинки, если они «нужны не так же, как первоклассные сооружения, то нужны для цельности общей картины, нужны, как хористы, как музыканты, как статисты нужны в общей постановке оперы». Ознакомившись с ними, можно будет увидеть и устыдиться за погибшие здания, пожалеть об испорченных и полюбить уцелевшие милые остатки былой цветущей эпохи, когда люди умели и хотели красиво строить все, что им приходилось строить: и дворец, и церковь, и доходный дом, особняк, и мост, и ворота, и сарай, и беседку…[353]
Но Лукомский не является пассеистом,[354] до эстетического чувства которого красота доходит только из «прекрасного далека»[355] прошлого. Для него рядом с прекрасным старым Петербургом существует: «Новый Петроград»,[356] достойный внимательной художественной оценки. Новый Петроград, воздвигаемый в стиле старого Петербурга, в контакте со вкусами и запросами нового времени (Фомин, Ильин, Дмитриев), или же созидаемый в традициях итальянского большого классицизма (Щуко, Лялевич, Перетяткович, Лидваль).[357]
Знаток Петербурга В. Я. Курбатов посвятил любимому городу путеводитель,[358] в котором, наряду с систематическим обзором фрагментов старого города по отдельным улицам, дана и история его архитектуры.
Художники: Серов, Добужинский, Лансере, Бенуа, Остроумова-Лебедева запечатлели в своем творчестве новый подход к Петербургу.[359]
Рассеялся туман, окутавший на долгие годы гордый, стройный вид архитектурного пейзажа. Снова появилось чувство устойчивости города. Строгие монументальные громады, такие могучие, внушили спокойную уверенность: бег времен не сокрушит этой твердыни:
- quod non…
- possit diruere… innumeradilis
- annorum series et fuga temporum.[360]
Лирическое волнение стихло. Наступил момент спокойного, ясного созерцания. Из старого города вырастал новый, перед Северной Пальмирой вновь раскрывалось великое будущее.
Город, как таковой, вызывает обострившийся интерес, становится самодовлеющей ценностью. Не скоро, однако, это новое понимание Петербурга нашло свое художественное выражение в литературе.
Реакция, последовавшая за подавлением революции 1905 года, в значительной мере задержала процесс перерождения чувства к Петербургу.
Взоры, обращенные к нему, отуманены различными пристрастиями и неспособны видеть. Самые разнообразные ассоциации идей и образов препятствуют ясному созерцанию. Петербург порождает желчную жалобу в наиболее слабых, вызывает проклятье в пылких и пророчества в мистически встревоженных душах. Каждое из этих настроений нашло своего поэта. Средний русский интеллигент, предавшийся отчаянию, взглянул хмурым взором нехотя на Петербург и узнал знакомые черты города Некрасова.
Саша Черный сосредоточивает вновь внимание на физиологии Петербурга. Вот «Окраина Петербурга», больная, смрадная, наводящая на душу безысходную тоску:
- Время года неизвестно.
- Мгла клубится пеленой…
- Фонари горят, как бельма,
- Липкий смрад навис кругом,
- За рубаху ветер-шельма
- Лезет острым холодком.
Или вот конец дня, мертвого дня «самого угрюмого города в мире».
- Пестроглазый трамвай вдалеке промелькнул,
- Одиночество скучных шагов… «Караул!»
- Все черней и неверней уходит стена,
- Мертвый день растворился в тумане вечернем,
- Зазвонили к вечерне.
- Пей до дна!
Неглубоко проникает взор поэта-сатирика, он скользит по раздражающим впечатлениям улицы, ощущая за ними лишь леденящую душу пустоту, от которой нет ухода в мир фантазии, нет забвения даже в вине. Вспоминается некрасовская желчь и хандра, но образы, рожденные новым веком, прошли чрез призму импрессиониста. Петербург Саши Черного (его быту посвящен целый цикл стихотворений, напр.: «Отъезд петербуржца», «Культурная работа», «Все в штанах, скроенных одинаково», «Всероссийское горе» и т. д.), самый угрюмый город, единственно беспросветный, охарактеризован с какой-то «равнодушной злобой». Объяснить это явление исключительно особенностями автора невозможно. Его настроение несомненно результат кризиса, переживавшегося всем русским обществом. Это Питер после 1905 года, отразившийся в надорвавшемся обществе, не имеющем сил жить. Это Питер среднего интеллигента.
Но эпоха реакции создала, рядом с этим серо-грязным образом, образ иной, мрачный и грозный, рожденный гневом, в котором звучат печеринская ненависть и жажда отмщения.[361] Петербург — победоносный деспот, умерщвляющий своим дыханием поверженную Россию.
Зинаида Гиппиус придала своей ненависти форму твердого и острого кинжала, погруженного в яд.
- Твой остов прям, твой облик жесток,
- Шершаво-пыльный сер гранит,
- И каждый зыбкий перекресток
- Тупым предательством дрожит.
- Твое холодное кипение
- Страшней бездвижности пустынь.
- Твое дыханье смерть и тленье,
- А воды — горькая полынь.
- Как уголь, дни, — а ночи белы,
- Из скверов тянет трупной мглой,
- И свод небесный остеклелый
- Пронзен заречною иглой.
- Бывает: водный ход обратен,
- Вздыбясь, идет река назад.
- Река не смоет рыжих пятен
- С береговых твоих громад.
- Те пятна ржавые вскипели,
- Их не забыть, не затоптать…
- Горит, горит на темном теле
- Неугасимая печать.
- Как прежде вьется змей твой медный,
- Над змеем стынет медный конь…
- И не сожрет тебя победный,
- Всеочищающий огонь.
- Нет, ты утонешь в тине черной,
- Проклятый город, Божий враг.
- И червь болотный, червь упорный
- Изъест твой каменный костяк.
ПЕТЕРБУРГ
Сколько здесь переплелось старых мотивов: здесь и суета суетствий страшней бездвижности пустынь, над которой хохотал Сатурн у Огарева. Здесь и образ больного города, становящегося городом смерти. Далее воскрешен мотив восстания стихий. Но Нева здесь не является вполне враждебной стихией, она словно пробудившаяся совесть, но позора преступлений не омыть ее водам. Вновь появляется Медный Всадник, дух проклятого города — темного беса Божьего врага. Немезида покарает Петербург страшной казнью того круга Дантова ада, где отвратительные черви насыщались кровью, струившейся с тех, кого отвергли небо и ад, гнушаясь их ничтожеством: «mа guarda e passa» («Inferno», cant. III).[362]
Стихотворение З. Гиппиус является ужасной печатью, возложенной на город Петра. Оно написано с той силой ненависти, которую знали исповедники древнего благочестия, предсказавшие граду Антихриста гибель: Петербургу быть пусту.
Даже поэт, рожденный для вдохновенья, для звуков сладких и молитв,[363] — Вячеслав Иванов, — трагически ощутил образ кровавого империализма.
- В этой призрачной Пальмире,
- В этом мареве полярном,
- О, пребудь с поэтом в мире,
- Ты, над взморьем светозарным
- Мне являвшаяся дивной
- Ариадной, с кубком рьяным…
- ……………………………………………………
- Ты стоишь, на грудь склоняя
- Лик духовный, лик страдальный,
- Обрывая и роняя
- В тень и мглу рукой печальной
- Лепестки прощальной розы…
- ……………………………………………………
- Вот и ты преобразилась
- Медленно… В убогих ризах
- Мнишься ты в ночи Сивиллой…[364]
- Что, седая, ты бормочешь?
- Ты грозишь ли мне могилой?
- Или миру смерть пророчишь?
Подобная менадам,[365] в желто-серой рысьей шкуре, под дыханием города смерти преобразилась в вещую Сивиллу. Апокалиптическим явлением Медного Всадника завершается видение:
- Приложила перст молчанья
- Ты к устам — и я, сквозь шопот,
- Слышу медного скаканья
- Заглушенный тяжкий топот…
- Замирая, кликом бледным
- Кличу я: «Мне страшно, дева,
- В этом мороке победном
- Медноскачущего гнева».
- А Сивилла: «Чу, как тупо
- Ударяет медь о плиты…
- То о трупы, трупы, трупы
- Спотыкаются копыта»…[366]
Не душа ли это самого поэта с пламенеющим сердцем, напоенным лучами солнца Эллады, в этой призрачной Пальмире стала вещею Сивиллой?
Поэт поселился с Сивиллой — царицей своей.
«Над городом-мороком смурый орел с орлицей ширококрылой».
Зачем отступились они от солнечных стран ради города-морока?
«И клекчет Сивилла: „зачем орлы садятся, где будут трупы?“»[367]
(«На башне»)
Другой поэт дионисиевского духа, Иннокентий Анненский, пророчески возвещает гибель Медному Всаднику от нераздавленной змеи.
Его город — проклятая ошибка. У него нет прошлого, нет поэзии, нет святынь. Сочиненный город поддерживает свое бытие насилием и кровью. Гибель его неизбежна. И все же в этом проклятии нет ненависти, а скорбь, рожденная сознанием непонятной связи с роковым городом.
- Желтый пар петербургской зимы,
- Желтый снег, облипающий плиты…
- Я не знаю, где вы и где мы,
- Знаю только, что крепко мы слиты.
- Сочинил ли нас царский указ?
- Потопить ли нас шведы забыли?
- Вместо сказки в прошедшем у нас
- Только камни да страшные были.
- Только камни нам дал Чародей,
- Да Неву буро-желтого цвета,
- Да пустыни немых площадей,
- Где казнили людей до рассвета.
- А что было у нас на земле?
- Чем вознесся орел наш двуглавый?
- В темных лаврах гигант на скале,
- Завтра станет ребячьей забавой.
- Уж на что он был грозен и смел,
- Да скакун его бешеный выдал:
- Царь змеи раздавить не сумел,
- И прижатая стала наш идол.
- Ни цветов, ни чудес, ни святынь,
- Ни миражей, ни грез, ни улыбки!
- Только камни из мерзлых пустынь
- Да сознанье проклятой ошибки.
- Даже в мае, когда разлиты
- Белой ночи над волнами тени,
- Там не чары весенней мечты,
- Там отрава бесплодных хотений.[368]
Все эти отдельные отклики сознания, вызванные Петербургом, группируются вокруг определенного центра — судьбы города.
З. Гиппиус, И. Анненский и Вяч. Иванов только затронули эту тему рядом выразительных образов. Д. С. Мережковский, а вслед за ним Андрей Белый и А. Блок стремятся раскрыть ее во всей полноте.
Три момента судьбы Петербурга отмечены в творчестве Д. С. Мережковского: 1) Создающийся город («Петр и Алексей»), 2) Петербург в апогее своего развития («Александр I») и 3) Закат города («Зимние радуги»: сборник «Больная Россия»).
«Игла Адмиралтейства в тумане тускло рдела от пламени пятнадцати горнов. Недостроенный корабль чернел голыми ребрами, как остов чудовища. Якорные канаты тянулись, как исполинские змеи. Визжали блоки, гудели молоты, грохотало железо, кипела смола. В багровом отблеске люди сновали как тени. Адмиралтейство похоже было на кузницу в аду».[369]
(стр. 376, изд. Пирожкова)
В Адмиралтействе, в этом центре нового города, стягивающем к себе все линии его, словно совершается таинственная, подземная работа, созревает будущее города. Дается образ его доисторического бытия, полного действия вулканических сил.