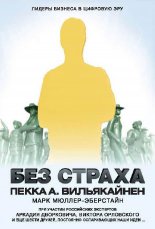Режиссеры-семидесятники. Культура и судьбы Богданова Полина

Несколько слов во вступление
Эта книга, посвященная поколению режиссеров, вступивших в творческую жизнь на рубеже 60—70-х годов, рассказывает о времени, которое пережито лично. Поэтому и отношение мое к театру семидесятников личное. При этом мне хотелось отразить реальную картину театра с 70-х и по настоящее время. И вписать поколение семидесятников в контекст истории и культуры. Ведь оно возникло не на голом месте. У него были предшественники, учителя и оппоненты. Были очень непростые связи с эпохой культа Сталина. Эта эпоха – болевая точка всей послевоенной режиссуры (и в целом всей послевоенной интеллигенции). Для семидесятников эта эпоха тоже полна негативного смысла.
Поэтому, оттолкнувшись от 30—40-х годов, периода сталинизма, я перейду к оттепели. Это начало золотого века театра, который связан с деятельность шестидесятников и продлится до конца 80-х годов, до перестройки. Оттепель породила очень яркое и сильное театральное движение, суть которого заключалась в отрицании и преодолении предыдущего сталинского периода развития. Антитоталитарный пафос шестидесятников как раз и подхватило поколение Анатолия Васильева, Камы Гинкаса, Льва Додина, Михаила Левитина, Валерия Фокина, Генриетты Яновской. Вместе с тем эти режиссеры обогатили искусство театра новыми идеями, смыслами и эстетикой.
Меня вообще очень интересует логика художественных процессов, смены художественного мировоззрения, стилей. Этим я начала заниматься еще в книге, посвященной режиссерам-шестидесятникам1. Книга о семидесятниках – продолжение той. Как от десятилетия к десятилетию, от поколения к поколению движется театр? Чем обусловлены появления тех или иных театральных идей, преемственность или отторжение? С чего вообще начинается тот или иной этап в театре и к чему в результате приходит? Эти вопросы меня волновали, когда я работала над этой книгой. Мне ясно, что в своем развитии искусство проходит определенные циклы, в каждый из таких циклов умещается жизнь трех-четырех поколений художников.
В разговоре о поколении режиссеров-семидесятников мне были важны и интересны не только общие черты, характеризующие их как генерацию, художественное мышление которой во многом определило время, но и индивидуальные: своеобразие личности, неповторимость судьбы. Поэтому, начав с общих рассуждений, я перешла к жанру творческих портретов. Они и занимают основной объем книги.
Вкусы партийной элиты
Нападки на Мейерхольда со стороны партийной элиты начались довольно рано. Но пока речь шла только о вкусах, о которых, как известно, не спорят. Так, Надежда Крупская, «воспитанная на передвижниках», как заметил И. Эренбург, разнесла в «Правде» спектакль Мейерхольда «Зори», воплощавший идеи «Театрального Октября». Ленин, как известно, тоже не слишком жаловал всякого рода футуристов, представителей левого фронта искусств. «Я имею смелость заявить себя “варваром”,–говорил он.–Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих “измов” высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости»2.
А по поводу «Великодушного рогоносца», лучшего спектакля Мейерхольда первой половины 20-х годов, в «Известиях» выступил Луначарский. Хочется привести почти целиком его очень любопытное письмо: «Наконец, я увидел этот спектакль. Сначала я не хотел писать о нем, но, подумав, решил, что должен. Уже самую пьесу я считаю издевательством над мужчиной, женщиной, любовью и ревностью. Издевательством, простите, гнусно подчеркнутым театром. Я ушел после второго акта с тяжелым чувством, словно мне в душу наплевали. Не в непристойности сюжета тут дело; можно быть более или менее терпимым и к порнографии,–а в грубости формы и чудовищной безвкусности, с которой она преподносилась… жаль всю эту сбитую с толку “исканиями” актерскую молодежь. <…> Для театра как такового, для театрального искусства это падение, ибо это захват его области эксцентризмом мюзик-холла.
Что же, разве плох мюзик-холл?
Терпимо, иногда забавно, но что сказали бы, если бы гривуазный канкан стал вытеснять Бетховена и Скрябина на концертах? Все на своем месте. Здесь же дешевое искусство для пошляков или жаждущих развлечения, пытаются возвести в “академизм без кавычек”–выражение одного серьезного партийного критика.
Все это тяжело и стыдно, потому что это не индивидуальный уклон, а целая довольно грязная и в то же время грозная американствующая волна в быту искусства.
Страшно уже, когда слышишь, что по этой дорожке катастрофически покатилась евро-американская буржуазная цивилизация, но когда, при аплодисментах коммунистов, мы сами валимся в эту яму, становится совсем жутко.
Это я считаю своим долгом сказать»3.
Это еще не было политическим обвинением. Просто один из самых художественно образованных ленинских наркомов обнаруживал свои взгляды на искусство. Ему в большей степени, чем революционный авангард, были понятны Бетховен и Скрябин, искусство классическое. В этом он вполне солидаризовался с Лениным, которому тоже претили всякие новые формы.
«В одном был прав Луначарский. “Великодушный рогоносец” действительно катился, и весьма быстро, по одной дорожке вместе с “евро-американской цивилизацией”–катился в эру джаза Уайтмена, кино Гриффитса и Чаплина и стеклянных дворцов Ле Корбюзье»4. Мейерхольд в силу своего исключительного таланта и интуиции ощущал тенденции, которые развивались в искусстве Европы и Америки, и мог бы отстаивать свои театральные идеи дальше. Но история распорядилась так, что от свободного спортивно-индустриального духа биомеханики и предощущений радужного будущего он должен был перейти к сатире «Мандата», «Клопа» и «Бани», чтобы выразить свое разочарование в революционной действительности.
Но если Мейерхольд не нравился наркому Луначарскому, что же говорить о вкусах Иосифа Сталина, который тоже не отличался изысканностью художественных пристрастий? В стране постепенно устанавливался такой режим, когда вкусы руководителей государства приобретали силу закона.
Некоторые особенности советской культуры зрели в недрах культуры буржуазной, дореволюционной, но утвердились и пустили корни не в один день. На их утверждение ушло более десяти лет, хотя для истории это срок очень небольшой. Еще в дореволюционные времена известный в те времена философ А. Богданов говорил о пришествии массы. Шел кризис индивидуализма. Вскоре произошел окончательный отказ от личностного искусства. Хотя уже после революции писали и Михаил Булгаков, и Юрий Олеша, и Николай Эрдман. Писали о трагедии личности в новом мире, о том, что моду на личность отменили, как моду на длинные платья. Но этих стонов новая пролетарская публика уже не слышала. Эту публику хорошо изобразил Маяковский в двух сатирических комедиях, создав новый тип, утвердившийся в жизни,–преуспевающего мещанина, маскирующегося под революционную действительность и нацепившего красный бант. В 20-е годы еще шла борьба. Окончательная тишина настала в 1934-м на 1-м съезде советских писателей, где было провозглашено новое направление социалистического реализма. Всех, кто не подходил под мерки этого направления, сметали с дороги, лишали права голоса, а то и права на жизнь.
Соцреализм возник и утвердился на базе реализма. Реализм и был тем стилем, который больше импонировал не только Ленину и Крупской, но и Сталину. Именно поэтому Сталин больше любил консервативный реалистический МХАТ, чем авангардные театры.
В 1926 году МХАТ поставил «Дни Турбиных». Этот спектакль очень понравился Сталину. Известно, что он смотрел спектакль 15 раз. По его мнению, эта пьеса «не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда», и является демонстрацией «всесокрушающей силы большевизма». Хотя нельзя сказать, что этот отзыв обеспечивал Булгакову зеленую улицу на всю его дальнейшую творческую жизнь. Отнюдь нет. Он, как и очень многие, в дальнейшем стал жертвой набравшей силу тоталитарной машины
В июле 1928 года была обнародована сталинская теория усиления классовой борьбы. Творческая свобода начала подвергаться все более сильному зажиму со стороны партийной цензуры, все более и более грубой и безжалостной критике с «классовых пролетарских позиций».
В 30-е годы во МХАТе была тяжелая кризисная атмосфера. Актеры разных поколений были настроены очень отрицательно к руководству Станиславского и Немировича-Данченко. Сегодня раскрыта очень интересная переписка, которая шла между заведующим отделом культурно-просветительной работы ЦК ВКП(б) А.С. Щербаковым и Сталиным, а также Станиславским и Сталиным. В результате этой переписки, в которой выявлялись все «отрицательные» стороны работы одного из ведущих театров страны, был назначен новый директор – М.П. Аркадьев, которому надлежало проводить государственную политику в театре и в отношении репертуара, и в отношении режиссуры (через несколько лет он будет арестован и расстрелян). Интересно, что Аркадьев в своем письме, напоминающем политический донос, подчеркивал, что «особую остроту к моменту моего прихода в театр придавало то обстоятельство, что почти всю творческую работу (режиссура и общее художественное руководство) нес Немирович-Данченко, а хозяином театра был Станиславский. Понятно, формально только хозяином, потому что на деле фактическим хозяином театра стал некий Егоров, бывший доверенный фирмы Алексеевых, бухгалтер по специальности, ставленник Станиславского, человек безграмотный в искусстве и отменный интриган. Начиная с 1928 года по настоящее время театр сделал 22 постановки, из них 14 сделал Немирович-Данченко и 2 Станиславский (“Мертвые души”, “Таланты и поклонники”). В это число новых постановок входит 10 постановок современных советских писателей. Немирович из 10-ти поставил 8 постановок, Станиславский ни одной. Последняя постановка Станиславского (“Таланты и поклонники”) относится к 1932 году. После этой работы Станиславский вследствие болезни в театре ни разу не был. Как видно из этих цифр, театр целиком зависел от творческой работоспособности В.И. Немирович-Данченко. Зависит он и сейчас, несмотря на то, что Владимиру Ивановичу уже 78 лет. Так в этом году театр предполагает выпустить 4 постановки (“Любовь Яровая”, “Анна Каренина”, “Борис Годунов”, “Банкиры” Корнейчука),–все постановки проводятся при непосредственном участии Вл. Немировича-Данченко»5.
Всячески подчеркивая ведущую роль Вл. Немировича-Данченко в деле руководства МХАТом, новый директор в своем следующем письме тов. Сталину пишет о состоявшейся 21 апреля 1937 года премьере спектакля «Анна Каренина» (режиссеры В.И. Немирович-Данченко и В.Г. Сахновский). Этот спектакль посетили Сталин, В.М. Молотов, А.А. Жданов, Л.М. Каганович и К.Е. Ворошилов. Исполнителям главных ролей в спектакле А.К. Тарасовой, Н.П. Хмелеву и Б.Г. Добронравову по указанию Сталина были присвоены звания народных артистов СССР. Воплотив в «Анне Карениной» имперский стиль большого спектакля, МХАТ стал придворным театром ЦК ВКП(б).
Как говорят, история не знает сослагательного наклонения. Все произошло так, как произошло. Мейерхольд был расстрелян в застенках НКВД. Станиславский, последние годы жизни не приходивший в Художественный театр, где резко изменился политический климат, доживал свои дни в особняке в Леонтьевском переулке, завершая свои труды по актерской методологии. Его «система» была канонизирована и предложена в качестве единственной правильной методологии во всей театральных учебных заведениях страны. Канонизировав «систему», Сталин по законам того славного времени превратил ее в систему тотальную, всеохватную, утвердив ведущий стиль в театре–психологического реализма. А модель МХАТа, модель репертуарного театра с постоянной труппой в штате, с руководителем, стоявшим во главе коллектива, была узаконена и распространена на все прочие театры. В принципе воцарилась система опять же тотальной крепостной зависимости. Но, с другой стороны, у нее оказались и некоторые положительные стороны, от которых наши театры не могут отказаться и по сей день. Во-первых, постоянная и гарантированная зарплата для всего театрального штата. Во-вторых, возможность проводить и развивать некую единую линию художественных поисков, исходящую от лидера театрального организма. Все поколения режиссеров и актеров, получавших профессиональное образование с 30-х годов, станут носителями методологии Станиславского. Насильственное внедрение в практику театров этой методологии было, правда, не абсолютным. У Станиславского и без Сталина нашлись бы последователи и продолжатели, носители принципов психологической школы. И это было бы естественным развитием традиций, браком по любви. А то, что система была внедрена в театральное образование сверху, привело ко многим издержкам в театральном процессе, к игнорированию иных, непсихологических, театральных жанров и стилей, к однообразию театрального процесса последующих десятилетий. Хотя, с другой стороны, школа Станиславского выдвинула к жизни многих уникальных режиссеров и актеров уже в послевоенном театре, и не только на территории Российской Федерации, но и в Прибалтике (так тогда называли страны Балтии), Грузии, Белоруссии и других республиках.
Немирович-Данченко с 30-х годов практически стал художественным руководителем МХАТа. Им в это и последующее десятилетие (до 43 года) были выпущены главные решающие постановки. Помимо «Анны Карениной»–«Воскресение», горьковские «Враги», которые были включены в репертуар по настоянию Сталина, «Егор Булычев». А в 40-м году–легендарные «Три сестры». Не надо произносить много слов, чтобы сказать, что горьковские пьесы 30-х годов, поставленные во МХАТе, относятся к направлению соцреализма и неукоснительно проводят мысль о торжестве нового строя. Не случайно «Враги» в постановке МХАТа были признаны эталоном соцреализма. Стоит сказать, что и легендарные «Три сестры» при всем своем художественном совершенстве–спектакль, в котором драмы чеховских героев разрешит советская эпоха. И «тоску» «Трех сестер» по лучшей жизни, которая заменила собой «мечту» чеховских героинь в начале века, можно было трактовать как ожидание того светлого будущего, которое и обещал вождь народов своим согражданам. Смелые пророчества Тузенбаха о том, что через двадцать—двадцать пять лет работать будет каждый и труд будет приносить людям удовлетворение, относились именно к послереволюционной действительности. Это спектакль-загадка, о котором впоследствии сложили много легенд, назвав его вершиной достижений МХАТа 40-х годов. Очевидно, так оно и было с точки зрения исполнительского мастерства, ансамблевости, знаменитого «второго плана», общей атмосферы. Но неужели на алтарь служения вождю народов дипломатичный и мудрый Немирович-Данченко положил то священное «жертвенное животное», Антона Чехова, некогда составившего подлинную славу молодого Художественного театра, ставшего главным выразителем мхатовского стиля? Да, конечно, положение Немировича в 30-е годы, когда он встал у руля МХАТа, было трагическим. И, несомненно, прав А. Смелянский, написавший: «…мы до сих пор не знаем, что стоило Немировичу-Данченко “зажать” собственную душу, с какой изумляющей пластичностью вписаться в театральный интерьер сталинской эпохи»6.
Итак, соцреализм вырос на почве реализма, но отбросил его «критическую» сторону. Вместо критического отношения к действительности соцреализм утвердил метод мифологизации действительности. «Исходным пунктом тоталитарной эстетики является реализм литературы и искусства ХIХ века, у которого главным образом и были заимствованы стилевые приемы. Однако сверхреализм не стремится к аналитической картине действительности, но лишь пользуется реалистической драпировкой для своих целей. Ему не нужен реализм описательного, “натуралистического” склада, но реализм высшего, идеального типа. Фактически мы имеем дело не с реализмом, а с мифологией, облеченной в реалистическую одежду»7.
Мифологизация, как подчеркивает ряд исследователей, соцреализма обнаруживает свое происхождение от ницшеанских идей, которые еще в рнний период своего творчества воспринял Горький. Отсюда его постулаты об утешающей лжи в пьесе «На дне». Отсюда его высказывания о новом человеке8 и многое другое, что легло в основу разрабатываемого им метода соцреализма. Новый герой, «высший человек», стал основой советского культа. Стахановцы, летчики-полярники, спортсмены и другие выдающиеся личности, прославившиеся на почве ударного труда или героического покорения природы, стали выразителями духа времени. Им всем было присуще мужество, твердость, «стальная» воля. Вместе с тем осуждались всяческая расхлябанность, интеллигентская слабость, излишняя рефлексия–все это воспринималось как черты болезни. В этом тоже сказывался ницшеанский дух, идеология сверхчеловека, отринувшего все гуманистические ценности буржуазного мира и утверждавшего волю к власти.
Герой в соцреализме был связан с народной массой, коллективом. Всякого рода одиночки подвергались осуждению. А сплоченность с коллективом делала героя борцом за общенародное дело.
Такого рода демагогии в новом художественном методе соцреализма было очень много. Соцреализм в целом выступал как метод, пропагандирующий определенную идеологию, идеологию вождя, связанного со своим народом и ведущего его по пути строительства нового мира. Поэтому искусство периода сталинизма приобрело то качество, коим еще не обладало в истории. Оно стало идеологичным, основываясь на категориях идейности, классовости, партийности. Художник выступал не просто как творческая натура, служащая красоте, природе или кругу нравственных идей. Художник стал прежде всего политически ангажированным идеологом жизни. И в этом качестве утвердился в советском искусстве на несколько десятилетий.
Философия марксизма, которая легла в основу новой идеологии, в изображении человека предписывала следовать социальному, классовому подходу. Видеть в нем не просто набор психологических, нравственных черт, а его социальную роль–рабочего, колхозника, интеллигента или буржуа. Последние два естественно переходили в отряд врагов.
Мир в соцреализме, таким образом, четко делился на своих и чужих, на представителей прогрессивного и реакционного лагеря, на выразителей нового и старого мировоззрения. Эти оппозиции закладывались во все произведения соцреализма.
Литературе и вообще искусству Сталин придавал очень большое значение. Именно потому, что искусство проводило в жизнь политику и идеологию тоталитарного режима. Чрезвычайно повысилась роль художника, правда, не всякого, а такого, кто служил режиму. В соответствии с этим репрессиям подвергались те писатели и художники, кто проводил чуждую с точки зрения соцреализма идеологию.
В соответствии со всеми этими установками психологический реализм МХАТа был признан ведущим театральным направлением и стилем. Противоположная театральная система–игровая,–которую вернул к жизни модернизм (к нему принадлежит не только Мейерхольд, но и А. Таиров, М. Чехов, счастливо эмигрировавший еще в 1928 году), была вычеркнута из сознания театральных художников.
В ситуации триумфальных успехов новой власти выживет Художественный театр, потому что вкусы большевиков, воспитанных на передвижниках, окажутся более приемлемыми для новой послереволюционной действительности. Реализм будет насажден насильственными средствами. А все, что шло от модернизма, подвергнется уничтожению. Но это только в Советском Союзе. Европа, которая будет находиться в стороне от идей большевизма и их реализации в действительности, будет развиваться свободно, продвигая художественные идеи модернизма дальше. В свое время придет к экзистенциализму. Но смычка с ним российских режиссеров произойдет только после краха социализма, в 90-е годы, когда театр российский начнет развиваться в русле экзистенциалистских и метафизических идей.
Шестидесятники. Отказ от сталинизма
Шестидесятники вошли в творческую жизнь в послевоенное время, когда жизнь стала меняться и размыкаться. После войны, закончившейся победой, люди думали, что жить так, как они жили до войны, уже невозможно. В 1956-м состоялся знаменитый съезд партии, на котором Хрущев начал разоблачение культа Сталина. Оттепель, которая началась в середине 50-х годов, стала новым этапом в жизни социума, когда страна пошла по более демократическому пути развития. Оттепель, правда, быстро закончилась и вообще не принесла каких-то кардинальных изменений к лучшему. Тоталитарное государство оставалось таковым еще три долгих десятилетия, до прихода М. Горбачева. Но определенный толчок оттепель все же дала. Именно этот период связан с тенденциями обновления в культуре и искусстве. Многое, что закладывалось в этот период, было направлено на развенчание и пересмотр тоталитарного мифа.
Искусство, в частности театральное, стало меняться. Но полностью отказаться от наследия тоталитаризма оно еще не могло. Многие категории мышления, сформированные сталинизмом, еще работали в сознании и подсознании. Поэтому в определенных отношениях шестидесятники продолжали традиции театра, утвердившиеся в 30—50-е годы. И в первую очередь в отношении понимания самого искусства театра как искусства прежде всего идеологического. Г. Товстоногов или О. Ефремов были такими же крупными идеологами в своей творческой деятельности, как художники сталинской эпохи. Но если идеология сталинизма строилась на принципах идейности, классовости и партийности, то шестидесятники, не отказавшись от идейности, отказались от двух других–классовости и партийности.
Классовый подход в искусстве шестидесятников был преодолен. Равно как был преодолен и так называемый классовый, точнее, пролетарский, гуманизм. Что касается партийности, то лучшие художники эпохи, такие как Г. Товстоногов, О. Ефремов, А. Эфрос, Ю. Любимов, на деле тоже отказались от этого принципа. Но на уровне демагогии, то есть взаимоотношений с властью, с Министерством культуры и партийными органами, они этого принципа придерживались или по крайней мере старались ему явно не противоречить. В иных случаях именно принцип партийности, использованный в спектакле или пьесе намеренно, в стратегических целях, помогал «протащить» другие острые вещи. Так, в пьесе А. Гельмана «Заседание парткома» решающая роль была отдана парторгу завода, который занимал чрезвычайно прогрессивную позицию. Это нужно было драматургу для того, что поднять другие более важные и острые проблемы советского производства, которые «без прикрытия» этим парторгом цензура могла бы не пропустить.
Что касается первого принципа–идейности, то шестидесятники не только не отказались от него, но, напротив, положили во главу угла. Их искусство было прежде всего идейным искусством. А сами они, как и художники эпохи тоталитаризма, выступали в роли идеологов. Именно поэтому они были такими крупными масштабными личностями, ориентировавшими свое искусство очень широко, на весь социум. Отсюда такой широкий захват аудитории. «Современник», Таганку и БДТ знало все общество, а не только его отдельные слои и представители.
Отсюда такая большая, даже преувеличенная роль искусства в 60—80-е годы. И такая важная ведущая роль художника. Все это можно сравнить только со сталинистским этапом, когда искусству и культуре был отдана важнейшая из ролей в пропаганде нового строя.
Постепенно, с течением времени, в постсоветскую эпоху все это будет утеряно и искусство вернется к себе самому. Став средством выражения художника не как инженера и строителя светлого будущего, а как творческой индивидуальности, равной самой себе и не претендующей на роль идеолога жизни. Искусство станет легче, чем у шестидесятников. Не столь идейно насыщенным, не столь гражданственным и общественно актуальным. Но все это произойдет постепенно.
Пока в середине 50-х–в 60-е годы шестидесятники будут строить идеологию своего искусства, положив в основу качественно другие идеи, чем у соцреалистов. Вообще вся база идеологии шестидесятников будет другая. Развенчивая тоталитарный миф как средоточие ложных идей, шестидесятники положат в основу своего искусства принцип правды. «Правду, ничего, кроме правды»–так называлась одна из репертурных пьес на сцене 60-х годов.
Принцип правды заключался в том, чтобы поднимать острые злободневные темы современности без демагогии и лжи, называть вещи своими именами, основываться на правдивом принципе изображения реальности.
В драматургии В. Розова и А. Володина, двух ведущих драматургов оттепели, последовательно были проанализированы и отринуты те понятия и моральные нормы, которые были характерны для эпохи сталинизма. Это делалось в целях утверждения демократических идей и ценностей. Эти ценности в пьесах В. Розова провозглашались от имени молодого поколения, которое не хотело повторять ошибки 40-х годов и утверждало свое право на жизненный выбор.
Отринув массу, коллектив, который был в центре соцреалистических произведений, шестидесятники вернулись к личностному искусству. В центре их внимания снова, как и в дореволюционное время, оказалась внутренне богатая сложная человеческая индивидуальность.
«Стальные» качества характера героев сталинского времени сменились обыденными человеческими. А. Володин изображал не сильных, а скорее слабых героев, которым, однако, были свойственны духовность и богатство внутреннего мира, талант («Фабричная девчонка», «Похождения зубного врача», «Фокусник»). В «Фабричной девчонке», первой пьесе А. Володина, которая прошла почти по всем театрам страны, противостояние личности и коллектива решалось в пользу личности. Коллектив был изображен как начало репрессивное, подавляющее личность героини Женьки Шульженко.
Шестидесятники исходили из осуждения культа Сталина, однако еще не разочаровывались в самой идее социализма. Проявляли положительное отношение к фигуре Ленина как основоположника социалистического государства. И верили в то, что если бы не Сталин, то история страны сложилась иначе. Это нашло отражение в творчестве Шатрова, с которым на протяжении всей жизни сотрудничал О. Ефремов, поставив две пьесы этого драматурга–«Большевики» в «Современнике» (1968) и «Так победим!» во МХАТе (1983). В «Большевиках» впервые на советской сцене стали подвергаться анализу и проверке на нравственность постулаты социализма и революции. Речь шла о красном терроре, который объявила ленинская гвардия в ответ на активные выступления врагов революции. Красный террор трактовался в спектакле и пьесе как вынужденная мера, на которую пошли ленинские соратники, принимая на себя всю ответственность за нее.
В спектакле МХАТа начала 80-х годов «Так победим!» речь шла о секретном завещании Ленина, в котором он предупреждал товарищей об отрицательных качествах Сталина и предостерегал от того, чтобы отдать ему власть в стране. Однако история, а точнее, борьба между различными политическими группировками, не брезговавшая никакими средствами, и кровавые интриги принесли победу именно Сталину. В этом обстоятельстве М. Шатров и О. Ефремов видели трагическую подоплеку социализма.
У шестидесятников была выраженная общественная, социальная позиция. Человек рассматривался в отношении с социумом. Как Чацкий С. Юрского, которого Г. Товстоногов трактовал как интеллигента с передовыми взглядами, со стремлением к свободе, но терпящего поражение в мире Молчалиных (читай – в современной действительности).
Поэтому в позднем периоде своего творчества А. Эфрос из спектакля в спектакль рассматривал драму интеллигента в несвободном мире. Поэтому стал любимым режиссером интеллигенции, выразителем ее чувств и настроений. Актер Н. Волков, эфросовский протагонист, и играл роли таких интеллигентов, со своей «неактерской» наружностью, некоторой неуклюжестью, но цепким и острым умом и особым обаянием интеллекта. Даже мавр Отелло у Эфроса в исполнении Волкова был таким интеллигентом. Героинь в труппе А. Эфроса играла Ольга Яковлева. Актриса необычной индивидуальности, с очень чутким внутренним аппаратом, с остротой реакций, внутренним драматизмом. Она играла Джульетту, гибнущую в замкнутом мире вражды: ажурные решетки балкона, с которого она разговаривала с Ромео, были символом этого несвободного мира. Играла героиню тургеневского «Месяца в деревне», Наталью Петровну, тоже существующую словно в клетке, из которой не вырваться. Образ клетки, олицетворяющий мир, окружающий и подавляющий героя или героиню, часто встречавшийся в творчестве Эфроса в его поздний период работы в Театре на Малой Бронной, ассоциировался с советским социумом.
Шестидесятники, занимавшиеся пересмотром сталинской идеологии, обладали выраженным этическим пафосом. Решение нравственных вопросов было на первом месте. В «Современнике» рассматривали нравственную проблему красного террора. В БДТ Г. Товстоногов вершил нравственный суд над мещанством в постановке «Мещан» Горького. Интеллигенты А. Эфроса тоже обладали своей нравственной позицией, что нашло выражение, в частности, в таком известном спектакле, как «Брат Алеша» (инсценировка В. Розова главы из «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского). Даже необходимость мести Гамлета за смерть отца подвергалась нравственному суду в спектакле Таганки. Возвращение к традиционным гуманистическим ценностям преодолевало ницшеанский пафос соцреализма.
Принцип правды был ведущим принципом эстетики в середине 50-х–начале 60-х годов. Поскольку в наследие шестидесятникам был оставлен мхатовский реализм, провозглашенный главным направлением сценического искусства, то шестидесятники поначалу не могли предложить ничего другого. Но мхатовский реализм тоже был подвергнут пересмотру и обновлению. «Мы стали работать в искусстве,–вспоминал А. Эфрос,–как нам казалось, из любви к МХАТ и в протесте против него»9. И на этой почве искусство шестидесятников достигло очень выразительных и больших результатов. По существу, это было возрождение школы психологического театра, только без необходимости соотносить эту школу с ложными идеями времени, как это было в 30-е и 40-е годы.
Обновленная психологическая школа, основанная на «системе» К. Станиславского, породила целую плеяду первоклассных артистов: И. Смоктуновского, О. Ефремова, Т. Доронину, Е. Лебедева, Н. Волкова, О. Яковлеву, Л. Толмачеву, И. Квашу и др.
В возвращении традиций подлинного Станиславского большую роль сыграла педагогическая деятельность ученицы Станиславского Марии Кнебель, создавшей свой этюдный метод. Этому методу она обучила А. Эфроса, актеры которого в ранних спектаклях ЦДТ поражали своей реактивностью и естественность. И впоследствии одного из ведущих режиссеров следующего за шестидесятниками поколения, Анатолия Васильева.
Однако 60-е годы уже не были ориентированы только на традиции Станиславского. Г. Товстоногов, получивший эту школу из рук замечательного режиссера и педагога Лобанова, обогатил ее также элементами системы Б. Брехта. Актеры Г. Товстоногова, с одной стороны, владели психологическим методом, умением проникать в глубины образа, с другой–научились эстетике остранения, то есть игровой системе, что наиболее наглядно проявилось в таком спектакле, как «История лошади».
Ю. Любимов, приступивший к режиссуре в начале 60-х, еще сильнее расширил эстетическое поле традиций, опираясь и на опыт Вс. Мейерхольда, Е. Вахтангова и в первую очередь Б. Брехта. Его первый спектакль, который Любимов сделал еще в Щукинском училище со своими учениками, «Добрый человек из Сезуана», поразил обилием и выразительностью условных приемов постановки и игровой природой актерского существования, когда актер то пребывал «в шкуре» персонажа, то выходил из нее, выступая от своего собственного имени как гражданин и художник.
Шестидесятники успешно работали в модели репертуарного театра (что, кстати сказать, с трудом удается тем режиссерам, которые вошли в профессию в 90-е годы, эти режиссеры уже не обладают столь мощной деятельной натурой, чтобы управлять большим организмом театра; некоторые из генерации 90-х вообще говорят об отказе от этой модели), создавая внутри свой коллектив или компанию актеров, разделяющих с режиссером театральную веру, который получил название «коллектива единомышленников». Такой коллектив был в «Современнике», в Театре на Таганке у Ю. Любимова, у А. Эфроса в период его работы еще в ЦДТ, затем в Ленкоме и Театре на Малой Бронной.А также у Г. Товстоногова, который собрал и воспитал труппу первоклассных мастеров.
Итак, шестидесятники, дети ХХ съезда, развенчавшего культ личности Сталина, и стали тем поколением, которое должно было освободиться от наследия социалистического реализма и тоталитарного сознания. Отказ от всего этого не мог произойти в один день. Шестидесятники противопоставили канону новые представления о действительности и человеке, делая упор уже не на массу, а на личность. Но некоторые положения эпохи соцреализма еще преодолеть не могли. По-прежнему самым главным основанием при анализе жизненных явлений был строгий социальный подход. Сознание шестидесятников было насквозь социальным, но теперь они стали решать проблемы нового социума, очищенного от культа вождя и взявшего курс на демократические преобразования.
В своей молодости шестидесятники были очень воодушевлены решением новых исторических и социальных задач. На волне этого воодушевления возник «Современник», в ЦДТ работал А. Эфрос, выводя на сцену розовских мальчиков, ищущих свою новую дорогу в жизни и не желавших жить по меркам отцов. Мальчики вступали в «неравный бой» и побеждали.
Однако иллюзиям шестидесятников довольно скоро пришел конец. Тоталитарное государство освободилось только от культа личности, но в основном это была та же сильная бюрократически-партийная машина, которая не давала вздохнуть. А печальные события Пражской весны окончательно развеяли идеалистические иллюзии. И тогда шестидесятники заговорили по-другому. Тот же Эфрос, поняв, что с этим режимом ничего не поделаешь, стал петь песнь о желанной свободе и страдать от несвободы личной и художнической. А Ефремов во МХАТе вел игру с партаппаратчиками, обличая их в своих спектаклях и входя с ними в компромиссы в своей политике руководителя театра. А параллельно переживая драму человека, утерявшего общественную идею. Любимов, который, по его собственному выражению, успел «проскочить в дверь, которая тут же захлопнулась», был меньше подвержен иллюзиям. Дипломатичный и мудрый Товстоногов тоже не возлагал особенных надежд на перемены, ставил острые спектакли, когда это было можно. А когда было нужно, выпускал премьеры, в которых поднимались важные советские темы.
Так бывает в истории, когда начинается какой-то ее новый этап. На этом этапе в жизнь вступает поколение, которое очень широко смотрит вокруг себя и в качестве первостепенных ставит перед собой крупные общественные, социальные задачи. Это люди слишком ответственные и с довольно раннего возраста–зрелые, чтобы заниматься такими мелочами, как собственные настроения и душевные травмы. Они, в общем, не заглядывают внутрь самих себя, у них есть дела поважнее. Это поколение обычно рождает больших ученых или больших художников и вообще–больших, волевых людей. Они обладают, как правило, высокой моралью, для них на первом месте стоят дружеские, любовные и, что не менее значимо,общественные связи. Они все обладают единством веры и принципов. Это поколение гигантов. Таким было поколение режиссеров-шестидесятников.
Шестидесятникам условия игры диктовала как будто сама история. Они только должны были услышать ее призывы. Они и услышали. И начали в театре (и других искусствах) процесс обновления.
Семидесятники. Поколение без иллюзий
После поколения гигантов приходят другие поколения, их младшие братья и сыновья. Эти поколения как будто состоят из личностей менее крупных. Не столь цельных, не столь мужественных. Они уже не ставят перед собой таких грандиозных социальных задач. Если они и выступают в своих произведениях с общественными темами, то решают их по-новому. Их больше интересует человеческая личность, и проблемы социума они решают изнутри этой личности. Они больше заняты своими субъективными переживаниями, своим внутренним миром. Они менее крупные, но зато более утонченные, острее воспринимают красоту, искусство. И если это поколения художников, то они достигают новых неожиданных результатов в стиле своего творчества, в эстетике. Их гораздо меньше, чем предыдущее поколение, интересует политика. У них, конечно, есть свои политические убеждения, но все же они читают их менее важными для себя.
Семидесятники, младшие братья шестидесятников,–вторая мощная театральная генерация режиссеров послевоенного периода развития советского театра. Они вошли в профессиональную жизнь на волне разочарования и неверия, потому что оттепель закончилась крахом. Ведь «семидесятые годы начались с Праги, с удушения “пражской весны”. Мечты шестидесятников оказались иллюзиями»10. Жизнь значительно ужесточилась «…власти [даже.–П.Б.] предприняли попытки вернуться к методам и идеологии сталинизма. Скорее позитивный образ Сталина, характерный для конца 60-х годов, стал нормой для стабильной официальной оценки диктатора в 70-е годы. <…> Официальный поэт Феликс Чуев умолял в стихах “Верните Сталина на пьедестал–для молодежи нужен идеал”»11. Однако эта кампания за возвращение культа Сталина нашла отпор у советской общественности. Деятели науки и культуры написали Брежневу письмо, в «котором выражали беспокойство по поводу предстоящей реабилитации Сталина»12. Письмо подписали 25 человек, в их числе академики П.Л. Капица, И.Е. Тамм, М.А. Леонтович, писатели В.П. Катаев, К.Г. Паустовский, театральные деятели О.Н. Ефремов, И.М. Смоктуновский, Г.А. Товстоногов, кинорежиссер М.И. Ромм и др. Однако позиция прогрессивной, демократически настроенной общественности все равно не нашла поддержки в правительственных кругах. В 70-е уже не было культа Сталина, но его фигура в официальных кругах была весьма и весьма авторитетной.
70-е годы–мрачное и угнетающее сознание десятилетие. Запреты, аресты, разгромы, насильственная эмиграция–вот приметы начала брежневского режима. Соответственно, можно себе представить, что у интеллигенции это мрачное время не могло не породить внешние и внутренние формы протеста. На открытый протест решались немногие. Гораздо больше было таких, которые сопротивлялись внутренне, что выражалось в чтении запрещенной литературы, в знаменитых кухонных обсуждениях политической и общественной ситуации в стране, в широко ходящих по стране анекдотах. В значительном усилении андеграунда, маргинальных форм существования. В андеграунд уходили для того, чтобы не участвовать в жизни официальной. Но были и такие, кто принимал законы игры и шел в услужение к системе, получая за это соответствующие привилегии, были и те, кто отказывался подчиняться политическому и общественному режиму, обрекая себя на неустойчивое, шаткое положение. Кто-то умудрялся найти компромисс и соединить то, что хотелось, с тем, что надо.
При этом надо учесть, что искусство в условиях 60-х и 70-х говорило не открыто, не прямо, это было невозможно. Искусство в этот период существовало на мощной энергии внутреннего сопротивления системе. Оно все, по сути, было оппозиционным, исключая, конечно, ту его часть, которая поддерживала советский истеблишмент.
Режиссеры-семидесятники, еще будучи молодыми начинающими профессионалами, уже должны были занять в общественной жизни какую-то позицию. Те режиссеры, о которых идет речь в этой книге, не уходили в андеграунд, предпочитая заниматься своей профессией официально и достигать в ней определенных творческих результатов. Поэтому этим режиссерам были свойственны формы не столько внешней, сколько внутренней оппозиционности, что выражалось в том, что они очень осторожно выбирали материал для постановок, избегая всякого рода идеологической конъюнктуры. Каждый решал для себя коллизию индивидуально: как остаться честным и не переступить опасной грани, за которой открывается возможность преуспеть, но потерять совесть. В целом та группа режиссеров, которым посвящена эта книга, в своей молодости действовала практически безупречно в нравственном отношении. Хотя никто из этой группы не ушел в диссиденты или андеграунд, то есть не выражал свое неприятие советского режима в открытой форме. Все они так ли иначе, более или менее успешно начинали работать в системе официального театра и именно здесь должны были утверждать свои творческие и человеческие позиции. Другое дело, что во времена их молодости официальный театр не спешил распахивать перед ними свои двери.
Вовсе не случайно режиссеры-семидесятники уже в тот период, когда приобретали некоторое право на высказывание, начинали в своих спектаклях размышлять о судьбе страны, о революции, тоталитаризме. Выяснять свои отношения с советской жизнью.
И вот интересный исторический парадокс: в несвободной стране, в условиях ужесточения тоталитарного режима мощные обороты набирало искусство, художественное творчество. Расцветали литература, кино, театр, изобразительное искусство, музыка. Чем сильнее были зажимы со стороны государства и власти, тем активнее становились художники. Вообще вся культурная, художественная жизнь находились на подъеме. Самые первые крупные достижения режиссеров-семидесятников пришлись на конец 70-х. В этот период Анатолий Васильев выпустил свои знаменитые спектакли–«Первый вариант “Вассы Железновой”» Горького и «Взрослую дочь молодого человека» В. Славкина. У Льва Додина вышли «Братья и сестры» Ф. Абрамова. У Валерия Фокина–«Монумент» Э. Ветемаа.
Та огромная, во многом преувеличенная роль литературы и искусства, которую утвердил Сталин, видя в них мощные средства для пропаганды социализма, перешла и в 60-е, и дальше–в 70-е и 80-е, то есть распространилась на весь советский период. Только в 60-е пропагандистские функции творчества в среде демократически, антисталински ориентированных художников уже не служили режиму, а были направлены против режима. И вот это демократическое искусство в обществе обладало огромным престижем. Было престижно читать хорошую литературу, и чуть ли не в первую очередь–там– и самиздатскую. Было престижно ходить на Таганку, в «Современник», другие театры. В большой чести были литературно-художественные журналы. Огромным авторитетом пользовались сами творческие профессии: актера, режиссера, живописца… Это так не похоже на тот период, который наша страна стала переживать с 90-х годов, когда престиж искусства и творчества резко упал. И молодым людям первых десятилетий нового века уже трудно представить, каким неподдельным уважением пользовались творческие профессии в советские времена. Художник тогда был натурой избранной, стоящей выше обывательской массы, притязал на права социального лидера.
Избранность в сочетании с оппозиционностью порой (главным образом в сфере андеграунда, хотя эти свойства в какой-то мере встречались и у художников, реализующих себя в официальной сфере) порождала особый комплекс переживаний художника. Комплекс изгойства, в большей или меньшей степени выраженный. Образ художника воспринимался «в романтическом ореоле», «…гений, бунтарь или юродивый. Отсюда культ экстравагантного поведения, “шизоидности” <…> Сознание изгоев <…> сочетается с чувством своего избранничества и уникальности. Творчество–это крошечный священный островок в море профанного»13.
Этот комплекс переживаний был присущ некоторым представителям именно поколения семидесятников, отнюдь не шестидесятников, которые всегда рассматривали себя в центре социальной и общественной жизни.
Поэтому молодая режиссура 70-х входила в творчество, неся в себе это зерно оппозиционности, несогласия, в определенной мере изгойства, отторжения от навязываемых тоталитарной идеологией ценностей.
Старшее поколение переживало крах оттепели драматически и сменило палитру красок в своем творчестве, стало говорить о несвободе личности в современной реальности, хотя интерпретировало ее обобщенно, в концептуальном духе. «Шестидесятники, дети великой Победы, в большинстве своем начинали как исторические оптимисты, они еще полагали, что, несмотря ни на что, могут гордиться своей страной–от “комиссаров в пыльных шлемах” до “зарытых в шар земной” победителей фашизма, что у них, в большинстве своем интеллигентов в первом, иногда во втором поколении, впереди огромные небывалые перспективы»14.
Семидесятники не были оптимистами и с самого начала своего пути уже ни на какие демократические преобразования не надеялись, у них не было тех надежд, которые испытывали «Современник» и Анатолий Эфрос в эпоху оттепели. Не верили они и в Ленина, как их старшие коллеги, считавшие, что его наследие было искажено последующей историей страны, в первую очередь культом Сталина. Семидесятники вообще отрицали нравственность революции и всей советской власти. Это было поколение без иллюзий.
Шестидесятники «не были оппозиционерами или, не дай Бог, диссидентами (они поначалу и слова такого не знали), они боролись не со строем, а только с бюрократами, ретроградами, сталинистами и еще–с мещанами, которые вместо того, чтобы заниматься настоящим делом–улучшать мир, бездарно тратят жизнь на улучшение своих жизненных условий»15.
Семидесятники, будучи оппозиционерами, по крайней мере внутренне, свою критику социализма проводили радикальнее. В результате они окончательно развеяли тоталитарные мифы.
Семидесятников всегда привлекали некие большие темы времени. О чем бы они ни говорили в своих спектаклях, особенно в советский период, все в них было пронизано воздухом и атмосферой страны, в которой они жили. Они тоже, как и шестидесятники, отражали в своем творчестве социальные проблемы. Особенно в этом отношении преуспел Л. Додин, который ставил романы Ф. Абрамова, В. Гроссмана, Ф. Достоевского, отвечающие на коренные вопросы российской и советской действительности. Додин вообще больше других всегда был озабочен социальной проблематикой. Даже в 90-е годы, когда это поколение выйдет за границы социума, в спектаклях, например, В. Фокина все же будет присутствовать социальный контекст. Семидесятникам всегда важно было понимать, каково место и положение человека в обществе в тот или иной период истории, времени. Отсюда масштабность их спектаклей. Отсюда их общественный вес и значимость. Отсюда охват некоего тотального театра, как у А. Васильева, Л. Додина.
Лев Додин провел анализ революционной болезни с момента ее зарождения в России («Бесы» Ф. Достоевского) и до сталинских времен (абрамовские спектакли «Дом» и «Братья и сестры»; «Жизнь и судьба» В. Гроссмана).
Другие режиссеры, как Анатолий Васильев или Михаил Левитин, выставляли некую культурную оппозицию сталинизму.
Так, Васильев, словно через голову всей советской эпохи, в спектакле «Серсо» протянул нить от героев 80-х к Серебряному веку, названному Горьким «самым постыдным десятилетием в русской истории». Но именно в этом десятилетии режиссер обнаружил те высокие смыслы и ценности, которые были утеряны в результате послереволюционного развития страны.
Анатолий Васильев рассчитался с советизмом еще и на уровне методологии, проведя деконструкцию метода действенного анализа в том виде, в каком он сложился в теории одного из ведущих режиссеров сталинского времени А. Попова16.
Михаил Левитин всем своим творчеством последовательно проводил миссию возвращения забытого, уничтоженного культурной политикой Сталина культурного наследия 20-х годов. Ставил обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Н. Олейникова, Н. Заболоцкого,–а также Ю. Олешу и других авторов названной эпохи.
Более радикальным поколение семидесятников оказалось и в отношении эстетики. Развивая новые художественные идеи, они сделали следующий шаг, окончательно преодолев реализм, который был повсеместно насажден во времена культа личности.
«Негативное отношение к советской действительности порождает специфический “эдипов комплекс” сознания, толкающий на негативистскую жизненную позицию. “Безотцовщина” в смысле отторженности от неприемлемых, пронизанных идеологией власти знаков заставляет людей творчества искать “новые” языковые средства»17. Отсюда понятен и совершенно невероятный творческий аж режиссеров-семидесятников, предпочитавших искать новые средства художественной выразительности, противопоставлять себя предыдущему поколению, утверждаться в качестве новаторов.
Эстетические пристрастия и открытия режиссеров-семидесятников и стали их главным вкладом в историю сценического искусства. Поэтому новаторским это поколение можно назвать с полным правом.
В театре сталинский реализм превратился в бескрылую, безжизненную бытовую эстетику, аморфную и лишенную формы, которую и продемонстрировал МХАТ 40—50-х годов, уже после смерти Вл. Немировича-Данченко руководимый М. Кедровым.
Семидесятники со всей страстью молодости и обрушились на бытовой реализм. Быту они противопоставили язык образа и метафоры, а отсутствию формы–ее непременное и обязательное наличие. Семидесятники заострили формальный язык театра, доводя его до совершенства, вкладывая очень много смысла и пафоса в свои формалистические изыски.
Уйдя от бытового стиля, осваивая язык образов и метафор, семидесятники подошли к новым жанрам, в которых возникала не узнаваемая жизненная реальность, а ирреальность, мир фантазии и воображения.
Лев Додин по поводу спектакля «Бесы» говорил: человек «существует не на этой лестничной площадке, не в этой комнате, а на планете Земля, а еще больше–в Божьем мире. Нереальность побеждает реальность»18.
В спектаклях Анатолия Васильева реальность тоже была побеждена. Еще в «Шести персонажах в поисках автора» режиссер ушел от реальности в мир воображения. Больше он к реальности не возвращался. Тоже существовал «в Божьем мире», но несколько иначе, чем Додин.
Генриетта Яновская, которая тоже сразу перешагнула через бытовой реализм, строила свои спектакли в концептуальном ключе. Так же, в сущности, работали и Лев Додин, и Кама Гинкас.
Михаил Левитин, который к быту и реальности даже не прикасался и которому с самого начала был ближе игровой театр, резко продвинул вперед репертуарные границы, захватив не тронутых шестидесятниками авторов–обэриутов. Для шестидесятников эти авторы были закрыты. Авангард для шестидесятников–некая вещь в себе, странная и не поддающаяся эстетике психологического реализма.
Валерий Фокин, начав с «Человека из подполья» Ф. Достоевского, впоследствии обратился к Ф. Кафке и Н. Гоголю–авторам, тяготеющим к гротеску, острой художественной форме, едкой палитре красок, тоже далеким от реализма.
Вот когда вкусы вождей революции оказались решительно забыты. И советская сцена догнала европейскую, от которой прежде так сильно отставала. Театр 70—80-х годов, резко оторвавшись от бытового реализма, ушел к образному языку, метафоре, игре стилями. И если ранние додинские постановки по произведениям Ф. Абрамова еще можно было как-то связать с реализмом, хотя и они в основном говорили языком образных обобщений и метафоры, то реализм Анатолия Васильева в раннем горьковском спектакле «Первый вариант “Вассы Железновой”» был насквозь субъективным и подчинялся исключительно образной системе театрального языка. Взгляд на мир с субъективных позиций и обеспечивает искусству фантазию, образность, оригинальность художественного стиля. Вообще субъективизм–это то же, что было в искусстве Серебряного века, когда царил дух режиссерского воображения, образности, когда искусство модерна поражало своими изысканными композициями, нащупывая связи актера и пространства. В спектаклях Мейерхольда это находило богатое выражение.
Шестидесятники не выходили за границы социума, больше того–советского социума. Их сознание было сформировано социалистическими ценностями и категориями. Они просто хотели это сознание очистить от лжи, демагогии и фальши. Задача, в общем, была идеалистической. Шестидесятники во многих отношениях и были идеалистами.
Семидесятники уже в 90-е годы (хотя кто-то из них и раньше) вышли за границы социума вообще и советского в частности. В их спектаклях социальное пространство расширилось, появилась не только горизонтальная, но и вертикальная плоскость. Режиссеры стали решать вопросы взаимоотношения человека и Бога, человека и высшего смысла. На этом этапе истории стало понятно, что человеческая жизнь не определяется только социумом. Выход за границы социального пространства и обращение к кругу экзистенциальных и метафизических проблем–важный и решительный шаг театра, продвинувший его сразу на несколько десятилетий вперед. И одновременно это выход из пространства советского театра как такового. Это конец советского театра.
Сегодня уже не все верят в возможность социальных преобразований. И не все надеются на них, как надеялись еще в советские времена. Сегодня многие решают проблемы своей внутренней вселенной, ведь человеческое счастье или несчастье определяется в первую очередь внутренней гармонией или дисгармонией личности.
В центре внимания экзистенциализма–проблемы смысла жизни, индивидуальной свободы и ответственности. Экзистенция «заключает в себе нерасчлененную целостность субъекта и объекта»19, показывает человека в пограничной ситуации–перед лицом нравственного выбора, перед лицом смерти, болезни, катастрофы. Чтобы понять такого человека и сыграть его, режиссеры погружаются в пространство его внутреннего мира, его души, его сознания. Именно там заложены все победы и поражения, правда и ложь, Бог и дьявол. «Обсуждение проблем взаимодействия личности и социального целого приводит к понятию абсурда, к поиску путей изживания абсурда»20.
Абсурдистскому театру отдали дань Фокин и Левитин.
Додин, Васильев и Гинкас в 90-е годы пришли к экзистенциальному театру, решая вопросы смысла, веры.
Один из главных авторов для семидесятников–Достоевский. Васильев много занимался Достоевским в театре на Поварской, не прошел мимо этого автора и Фокин. Внутренний мир героев Достоевского привлекал режиссеров и давал им возможность высказаться на экзистенциальные и метафизические темы. Гинкас делал попытки прочтения драматургии Кольтеса, западного интеллектуала и экзистенциалиста. Фокин тоже обращался к творчеству западного экзистенциалиста Ф. Кафки. Семидесятники осваивают европейскую литературу и драматургию, и это о многом говорит, прежде всего, конечно, о более сложном мышлении, которое преодолевает границы государств.
В центре творчества режиссеров-семидесятников, как и их старших коллег, тоже стоит личность. Только не такая цельная и волевая, по советским меркам, как у ранних героев Ефремова, к примеру. Личность, которую анализируют семидесятники,–с внутренним надломом, как в ранних спектаклях Камы Гинкаса, Анатолия Васильева, Льва Додина. Их герои уже не выступают социальными альтруистами, служа прежде всего общественным нуждам. Их в первую очередь волнуют внутренние переживания.
Достаточно наглядно разница поколений проявляется в интерпретации чеховских пьес. Чехов для интеллигенция–икона, как говорила Анна Ахматова. Особенно определенно это проявилось в 60-е годы, когда Чехов занял первое место среди постановок русских классиков. Его ставили Эфрос, Товстоногов, Ефремов, кроме, пожалуй, Любимова. Сложность духовного склада чеховских героев в тот период ассоциировалась со сложностью склада советских интеллигентов. Может, в этом было некоторое преувеличение, но все же советский интеллигент хотел видеть себя в образе страдающего духовно дяди Вани, жизнь которого прошла напрасно, но который мог бы стать Шопенгауэром. Или чеховских трех сестер с их страстным стремлением к лучшей участи. Тяготы современной реальности, социальная несвобода и масса обстоятельств быта только сильнее выявляли неудовлетворенность героев и их страстные призывы к изменению жизни. Вообще шестидесятники, в частности А. Эфрос, драму чеховских интеллигентов соотносили почти впрямую с советской действительностью, с тоталитарным режимом, лишавшим человека свободы. И ни в коем случае не винили их самих. Поэтому его сестры были как будто в лагере для политзаключенных («интеллигенты на нарах», как выражался Эфрос). Но самая глубина души чеховких героев с ее идеализмом, мечтательностью и презрением к материальному была тем главным, что хотел донести театр, и не просто донести, но утвердить и противопоставить современности. Чеховское было синонимом всего идеального, презирающего всякую прозу и грубую силу. Беззащитность, слабость чеховских интеллигентов перед лицом пошлости и здравого смысла почитались лучшими из их душевных свойств. Духовно возвышенные герои противостояли тем, кто умеет жить и приспосабливаться. То есть Чехов для шестидесятников был протестный автор, олицетворявший крик души человека 60-х, его самообольщение и самооправдание.
Драматург и режиссер Михаил Угаров, представитель третьего после шестидесятников поколения, высказывал мнение о том, что Чехов устарел, он больше не отвечает духовным запросам времени, да и само понятие духовных запросов в определенном смысле исчезло.
Но семидесятники еще любят Чехова и активно ставят его. Он для них тоже–идеальное и протестное начало в новых обстоятельствах истории. Семидесятники во многом пересмотрели особенности чеховской драмы и чеховских героев. Додин, к примеру, считает, что «Достоевский, а потом и Чехов–пусть в других психологических параметрах, но и он показывает нам, что более всего в несчастьях человека виноват сам человек. И за свою судьбу больше всего отвечает человек. За судьбу народа отвечает народ. За судьбу города отвечает город. За судьбу своей истории отвечает нация. Валить все на плохих начальников не вполне справедливо, потому что каких вождей мы терпели, такие и остались»21. В этом высказывании–отказ от иллюзий шестидесятников, от их привычек все валить на советскую власть, от их самообольщения.
Кама Гинкас в «Скрипке Ротшильда» тоже исследовал внутреннюю вину героя. Семидесятники приблизились к более взыскательному и требовательному Чехову, который размышляет об иллюзиях и заблуждениях человека.
Но вместе с тем семидесятники тоже разделяют этот чеховский миф о прекрасных, духовных и возвышенных натурах. О презрении к прозе и материальному. О ненависти к пошлости и хамству. О приоритете духа вообще. И Додин пьесу за пьесой ставит Чехова, углубляясь в поиски смысла жизни его героев. Но теперь Чехов–это экзистенциальная драма, драма, вышедшая за пределы социума. Драма о человеке как одинокой трагической душе, открытой всем ветрам истории и, как Соня («Дядя Ваня» в постановке Л. Додина), уповающей только на Бога, на некую высшую справедливость и милосердие, дающее покой истерзанным людским душам.
Если еще Товстоногов и Любимов в 60-е годы обращались к традициям дореволюционного театра (они сумели достичь синтеза психологического театра и театра игрового, театра формы, зрелищности, как у Вахтангова, Мейерхольда), то поколение семидесятников продолжило эту линию и словно бы сомкнулось с театральным искусством дореволюционной поры. Основной вклад тут внес Анатолий Васильев, который обратился к Серебряному веку. И игровые идеи тоже черпал из дореволюционной театральной эстетики, опираясь не только на Михаила Чехова, но и на идеи религиозного философа Павла Флоренского. Постмодернистский театр Васильева включил в себя огромный вековой опыт сцены. Культуролог М. Липовецкий усматривал в обращении советских художников к Серебряному веку признаки постмодерна22.
В творчестве и других режиссеров-семидесятников, не только Васильева, просматриваются связи с эстетикой модернизм. Так, Валерий Фокин видит истоки своих режиссерских идей в творчестве Мейерхольда. Михаил Левитин содержанием своих спектаклей и их формой, как уже говорилось, связан с обэриутами и вообще авангардом 20-х годов.
Но дело не только в формальных связях. Режиссеры-семидесятники унаследовали от модернизма главное–ту позицию художника, которую можно назвать позицией демиурга. Силу и мощь самой художнической миссии. Отношение к искусству как к средству преобразовывать реальность.
Модернизм видел в художнике именно демиурга, воплощающего большой художественный проект по переустройству жизни. Именно такими художниками были футуристы, Мейерхольд, Таиров и другие. Художник эпохи модернизма встал на место творца, чтобы создать свою собственную художническую вселенную, преодолеть реализм, всего-навсего копирующий жизнь. Поставив себя на место творца, художник стал фигурой авторитарной, а его власть над сотворенной художественной реальностью стала тотальной.
Вот основа тотального театра. А вместе с тем и авторской режиссуры. Она была рождена именно в эпоху модернизма.
Богоборческий пафос, присущий модернизму, проявил себя не только в художественной сфере, но и в политической. Ибо что такое большевики, как не политические демиурги, перекраивающие жизнь по собственному идеологическому проекту?
Переустройство реальности–самая большая и опасная иллюзия модернизма. Ибо история показала, к чему это приводит. В политике и общественной сфере эта иллюзия привела к катастрофе целой страны, к тысячам и сотням тысяч жертв тоталитарного режима, к кастрации нации, к утопическим мечтаниям, разбивающимся о реальность.
Но в эпоху своего утверждения и расцвета, в эпоху Серебряного века, так ностальгически воспринятую советским режиссером Васильевым, модернизм показал изощренность и красоту художественного творчества, яркую оригинальность и уникальность самой личности художника. Художник-модернист был противопоставлен толпе филистеров и обывателей, его душа сосредотачивала в себе большое внутреннее богатство, его поведение подчинялось свободной воле, его интерпретация реальности исходила из глубин сложной, изощренной художественной психики. Воображение и фантазия заняли место трезвой наблюдательности.
Сначала советская оттепель, а потом деятельность поколения Васильева, Фокина, Левитина стали своего рода реабилитацией модернизма и модернистов. В эпоху оттепели, впервые за несколько десятилетий, вспомнили о великих русских режиссерах, поэтах и писателях. Хотя, конечно, советская оттепель–это бледный оттиск с эпохи модернизма, и оттепель расцветала в духовно обедневшей, обескровленной стране, в которой лучшие представители нации и культуры были уничтожены. Советские интеллигенты в первом поколении типа О. Ефремова и Ю. Любимова не могли обладать тем изощренным художническим вкусом, каким обладали художники Серебряного века.
И все же шестидесятники, как и художники-модернисты, обладали яркой личностной уникальностью. Так же как и художники-модернисты, придавали своему искусству значение художественно-общественного проекта по улучшению жизни. В этом смысле были носителями миссионерского искусства.
Ранее я говорила, что семидесятники уже не стремятся, как шестидесятники, усовершенствовать социализм и вообще не питают никаких социальных иллюзий, их больше волнуют эстетические и художественные идеи. Но стремления А. Васильева к идеалу «человека играющего»–тоже своеобразный культурный проект. Во всяком случае, Васильев–тоже в духе модернизма–понимал искусство как возможность преобразить реальность. Поэтому, стремясь на сцене создать новый тип человека, «человека играющего», он надеялся, что со сцены тот может перейти в жизнь. Своей идее о новом человеке он придавал значение, ни много ни мало, национальное. Когда он говорил о преодолении психологизма в театре, он видел в этом возможность повлиять на человека в жизни, который должен расстаться со своими душевными травмами и комплексами, ошибками и стать человеком свободным, легким, пишущим жизнь как творческое сочинение. Проще говоря, Васильев хотел расстаться в творчестве с советским человеком, не обладающим той духовной высотой, какой должен обладать человек Возрождения.
Режиссеры-семидесятники наследовали главную художественную стратегию искусства дореволюционной поры–субъективизм, примат личностного, авторского восприятия режиссера, власть воображения, фантазии над простой копией действительности.
Все-таки шестидесятники были по большей части представителями объективистского искусства. Для них не было первостепенным их творческое «я», х видение, причудливое и неповторимое. Законы объективной действительности для них были важнее. Проще говоря, в своем творчестве они шли за жизнью. Семидесятники тоже, естественно, переживали реальность, но она пропускалась сквозь личностное восприятие, в результате чего приобретала чисто образное, субъективное выражение. Эту особенность стиля я описывала в своей работе об Анатолии Васильеве «Театр Анатолия Васильева 1970—1980-х годов: метод и эстетика»23. Но сейчас хочу сказать, что субъективистские стратегии не в меньшей степени, хотя и иначе выраженные, характерны для таких режиссеров, как Валерий Фокин, Кама Гинкас, Михаил Левитин.
Cубъективизм–тоже одна из главных особенностей авторской режиссуры.
Выраженный антитоталитарный пафос поколения семидесятников определяет их принадлежность к культуре постмодерна. Ибо постмодерн–это отрицание любой тотальности.
Деконструкция метода действенного анализа, произведенная А. Васильевым24, также говорит о постмодернистском мышлении режиссера. Сюда можно отнести и интерес к подсознательному, отказ от власти разума, признание иррационализма как одного из ведущих механизмов человеческого сознания.
Постмодернизм – это также и культура игры, чему отдали дань А. Васильев и М. Левитин.
Одна из ведущих черт постмодернизма–полистилистика. Это находит свое выражение в спектаклях всех режиссеров поколения семидесятников.
Б. Гройс писал, что современный художник «не производит, а отбирает», приспосабливает к новым условиям и восприятию. Это можно обнаружить во многих постановках 1970—2000-х годов.
Постмодернизм–это и победа над реализмом, обращение к эстетике модерна, становящегося той культурной традицией, которая подвергается рефлексии, переосмыслению, игровым манипуляциям, цитированию в творчестве режиссеров семидесятников.
Вместе с тем постмодернизм–это философия неоконсерватизма, что можно с наглядностью обнаружить и в творчестве А. Васильева, и в творчестве В. Фокина.
Однако режиссеров поколения семидесятников нельзя целиком и полностью отнести к культуре постмодернизма. Эти режиссеры соединяют в себе черты модернизма и постмодернизма, о чем более подробно поговорим впоследствии.
Поколению режиссеров, о которых идет речь в этой книге, присущ пафос защиты культуры. Культура интересует их значительно больше, чем политика. К последней режиссеры, вступившие в профессию на рубеже 70-х годов, часто относятся индифферентно. Вот высказывание Льва Додина по этому поводу: «Часто содержание политическое в “Бесах” ставят выше человеческого смысла, а политика–это всего лишь часть жизни человеческой»25. Или такое: «Художник должен пытаться говорить правду–именно как художник. Художник должен любить и не может ненавидеть. Это главное, потому, мне кажется, не надо требовать от человека искусства участия в лозунговой, митинговой стихии. Он начнет орать и сорвет голос, а ведь он должен брать верные ноты»26.
А. Васильев в своем творчестве еще в большей степени игнорировал политическую конъюнктуру. Его внимание всецело занимали проблемы культуры. Это нашло отражение, в частности, в спектакле «Серсо».
М. Левитин в своем творчестве тоже шел главным образом от культурных переживаний, защищая культурную традицию авангарда, уничтоженного в период сталинизма.
Надо сказать, что большую роль в утверждении своего стиля и языка для режиссеров-семидесятников сыграло западное искусство, сквозь призму которого семидесятники восприняли и русский модернизм. Западное искусство в Советском Союзе впервые продемонстрировало себя на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году, затем на американской национальной выставке 1959 года, выставке Пикассо в начале 60-х. «Парадоксальность ситуации заключается в том, что культурная экспансия Запада представила русской общественности официальный модернизм, к 60-м годам уже музеизированный и ставший знаменем западной демократии»27. Интересно также и то, что уроки западной демократии в большей степени восприняло именно поколение семидесятников. Некоторые из них впрямую и непосредственно учились у западного искусства, как учился Анатолий Васильев у западного кинематографа или Кама Гинкас у польского театра, который тогда, в 70-е годы, воспринимался в большей степени как западный. С западным театром устанавливал тесные контакты и Валерий Фокин уже в 90-е годы.
Искусствовед А. Жигалов видит в восприятии Серебряного века, равно как и западного искусства, проявление «общенационального инфантилизма страны, пребывающей в детском раю победившего социализма». «Все взоры, естественно, обращаются к Другому как воплощению некоррумпированной Истины и Справедливости. Земля обетованная–русская культура, особенно Серебряный век и Запад»28,–пишет он. Эти два материка, русская дореволюционная и западная культура, являются воплощением обетования и в постсоветской действительности. И этот инфантилизм, если принять такой диагноз, будет свойственен России до тех пор, пока она не обретет свою собственную национальную идентичность.
В свете сказанного стоит заметить, что Анатолий Васильев России предпочитает Запад, куда он уезжал в свое «добровольное изгнание» в конце первого десятилетия ХХI века. Таков путь бывшего советского полуизгоя, не признаваемого официальной московской властью, который предпочел «изгнанничество» построссийской карьере. На Западе Васильев, очевидно, нашел ту профессиональную среду, которая в большей степени способствовала его творческой реализации. С другой стороны, тут крылся и комплекс «безотцовщины», проявляющийся в негативном отношении к родным берегам.
Что еще является отличительной особенностью искусства семидесятников? Выдвижение на первый план актера, ансамблевая природа игры.
Лев Додин работает в русле психологической школы. В русле этой школы, воспринятой от Марии Кнебель, в первом периоде своего творчества, до «Школы драматического искусства», работал Анатолий Васильев. Но и уйдя от психологического театра в область экспериментов с игровой эстетикой, Васильев не отказался от главного в системе Станиславского–от живого актера и от того, о чем говорил Станиславский: «…переживаемое чувство передается не только видимыми, но и неуловимыми средствами и путями и непосредственно из души в душу»29.
Эта же игра «из души в душу» сплотила и додинских актеров, создавших уникальный ансамбль, второго такого сегодня уже нет.
Вообще ансамблевое искусство, идущее от К. Станиславского и МХТ, воспринятое и старшим поколением шестидесятников, создавших уникальные ансамбли в своих театрах,–одно из базовых понятий и в эстетике семидесятников. Анатолий Васильев уже в начале второго десятилетия ХХI века, уехав из России в «добровольное изгнание», так объяснил главную причину своего отъезда: «одна из причин моего добровольного изгнания–это разрушение ансамблевой природы российского театра» (так называется интервью Анатолия Васильева, опубликованное во французском театральном сборнике)30.
Ансамблевость потому является базовым понятием в работе режиссуры, что в ней проявляются главные принципы взаимодействия режиссера с актерами, принципы самого актерского творчества, взаимоотношений актеров в ролях, стиль репетиций и многое другое. Не случайно ансамблевый театр всегда был связан с длительным репетиционным периодом. Лев Додин, к примеру, репетировал свои спектакли 80—90-х годов по несколько лет. Анатолий Васильев работал над «Серсо» два года. Углубленная работа актера с образом, постижение роли изнутри, усложненные методологические задачи–весь этот комплекс серьезного основательного еатра, в котором важнее процесс, а не результат, с 90-х годов начал постепенно уходить из практики режиссуры. Стал утверждаться стиль быстрой–фастфуд–работы, рассчитанной именно на результат. Эти тенденции связаны с коммерциализацией театра, с эрой потребления, когда искусство из душевной и духовной потребности перешло в разряд потребительских услуг, развлечения, отдыха.
Театр-дом, наличие своей труппы характеризуют работу коллектива и Льва Додина, и Михаила Левитина, и Валерия Фокина последнего периода Александринского театра, и Генриетты Яновской. У Анатолия Васильева было несколько своих коллективов в разные периоды деятельности.
Но с 90-х годов появился стиль работы со звездой. Это уже примета изменившегося театрального мышления, более свободной позиции режиссера, который имеет возможность приглашать исполнителя со стороны, и некоторое ослабление «крепостной зависимости». С другой стороны, в постоянном коллективе происходит и рост актеров, ведется так называемая воспитательная работа, больше внимания уделяется развитию профессиональных качеств члена труппы.
Интересно, что режиссеры поколения, о котором идет речь в этой книге, работали в разные периоды с таким актером, как Виктор Гвоздицкий. Сначала он сыграл роли у К. Гинкаса в спектаклях «Пушкин и Натали», «Человеке из подполья», почти десять лет работал в «Эрмитаже» с Михаилом Левитиным, в 90-е годы участвовал в спектакле Валерия Фокина «Арто и его двойник», через десятилетие–в его «Двойнике» в Александринском театре, репетировал Подколесина в «Женитьбе». Но умер, не сыграв этой роли, в 2007 году.
Виктор Гвоздицкий был актером острой формы, ему был подвластен несколько гротесковый игровой стиль. Кроме того, Гвоздицкий нес в себе дух романтического индивидуализма, подвижничества в творчестве, повышенной требовательности к себе, полной отдачи в профессии, а вместе с тем невозможность сродниться и срастись с каким-то коллективом. Он всегда–отдельно, даже внутри какого-то спектакля. Играл инфернальные образы, в сложных жанрах, с острой подачей, некоторой бравадой уверенного в себе профессионала и вместе с тем кроткой преданностью послушного ученика.
Гвоздицкий был не из разряда звезд, как О. Меньшиков или Е. Миронов. Гвоздицкий скорее был просто ищущим актером, которому хотелось попробовать свои силы с режиссерами разной индивидуальности, открыть в себе что-то новое. И совсем не случайно он сотрудничал именно с семидесятниками, которые тоже искали новизну и стремились наиболее полно реализовать в творчестве свою индивидуальность.
В начале своей творческой биографии семидесятники переживали невзгоды. На работу в театры было попасть нелегко. Нелегко было и получить постановку. Все места были заняты. Старшее поколение зорко охраняло свои цитадели от чужой творческой воли. Кама Гинкас в Ленинграде долго существовал на положении изгоя, его учитель Товстоногов не спешил давать ему работу. Генриетта Яновская, его сокурсница и жена, как женщина более терпимая, ставила в самом маленьком, непрестижном театре на ул. Рубинштейна. Там же начинал и Лев Додин. Они шли с окраин, пробиваясь к центру, но центр был окружен неприступной стеной, и попасть в него было не так просто.
Олег Ефремов сделал для ленинградцев важный шаг–пустил во МХАТ, которому не хватало своих идей и репертуара. Там на малой сцене появился Кама Гинкас с пьесой Н. Павловой «Вагончик», большой спектакль «Господа Головлевы» поставил Лев Додин.
Настоящий прорыв произошел только в перестройку, когда этому поколению режиссеров дали наконец свои театры. Михаил Левитин стал сначала главным режиссером, а потом и художественным руководителем Театра миниатюр, который он переименовал в театр «Эрмитаж», Анатолию Васильеву с его актерами предоставили помещение на Поварской улице, где они открыли «Школу драматического искусства». Несколько раньше Малый драматический театр на ул. Рубинштейна в Ленинграде получил Лев Додин. Генриетта Яновская с Камой Гинкасом пришли в московский ТЮЗ (она–в качестве главного режиссера, он–режиссера на постановки). Валерий Фокин самостоятельно осуществил сложный коммерческий проект, построив здание Центра Мейерхольда в Москве. А позднее, уже в 2000-х годах, возглавил Александринский театр в Петербурге.
Крах советской системы способствовал открытию границ между государствами. Театры Васильева, Додина, Гинкаса, Фокина, Левитина стали выезжать на зарубежные гастроли. Режиссеры получили многие престижные европейские премии. Театр Льва Додина стал Театром Европы. Признание заслуг режиссеров-семидесятников за рубежом значительно превзошло признание режиссеров предыдущего поколения. И А. Эфрос, и Г. Товстоногов, и Ю. Любимов много ставили в странах Европы и Америки. Но столь престижных премий, как Высшая театральная премия Европы «Европа–театру», присужденная Льву Додину, или «Новая театральная реальность», присужденная Анатолию Васильеву, не получили ни Эфрос, ни Товстоногов, ни даже Любимов, проведший за границей довольно значительный срок в период своей политической эмиграции. Правда, в дела награждения российских режиссеров, разумеется, вмешалась и политика. Западные деятели искусства стали присуждать награды российским режиссерам еще и потому, что Россия отказалась от социализма и получила шанс стать свободной демократической страной.
Семидесятники, как и их старшие коллеги, работают во имя серьезного и содержательного искусства. Решают кардинальные вопросы человеческого существования, обращаются к большой литературе и погружаются в нее глубоко, ища в ней источник глубоких смыслов. И тоже рассматривают искусство как средоточие актуальных идей, только другого толка, чем идеи шестидесятников.
Еще в начале своего творческого пути семидесятники, особенно те из них, кто всерьез озабочен художественными проблемами, стали работать на более искушенного в художественных проблемах зрителя. Можно сказать, что они сузили возможности восприятия своего искусства, а можно сказать–углубили по сравнению со старшим поколением. Васильевский спектакль «Первый вариант “Вассы Железновой”» был ориентирован на образованного и тонко воспринимающего искусство зрителя. Гинкас тоже искал углубленный контакт с публикой, пусть и не столь многочисленной. Додин как будто всегда прекрасно чувствовал себя в своем маленьком театре на ул. Рубинштейна. На зарубежных гастролях его спектакли между тем шли и на больших сценах со значительным количеством публики. Я, правда, не видела там эти спектакли и не могу сказать, как это выглядит, ведь все-таки они рассчитаны на восприятие более интимное, глаза в глаза.
Семидесятники–последнее в истории ХХ—ХХI веков крупное поколение художников, проникнутых миссионерским сознанием, испытывающим недоверие и презрение к легкому искусству, к искусству как светскому удовольствию или грубому развлечению. Они стоят за искусство со смыслом, отвечающее на коренные вопросы человеческого существования. Они–за театр сложный, возможно, труднодоступный. За театр, анализирующий жизнь, исследующий духовные процессы общества, открывающий душу человека, погружающийся в тайники его сознания.
Эти режиссеры–не такие значительные общественно и политически ангажированные фигуры, как Юрий Любимов, Олег Ефремов или Георгий Товстоногов. Семидесятники в большей степени просто художники, которым удалось высказаться от собственного имени, что совсем не мало. Их имена со временем стали звучать громко и значимо, как имена больших режиссеров, создателей авторских театров ХХ—ХХI веков.
Только в 90-е годы, уже после перестройки, искусство и культура перестанут обладать тем влиянием и весом, каким они обладали практически на всем протяжении советской истории. И, что самое главное, искусство утратит свое идеологическое значение, вернувшись к самому себе. Художник тоже перестанет быть идеологом жизни и станет просто художником, субъектом своей среды, выразителем ее художественных, а не идеологических интересов и предпочтений. Общественный статус художника понизится, онперестанет претендовать на роль общественного лидера. С другой стороны, искусство будет подвержено коммерческому влиянию и перейдет в разряд развлекательной формы досуга. Исчезнувший еще в 90-е театральный центр, разрушенные старые цитадели типа БДТ в Ленинграде или Таганки в Москве приведут театральную среду к расслоению. И отныне режиссер будет связан только со своим зрителем. Настанет время зрелого постмодерна. Одной-единственной истины не будет, будет множество разных голосов и истин.
Возникнут третье и четвертое поколения режиссуры. Кто-то будет продолжать заниматься экзистенциальным театром, как Миндаугас Карбаускис. Кто-то станет претендовать на роль ниспровергателя жизненных, культурных и духовных стереотипов, как Константин Богомолов 90-е и 2000-е годы продолжат интерес к закрытому лабораторному эксперименту, им займется такой режиссер новой генерации, как Николай Рощин.
Вообще сегодня, в середине второго десятилетия ХХI века, успешно заявило о себе поколение сорокалетних режиссеров. Это тот же Карбаускис, Богомолов, Серебренников, Вырыпаев, Рощин… Сорок лет–пик творческой зрелости. Именно в этот период поколение семидесятников выпустило свои самые громкие театральные работы. Тема сорокалетних вообще активно обсуждалась в 80-е годы. Подойдя к сорокалетнему возрасту, Валерий Фокин начал свои активные шаги по реорганизации театрального дела в Театре Ермоловой. В сорок два года Анатолий Васильев приступил к репетициям «Серсо» и поначалу хотел дать характерное название спектаклю «Мне сорок лет, но я молодо выгляжу».
Сегодняшние сорокалетние демонстрируют новый подход к творчеству и профессии. С одной стороны, можно наблюдать, что личность режиссера как будто утеряла былой вес. С другой стороны, она приобрела неожиданные качества и свойства. Если поколение семидесятников создавало свои художественные миры, объемные и целостные, которые погружают зрителя внутрь себя, подчиняют его и провозглашают свою тотальную власть над ним, то режиссеры новой генерации уже не претендуют на тотальную власть над публикой. Они часто, как К. Богомолов, избегают прямого высказывания и закрываются иронией, предоставляя публике свободу в выборе позиции. Они избегают экстатического напряжения в служении своей театральной вере и вообще как будто не склонны рассматривать свое творчество как средство спасения от несовершенств мира, не собираются выдавать рецепты и рекомендации, как жить. Они склонны скорее принять этот мир и утверждать ценности своего личного независимого «я» или своей обычной человеческой жизни, которая в своей значимости для них самих отнюдь не уступает творчеству. «Главный источник моей надежды в жизни – не работа, не творчество. На первом месте моя дочь»,–признается в одном из интервью К. Богомолов, создавая имидж художника, легко относящегося к профессии и не делающего из нее главной ставки в жизни. Такого заявления не сделал бы семидесятник. Для многих из них творчество–это главный источник личностного самоутверждения. Нынешние сорокалетние к самим себе как художникам тоже относятся с долей иронии, утверждая относительность всякого притязания на избранность. Эта поза сегодня уже выглядит неубедительно. Новые сорокалетние человечески и творчески более свободны, чем старшее поколение режиссеров. И можно сказать–более «нормальны». Они прошли этап становления в более свободной стране, чем семидесятники. И поэтому на их личности не наложила отпечаток уродливая социальная реальность. Поэтому они не испытывают и комплекса изгойства. Но, с другой стороны, они тоже должны стремиться к признанию и добиваться этого признания, тратя на это большие запасы энергии и сил.
Если в 70-е годы молодой Валерий Фокин удивлял поражающей искренностью в спектакле по Достоевскому с молодым Константином Райкиным, то сегодня такой театральный режиссер, как К. Богомолов, призван удивлять отстраненностью игровой позиции, которая допускает все, и в большей степени–стеб, иронию, вплоть до как будто недопустимых издевательств над тем, к чему мы привыкли относиться с почтением и даже и что мы привыкли даже заносить в разряд святынь. Но сегодняшний режиссер бравирует своей смелостью и не боится упреков в святотатстве, не идет на поводу у сантиментов, ложных авторитетов и насаждаемых культурой и моралью ценностей. Он сознательно идет на провокации, пускает в ход шоковые приемы. Эти провокации–намеренная и увлекательная игра в постмодернистском культурном поле.
Новые режиссеры окончательно эмансипировались от политики и социума. Но единственное, от чего они не могут освободиться,–это художественный рынок, новое образование, возникшее в 90-е годы.
В обществе потребления все искусство, в том числе и театральное, превратилось в товар и начало «продаваться», получая ту или иную стоимость в зависимости не столько от своего художественного качества, сколько от уровня запросов той или иной зрительской аудитории. Поэтому театр в гораздо большей степени, чем прежде, ориентирован именно на спрос, на вкусы той или иной категории публики. Режиссер, утеряв роль общественного лидера, поднимающего в своих спектаклях «темы дня», затрагивающие интересы передовой публики (или того, что от нее осталось), тоже превратится в товар, которому зритель назначает цену.
В общем, эпоха потребления кардинально изменила и поставила режиссера в новую зависимость, которой не знали предыдущие поколения, те зависели от власти, цензуры, диктата идеологии. Новые режиссеры зависят от денег. Деньги надо или заработать, или получить от спонсора. Первый путь ставит перед режиссерами задачу удовлетворять запросы публики, пусть даже не слишком высокие. Второй более предпочтителен, дело только в том, чтобы найти нужного спонсора. Сегодня подлинное искусство могут поддержать только образованные в художественном отношении меценаты. Государство все меньше и меньше заинтересовано в успехах искусства. Искусство перестает служить целям государственной политики, как это было в эпоху Сталина и последующие советские десятилетий. И со временем окончательно превратится в частную инициативу самих творцов. Похоже на то, что в ощутимом будущем собственно государственными останутся три-четыре драматических театра типа Малого или Александринского. От прочих государство уже сейчас готово отказаться. В этом отношении мы как будто тоже возвращаемся в дореволюционные времена, в ту буржуазную Россию, когда новые театры возникали от инициативы «снизу» и поддерживались частными деньгами и меценатами, как Художественный театр, детище двух независимых энтузиастов, Станиславского и Немировича-Данченко.
Анатолий Васильев:
к метафизическому театру
Анатолий Васильев–необычная фигура в нашем театре. Режиссер, которым восхищаются и которого не понимают. Все признают его огромные заслуги, ведь его спектакли с 70-х годов лидировали в театральном процессе. Но суть театральных идей Васильева, которых у него всегда было много, оставалась непонятной, вернее сказать, недоступной, в чем была львиная доля и его вины, поскольку он после своих триумфальных успехов 70—80-х годов уехал в длинное путешествие по Европе и Америке, а вернувшись, закрыл двери своего театра на Поварской улице и углубился в таинственную исследовательскую деятельность. При этом он не стремился раскрывать секреты этих опытов, которые длились в общей сложности два десятилетия. Впрочем, в первом периоде творчества, в 70-е и 80-е годы, он был значительно более открытым человеком и готов был поделиться своими мыслями о театре, о котором с самых первых шагов профессии высказывался чрезвычайно интересно и оригинально. Но все-таки и тогда был не до конца понят. Почему? Потому что его талант был ориентирован на будущее. Это был талант в чем-то пророческий, провидческий. Он отличался от таланта многих других режиссеров, которые «работали» на настоящее театра.
Поэтому о Васильеве просто не расскажешь, тут нельзя ограничиться только его спектаклями. Помимо практики у него существует и интересная теория, основанная на глубоком освоении эстетических, художественных и культурологических аспектов творчества. Во второй половине его деятельности, после создани «Школы драматического искусства», теория, а точнее, сопутствующие ей лабораторные опыты стали для Васильева важнее практики. Ему уже было не так интересно ставить спектакли, хотя обычно режиссеры ничем другим и не занимаются, кроме как своими постановками. Думаю, что своими практическими успехами Васильев в определенный момент жизни вполне удовлетворился, доказав миру и самому себе, что его возможности как режиссера находятся на достаточно высоком уровне. Перед ним встала задача создания некой методики, аналогичной методике Станиславского, только не в области психологического, а в области игрового театра. Но и до создания «Школы» он уделял особое внимание проблемам теории и методологии. Анализировал драматическую структуру, искал новые подходы к передаче действия. То есть углублялся в самую суть театра, умея объять его как целостную культуру, корректировать предыдущие практические и теоретические положения, развивать в соответствии с движением времени.
У Васильева в результате всего в настоящее время накоплен неординарный теоретический запас знаний и представлений о театре, который он развивал на протяжении десятилетий. Его знания могли бы быть положены в основу серьезного театрального образования режиссеров, актеров, театроведов, культурологов. Это говорит о ярком своеобразии театрального мышления Анатолия Васильева.
В 1971 году, после окончания ГИТИСа, Васильев по рекомендации его педагога М.О. Кнебель попал в ефремовский МХАТ на должность стажера. О Васильеве уже тогда ходила слава очень талантливого режиссера. Эту яркую талантливость надо представить себе с поправкой на его резкость, которая тогда проявлялась в излишней откровенности суждений и негативных оценок. Впрочем, эта черта осталась с ним на всю жизнь. Он говорил то, что думал. Во МХАТе в лице его лидера Олега Ефремова Васильев нашел человека и художника, которым восхищался и которого глубоко и искренно уважал. Это, правда, не мешало ему вступать с ним в эстетические споры и противоречия.
Во МХАТе Васильев уже проявил свою самостоятельность. И в ряде спектаклей мог бы обнаружить потенциал художника следующего поколения, обладающего новаторскими взглядами на театр. Но ему это удалось в полной мере только в спектакле «Соло для часов с боем». Художественным руководителем постановки значился Олег Ефремов, а Васильеву была предложена скромная роль режиссера. Хотя на самом деле этим спектаклем занимался в большей степени он сам, нежели Ефремов. Работа с мхатовскими стариками, прошедшими школу еще у К. Станиславского,–А. Грибовым, М. Яншиным, М. Прудкиным, В. Станицыным, О. Андровской–принесла Васильеву серьезные плоды. Из рук М.О. Кнебель Васильев получил хорошее образование в духе именно традиций Станиславского. Поэтому работать с легендарными актерами, носителями этой традиции, полученной из первых рук, Васильеву, очевидно, было интересно. Кроме того, традиции школы Станиславского Васильев умел развивать в условиях новой социальной и культурной реальности.
В общем, спектакль «Соло для часов с боем» О. Заградника стал заметным явлением в театральной жизни Москвы. Затем у Васильева было несколько лет свободного существования, не связанного ни с каким театром. Вообще, как уже говорилось, режиссерам васильевского поколения было не так просто попасть в театр. Все театры Москвы и Ленинграда возглавлялись лидерами часто с очень громкими именами, не желающими впускать в свои коллективы режиссуру со стороны. Это было время, когда художественная политика театра строилась одним режиссером, проводившим в жизнь, как тогда говорили, собственную программу. Уже только после 90-х, после глубокого и продолжительного кризиса шестидесятнической модели с ее монопрограммой двери театров открылись и художественная политика стала строиться иначе–на соединении и сочетании спектаклей разных режиссеров, у каждого из которых могли быть собственные художественные взгляды. В 70-е, повторяем, была другая жизнь. Молодой режиссер был фигурой зависимой, он мог вполне соответствовать требованиям профессии, но его старшие коллеги, уже добившиеся успеха и признания, не спешили поделиться с ним славой. Зависимое положение было у Камы Гинкаса в Ленинграде. Вернувшись из Красноярска, где он вместе со своей женой и соратницей Генриеттой Яновской создал очень интересный ТЮЗ, Гинкас, ученик знаменитого Г. Товстоногова, был вынужден скитаться по разным театрам, ставить то здесь, то там, и не всегда успешно. Неуспех был результатом недоверия к молодому режиссеру и грубых вмешательств в его постановки, купюр и перекраиваний, которые, конечно, снижали их художественное качество. Гинкас, правда, сам нес в себе зерно своей несвободы, он в своих спектаклях все время выяснял отношения с властью, чего власть, конечно, простить не могла. Васильев, как уже говорилось, никогда не играл с властью в кошки-мышки, поэтому был более свободен в своем творчестве. Но не более успешен в карьере. Потому что его, как и многих других собратьев по поколению, в театры не допускали или допускали с трудом.
В 70-е годы Васильев был связан с арбузовской студией, в которую входили молодые драматурги, определявшие стиль своего времени, внешне благополучной и спокойной, внутренне несвободной, подавляющей брежневской эпохи. Впрочем, эту несвободу ощущали в большей мере творческие люди, которые не могли говорить открыто о том, о чем думали. Этой несвободе они внутренне сопротивлялись, и тем сильнее, чем ощутимее было ее давление. Это порождало и особый, закрытый стиль письма. Не все, что было важно сказать драматургу, лежало на поверхности. Многое уходило в глубину, концентрируясь там и создавая особое напряжение действия. Такие драматурги, как Л. Петрушевская, В. Славкин, А. Ремез, В. Коркия, А. Родионова, О. Кучкина, становились известны в театральных кругах (на сцену они почти не попадали или попадали очень редко). Они писали пьесы, не похожие на пьесы своих старших коллег, в первую очередь В. Розова, признанного лидера советской драматургии того периода. Молодые драматурги обнаруживали свои взгляды на действительность, свои драматургические принципы. Именно этим и заинтересовался молодой Васильев, который уже тогда был ориентирован на театр нового поколения. Его, как и других молодых режиссеров, не смущало то, что эти пьесы были «непроходными». Он стремился к тому, чтобы поставить их на сцене. В его деятельности, как и в деятельности драматургов, было заложено внутреннее сопротивление официальным запретам.
В арбузовской студии могло произойти чудо, но, по условиям того мрачного времени, чуда не произошло. Драматурги получили подвальное помещение на Мытной улице и собирались создать здесь свой театр. Театр, который будет ставить новые пьесы. А. Васильев, И. Райхельгауз и некоторые другие режиссеры уже приступили к репетициям. Но подвал на Мытной неожиданно сгорел. А с ним были погребены и надежды молодых драматургов и режиссеров.
Это для всех был сильный удар, в том числе и для Васильева. Но судьба дала ему еще один шанс. На этот раз он выиграл в творческом отношении, потому что именно спектакли Театра им. К.С. Станиславского, куда он вскоре пришел на работу, принесли ему заслуженную славу.
В драматическом Театре им. К.С. Станиславского в тот период не было главного режиссера. Три ученика М. Кнебель и А. Попова– А. Васильев, Б. Морозов и И. Райхельгауз,–прикрывшись именем народного артиста СССР Андрея Попова, который должен был занять должность художественного руководителя в Театре им. К.С. Станиславского, организовали коллегию и приступили к исполнению своих обязанностей. Фактически они стали управлять театром самостоятельно. Это было самое счастливое время для молодых профессионалов. Театр им. К.С. Станиславского силами Васильева, Морозова и Райхельгауза подготовил и развернул театральную революцию. Спектакли молодых режиссеров заявили о новой театральной эпохе. Васильев поставил здесь «Первый вариант “Вассы Железновой”» М. Горького, «Взрослую дочь молодого человека» В. Славкина. Морозов–«Брысь, костлявая, брысь» и «Сирано де Бержерака» Э. Ростана. Райхельгауз отрепетировал и сделал прогоны на публике пьесы А. Ремеза «Автопотрет». Но молодецкая удаль не знала осторожности. Пьеса А. Ремеза не имела лита, то есть цензурного разрешения, а Райхельгауз повез ее на гастроли на родину Васильева, в Ростов-на-Дону, и показал там зрителю. Это была роковая ошибка молодой коллегии, за которую они и поплатились очень дорого. И. Райхельгауза Управление культуры изгнало из театра. Потом с должности художественного руководителя ушел А. Попов, который по своему складу отнюдь не был революционером. И вся затея с Театром им. К.С. Станиславского была похоронена.
Васильев, который начал работу над новой пьесой В. Славкина «Серсо», перешел на малую сцену Таганки, где его приютил Ю. Любимов. За это Васильев был ему очень благодарен. За Васильевым из Театра им. К.С. Станиславского ушли и актеры–Л. Полякова, А. Филозов, Ю. Гребенщиков, Б. Романов, А. Балтер. Все они вместе с приглашенными Н. Андрейченко и А. Петренко составили своего рода независимую труппу. Так Васильев и его актеры оказались в некоем безвоздушном пространстве, на перекрестке дорог, как одинокие путники. Потому что к Театру на Таганке они, по существу, имели мало отношения, а никакой другой театр не мог принять их к себе в полном составе и создать условия для работы, это было нереально. После двух лет трудных репетиций спектакль вышел, имел успех и завершил собой первый период васильевского творчества.
Затем подоспела перестройка. Прошумел ветерок свободы. Бывшим молодым режиссерам новая власть дала свои театры.
Все это, правда, произошло не в один день и стоило больших хлопот и тяжелой работы. И тем не менее…
Васильев к тому времени с курсом М. Буткевича в ГИТИСе, своего бывшего педагога, сделал спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло. Это были уже новые интересные актеры, новая труппа. С ними и со своей прежней труппой, родом из Театра им. К.С. Станиславского, занятой в «Серсо», Васильев поехал на длительные гастроли по всему миру. Это был период, когда Европа и Америка восхищались русскими и открывали их для себя. Васильев получил международное признание и несколько престижных театральных премий. В Москве ему тоже разрешили открыть собственный театр, который он назвал «Школа драматического искусства». С этого театра начался второй период творчества режиссера.
Обретение своего театра отнюдь не означало для Васильева того, что он перестал быть оппозиционным и пришел к гармонии с новой реальностью. Напротив, его черты и свойства натуры только заострились. Он с новой силой бросился в эксперименты, теперь желая отказаться от всего, что обрел и наработал в первый период творчества. То есть он закончил отношения с психологическим театром и стал экспериментировать в области театра игрового. Через двадцать лет углубленных и усиленных поисков за закрытыми дверями своего монастыря, отрезав все контакты с действительностью, власти которой он так был предан в период пьес В. Славкина, Васильев пришел к новой методике работы, к новому театральному языку и новому художественному мировоззрению.
Но его сложная натура и тут показала себя. Не умея устанавливать отношения с чиновниками, с мэром города, который построил ему новое здание театра по его собственному с И. Поповым проекту, Васильев вошел с ним в конфликт и в результате был лишен старого помещения на Поварской, где родилась «Школа драматического искусства», и был вынужден покинуть театр, страну и уехать на несколько лет в Европу, назвав себя «добровольным изгнанником». Лужков не мог понять, почему Васильев не работает на зрителя, так же как не мог уяснить, что же все-таки такое лабораторная деятельность. В советском и постсоветском театре еще не было других столь же крупных прецедентов.
Прошло несколько лет. Юрий Лужков ушел с поста мэра. Новое московское правительство и новый глава комитета по культуре обещали Васильеву вернуть несправедливо утраченное. Однако и тут повторилась та же история. Васильев представил комитету по культуре проект под названием «Кафедра лабораторных исследований теории и техник театра», а комитет по культуре ждал от него проекта театра, включающего в себя спектакли, то есть работу все с тем же зрителем, который был яблоком раздора еще во времена Лужкова.
Проблема в том, что нынешние чиновники от культуры плохо разбираются в гуманитарных проблемах и гуманитарных науках. Престиж науки и культуры в обществе вообще резко упал. И теперь трудно сказать, найдет ли Анатолий Васильев достойное применение себе на родине.
В 1981 году в журнале «Искусство кино» вышло интервью с Васильевым под названием «Разомкнутое пространство действительности». Тогда Васильев отдавал предпочтение современной пьесе перед классикой и говорил, что заниматься современностью–значит быть молодым, а перейти на классику–это уже старость. Так вот, он говорил не просто о современной пьесе, а об особой современной пьесе. Он тогда ввел термин «разомкнутая» структура и сказал, что эта пьеса с «разомкнутой» структурой не похожа на традиционную. Что она представляет собой аномалию. Строится по совершенно особым законам. И конфликт в ней особый, и персонажи, и прочее. Он назвал направление драматургов, пишущих «разомкнутые» пьесы, «новой волной» и отнес к нему Виктора Славкина, которого так удачно поставил в Театре им. Станиславского, и Людмилу Петрушевскую, которую так и не поставил, а также других драматургов, в основном выходцев из арбузовской студии.
И вот прошло более двадцати лет, и обнаружилось, что Васильев со своей «разомкнутой» пьесой предощущал появление того, что с 90-х годов именуется «новой драмой». Эта «новая драма»–тоже аномалия и не похожа на традиционную драматургию. У нее тоже особый конфликт, особые персонажи, особая лексика. «Все другое», как тогда подчеркивал Васильев. Только если в 80-е годы разомкнутая драма была представлена именами нескольких драматургов, то с 90-х годов их появилось множество, целое движение.
«Новой драме» была открыта зеленая улица. Ею стали заниматься три театра в Москве, несколько театров на периферии, различные фестивали, десятки молодых режиссеров, актеров, продюсеров, критиков. На проекты, связанные с «новой драмой», государством, различными коммерческими структурами и частными лицами по сей день даются немалые деньги.
В 80-е Петрушевскую ставили в основном по подвалам, на полусамодеятельной сцене. Ее пьесы «пробивали» редкие одиночки. Но только один Васильев тогда знал, как ставить такую трудную нетрадиционную драматургию. Его, правда, мало кто услышал, мало кто воспользовался его теоретическим опытом, добытым на постановке пьесы В. Славкина «Взрослая дочь молодого человека». Об особенностях нетрадиционной драмы в те десятилетия никто, кроме Васильева, не думал.
Аномальная драма 70-х отразила подспудные процессы разложения советского общества, которое становилось все более и более сложным образованием, теряющим свои устойчивые основания. Аномальная драма 90-х–результат уже окончательного краха советской жизни, перехода в другой социум, появления множества новых слоев, отсутствия центра, отсутствия большой общей идеи, традиционной системы ценностей. Васильев как человек талантливый, чуткий, обладающий особой интуицией, увлеченный нетрадиционными пьесами «новой волны», предощущал распад нашего социума еще в конце 70-х годов. Об этом он, собственно, и говорил. Просто тогда никто, и он в том числе, не мог думать о том, что этот распад примет такие невероятные масштабы. Что это будет распад СССР и последующие за ним десятилетия жизни постсоветского общества. Мы будем жить в этой релятивистской (так называл ее Васильев), то есть распадающейся, реальности еще неизвестно сколько времени. Конечно, эта эпоха пройдет и настанет другая, более цельная, с новыми ценностями и порядком жизни. Как будет выглядеть эта эпоха? Останутся ли в ней все эти пьесы, зафиксировавшие разложение жизни, или их выбросят как старый, ненужный хлам? Будет ли это новое общество, построенное по типу «замкнутой» структуры, обществом нового тоталитаризма, мы не знаем.
Анатолий Васильев почти с самых первых шагов в режиссуре хотел занять позицию новатора. Так о себя и позиционировал, когда в уже упомянутом мною интервью в журнале «Искусство кино» стал проводить параллель с поколением шестидесятников. Дескать, те вошли в жизнь с новой драматургией Розова и Володина, открыв новый стиль и ознаменовав новый этап в театре. И он тоже входит в профессию с новой драматургией уже следующего десятилетия. Это рассуждение о шестидесятых и семидесятых было подкреплено тезисом о том, что новый этап в жизни театра рождается именно с новых пьес. Утверждение было верное, спорить с ним вряд ли кто-то бы взялся.
Два спектакля 70—80-х годов на современную тему по пьесам Виктора Славкина создали ему громкое имя. Особенно–первый, «Взрослая дочь молодого человека», который тогда поразил свежестью материала, грацией режиссерского решения и тонкостью и очарованием актерской игры. В спектакле раскрылся талант таких актеров, как Альберт Филозов, Юрий Гребенщиков, Лидия Савченко, Эммануил Виторган. Эти актеры прежде не были широко известны. Только Альберт Филозов что-то играл в кино, предъявляя миру свои несколько сумеречные образы современных интеллигентов. Впрочем, большого успеха эти роли не имели. А тут талант актера вдруг раскрылся. Филозов в роли бывшего стиляги Бэмса поразил богатством и свежестью игры, переключениями из одного жанра в другой, которые давались ему с поразительной легкостью. Из сцен бытовой дружеской вечеринки он переходил в оглушающий танец буги-вуги под музыку знаменитой «Чатануги-чучи», которая в нашей стране стала известна после войны, когда по экранам прошел голливудский фильм «Серенада Солнечной долины». А потом он перемещался к черному порталу огромной, казавшейся пустой сцены, где на заднем плане маячила развертка стандартной двухкомнатной квартиры, она застывала там в глубине размытым пятном и уже не казалась столь осязаемой и реальной, как прежде. Черный портал образовывал совсем другое пространство. Здесь Бэмс преображался и как будто сбрасывал с себя облик скромного стосорокарублевого инженера в домашней кофте тусклого серого цвета, советского обитателя хрущевки и любителя болгарских Золотых Песков–ничего более интересного в те годы советская публика не знала. Бэмс у черного портала, вырванный из густого и несколько пародийного быта,–это был новый поворот темы современного героя, новое измерение человеческой судьбы.
Спектакль тем и был знаменит, что он постоянно переключался из одного жанра в другой, переходил из пространства в пространство. Эту возможность давала театральная ширма, развернутая на сцене по диагонали (художник И. Попов). Когда персонажи приближались к ней, то оказывались в пространстве малогабаритной двухкомнатной квартиры с резко раскрашенными обоями и стандартным набором мебели. Когда ширма отъезжала в глубь сцены, она из бытовой превращалась в театральную декорацию. На ее фоне и разворачивались оглушительные танцевальные номера, в которых герои тоже преображались, превращаясь в роскошных и зажигательных американских мачо.
Спектакль поначалу рассказывал о человеке не в привычном измерении социально-бытового сюжета. Но потом этот пласт режиссер сбрасывал, как змеиную кожу, и переходил не то чтобы к обобщениям, а скорее к разговору, очищенному от социально-бытовых наслоений, от конкретности жизни вообще, и показывал человека как чистую экзистенцию.
Вот это и было важно. Бэмс у портала говорил о том, что хотел бы затеряться между двух нот Дюка Эллингтона. Где располагалась эти две ноты? Уж, конечно, не в той кухне, где так достоверно чистили яйца и готовили салат оливье, неизменную составляющую любого праздника в советские времена. Можно сказать, что они располагались в душе у скромного советского инженера. А можно сказать, что в этом спектакле главным превращением Бэмса было то, что в определенный момент он переставал быть советским инженером и становился поистине свободным человеком, существующим в некой экзистенциальной реальности. Она не решала всех внутренних проблем личности, но зато помогала уйти от быта, от политики, от идеологических споров и конфликтов, от социального измерения вообще. Васильев пытался прорваться к человеку вне его связи с политическим режимом, с фасоном одежды, размером зарплаты и так далее.
В спектакле разговор шел о свободе, о праве знать и любить, как тогда выражались, буржуазного художника Пикассо, носить узкие стиляжьи брюки и ботинки на «манной каше». О конфликте с комсомольским активистом Ивченко (Э. Виторган), который и в более поздние времена сделал неплохую карьеру, став проректором того института, где они с Бэмсом когда-то учились. Тогда это было актуально. Коллизия быть советским конформистом или занимать противоположную позицию, утверждая свою свободу, пусть она даже выражается в скромном желании носить экстравагантную одежду и слушать джазовую музыку, эта коллизия была понятна каждому, кто хоть как-то задумывался о жизни в стране под названием Советский Союз. Быть левым, как тогда говорили, иметь антисоветские взгляды, не любить страну, в которой живешь,–это был очень распространенный комплекс переживаний в среде интеллигенции. Именно этим комплексом настроений отличался герой спектакля Бэмс. Но что характерно, Васильев ставил «Взрослую дочь» не для того, чтобы провозгласить правоту Бэмса и осудить его оппонента Ивченко. Нет, Васильев был далек от прямолинейных идеологических противопоставлений. К финалу спектакля он снимал идейный спор двух героев и отправлял их в кино, желая показать, что все подобные споры остались в прошлом. А сейчас, уже в 70-е годы, эти споры не актуальны.
Отход от социального театра шестидесятников, от рассмотрения взаимоотношений между личностью и социумом, вообще резкий отход от социальности как основополагающей характеристики человека и заявил себя во «Взрослой дочери». Этот спектакль Анатолия Васильева вошел в историю театра благодаря этому обстоятельству.
Социальность конфликта «Взрослой дочери» привела бы к подчеркнутому противостоянию героев из разных лагерей, Бэмса и Ивченко. Тогда спектакль, предположим, получился бы о «прогрессивном» борце за свободу Бэмсе и «ретрограде» Ивченко. Но Альберт Филозов не играл «борца». А Эммануил Виторган не играл «ретрограда». Славкина, автора пьесы, и Васильева, постановщика спектакля, нельзя было обвинить в тенденциозности.
Когда Бэмс произносил свой знаменитый монолог о том, что хотел бы затеряться между двух нот Дюка Эллингтона, он был похож скорее на поэта с тонкой, светлой, лирической душой, а вовсе не на общественного обвинителя.
«Взрослая дочь молодого человека» и заканчивалась тем, что конфликт между Бэмсом и Ивченко разрешался словно самой жизнью, которая мудрее нас и не может быть уложена в жесткие идеологические схемы.
Вот этот уход от идеологии шестидесятых и обнаруживал в Анатолии Васильеве представителя следующего поколения. Художника, больше интересовавшегося внутренним миром человека и его взаимоотношениями с окружающими, а не его идеологической борьбой. Чуть позднее, в спектакле «Серсо», Васильев эту борьбу назовет «советской коммунальностью», от которой тоже захотят уйти его герои.
С Васильевым многие могли бы тогда поспорить. Потому что в советской реальности проблема конформизма и нонконформизм была актуальной еще очень долгое время. Если бы эта коллизия исчезла, рассосалась, тогда не надо было бы устраивать перестройку, а потом вообще свергать советский режим. Что его свергать, если он уже трансформировался изнутри и погасил все прежние острые противоречия? С позиций критики и отрицания советского режима в те годы выступали Лев Додин, Кама Гинкас. У Васильева была другая позиция. Не потому, что он был конформистом и готов был согласиться на идеологическое давление со стороны системы. Просто он из этих споров уже тогда, в 70-е годы, выходил, они, очевидно, не казались ему важными. Он не вставал на сторону ни левых, ни правых, ни конформистов, ни нонконформистов, он знал другое измерение конфликтов, другую сферу, в которой располагается человек. Эта сфера, по его логике, была сферой внутренней. Той, которая и диктовала прежде всего то или иное самоощущение человека. Можно сказать, что это была внутренняя сфера художника, знающего иные радост, живущего иными настроениями, чем настроения идеологической и политической борьбы.
Ведь и Бэмс был если не в прямом смысле художником, то, во всяком случае, художественной натурой, и его чувство музыки, джаза было утонченным чувством подлинной артистической личности. Именно это утонченное чувство музыки, ритма и было главной характеристикой героя Альберта Филозова. Полнее всего он раскрывал себя именно с этой стороны.