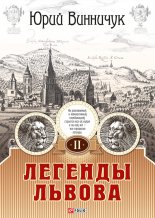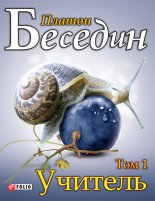Александр Галич. Полная биография Аронов Михаил
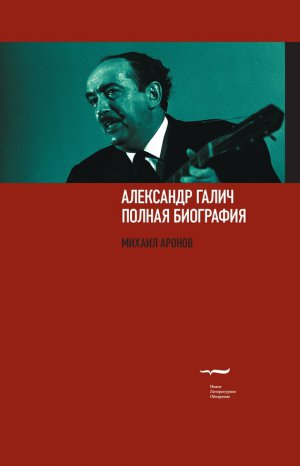
Аналогичная судьба постигла и фильм о Шаляпине. В феврале 1971 года начались актерские пробы, а 25 июня председатель Госкино Алексей Романов издал приказ о запуске в подготовительный период полнометражного цветного фильма «Слава и жизнь». В третьем пункте приказа говорилось: «Главному управлению художественной кинематографии установить киностудии им. Горького объем затрат на производство двух полнометражных художественных фильмов “Слава и жизнь” и “Последнее целование”, переходящих на 1973 год, в сумме 1800,0 тыс. руб. (в отпускных ценах)»[1145]. Однако вскоре выяснилось, что «объем работ по представленным режиссерским сценариям картин “Слава и жизнь” и “Последнее целование” значительно превышает стоимость, установленную приказом Кинокомитета от 25 июня 1971 года (№ 363) на производство этих картин»[1146]. В результате 22 октября 1971 года директор Студии имени Горького Г. Бритиков, ссылаясь на письмо председателя Госкино Романова от 18-го числа, распоряжается все работы по фильму о Шаляпине прекратить, а Марку Донскому предписывает вернуться к исполнению обязанностей художественного руководителя 1-го творческого объединения Студии имени Горького[1147]. Этим документом заканчивается дело фильма «Федор Шаляпин», хранящееся в РГАЛИ, но не заканчивается история с его постановкой.
Узнав, что работы по производству фильма свернуты, 15 декабря 1971 года Марк Донской обращается с письмом к «лично к Леониду Ильичу», где просит его оказать содействие в финансировании картины: «Зарубежные фирмы, узнав, что я собираюсь делать фильм о Шаляпине, не замедлили предложить свои услуги на совместную постановку. Я отказался, так как считаю, что такой фильм нужно делать только в нашей стране.
И вот сейчас, когда сценарий закончен и проведена большая подготовительная работа, назрела необходимость запуска их в производство, я столкнулся с трудностями.
Комитет кинематографии и дирекция Студии им. М. Горького доброжелательно относятся к осуществлению этих сценариев, но на постановку “Федора Шаляпина” могут выделить 1 миллион 800 тысяч, а по расчетам на производство этих двух картин необходимо 2 миллиона 800 тысяч и 150 тысяч иностранной валюты.
Нельзя, не имеем права бедненько делать эти фильмы, тем более что хочу показать миру величие искусства нашей Родины, интеллектуальный уровень народа нашего. <…> Я убежден, что доход от этих двух фильмов даст государству во много раз больше средств (а также валютных поступлений), чем я прошу на их постановку. <…> Я был бы весьма благодарен, если б у Вас нашлось время для личной беседы»[1148].
Через три недели на это письмо поступил ответ в виде «Справки Отдела культуры ЦК КПСС по поводу письма М. Донского Л. И. Брежневу» от 7 января 1972 года: «Кинорежиссер М. С. Донской просит оказать содействие в увеличении ассигнований на постановку фильма “Федор Шаляпин”.
Как сообщил Комитет кинематографии при Совете министров СССР (т. Баскаков В. Е.), в настоящее время М. С. Донской работает над созданием фильма о Н. К. Крупской. Вопрос об ассигнованиях на постановку картины “Федор Шаляпин” может быть рассмотрен только при составлении плана производства фильмов на 1973 год и в том случае, если автор представит новый вариант сценария, который по своим идейно-художественным качествам будет признан годным для постановки.
Что касается содержащейся в письме просьбы о беседе, то считали бы целесообразным рассмотреть ее также несколько позже, после окончательного решения вопроса о постановке фильма, посвященного Ф. И. Шаляпину.
Ответ М. С. Донскому сообщен»[1149].
Как видим, прямой связи с исключением Галича из Союза писателей нет, и даже после его исключения из Союза кинематографистов предпринимались попытки возобновить съемки. Какой-то американский меценат, один из многочисленных зарубежных поклонников Галича, которые появились после его поездок в Париж в первой половине 60-х годов, предложил проспонсировать постановку фильма. Галич был этому, конечно, рад, но разве от него зависело принятие окончательного решения? Пришлось ему порекомендовать меценату обратиться к тогдашнему министру культуры Фурцевой, которая ответила отказом. Положение попытался спасти Марк Донской — мол, фильм хорошо бы снимать и в Париже, и в Америке… «Все отлично можно снять и в Риге», — отрезала Фурцева[1150].
Чтобы спасти положение, было решено изъять из титров фамилию Галича, который находился в опале: «Когда фильм закрыли, — рассказывает Алена Архангельская, — Марк Семенович спросил у папы разрешения, в надежде, что ему разрешит Фурцева фильм доснять, он просил разрешения снять авторство Галича. Он сказал: “Саша, ну ты деньги уже получил. Я тебе потом отдам тиражные. Давай, чтобы фильм все-таки пошел”. И отец пошел на это, то есть он разрешил Донскому написать как бы под его именем»[1151].
В августе 1972 года Владимир Ямпольский по командировке прибыл из Якутии в Москву, а незадолго до этого ему попался на глаза выпуск газеты «Известия», в котором сообщалось о начале съемок двухсерийного фильма «Федор Шаляпин» по сценарию Галича. Ямпольский обрадовался — решил, что Галич теперь не останется без работы. Однако, как только он начал поздравлять Галича с началом съемок и назвал фамилию Донского, Ангелина Николаевна его прервала: «Володя, “Марк Донской” произносить в нашем доме запрещается. Табу». Когда она ушла к себе в комнату, Ямпольский спросил у Галича, что произошло. Тот ответил: «“А ничего не произошло и не произойдет. Одна морока”. — “Так что, фильма не будет?” — “Не будет”. И Галич рассказал мне, что Марк Донской сначала предложил себя в соавторы (и Галич согласился), затем вообще объявил автором себя (Галич и на это согласился), затем долго морочил Александру Аркадьевичу голову какими-то условиями и оговорками, а вскоре и вовсе ушел от постановки фильма»[1152].
Когда стало ясно, что фильм не состоится, к Галичу обратились представители итальянского телевидения и даже сын певца, киноактер Федор Федорович Шаляпин, с просьбой продать сценарий и возобновить производство фильма, однако сценарий Галичу был уже недоступен. В результате фильм так и не был снят.
Почти 30 лет сценарий пролежал на полке и впервые был опубликован лишь в 1999 году[1153] — он представляет собой один из ранних режиссерских вариантов Марка Донского, а сколько в нем осталось от участия Галича, можно только догадываться. Вообще же, в РГАЛИ в фонде Марка Донского хранятся свыше двадцати вариантов сценария о Шаляпине — с 1967 по 1970 год. Все они еще ждут своего исследователя.
Не состоялась и другая киноработа — фильм «Самый последний выстрел», сценарий к которому в 1971 году написал режиссер Яков Сегель, давний друг Галича. Начальство ему внезапно объявило, что режиссер не может писать сценарии для своих же фильмов, а Сегель писал прозу, и в театрах шли его пьесы. На помощь решил прийти Галич: дописал к сценарию две страницы и поставил свою фамилию. И вроде бы все пошло нормально — сценарий запустили в производство, выделили деньги, режиссер поехал в Закарпатье искать натуру для съемок, и ее утвердили, но… картину закрыли, потому что там стояла фамилия Галича, уже исключенного к тому времени из СП.
Как же в этой ситуации поступил Галич? «Он проявил поразительное благородство, — вспоминает Сегель, — и, понимая, какую угрозу он представляет сейчас для фильма и для моей судьбы, написал письмо на студию, в котором было сказано, что он не принимал участия в этом сценарии, сценарий написан Сегелем, а он, так сказать, только подумал, поговорил по этому поводу и только дал свое имя. То есть он написал все, как было на самом деле. Это письмо прекраснейшим образом на студии потеряли и не могут найти»[1154].
Дополнительные детали приводит Нина Крейтнер. По ее словам, когда Галича уже исключили изо всех союзов, «Сегель пришел к драматургу Коростылеву и сказал: “Подпиши песни Галича в моей картине, давай свою фамилию. Получишь деньги и потом ему отдашь, потому что же надо на что-то жить”. Коростылев сказал: “Конечно, только пиши три письма одинаковых, и чтобы одно было у Галича, одно у тебя, одно у меня, в котором было бы написано, что это стихи Галича, а не мои, а то они войдут в полное собрание сочинений Коростылева”. Что и было сделано»[1155].
К многочисленным творческим запретам Галич старался относиться философски. Расстраивался, конечно, но воспринимал их как неизбежное зло. Ксения Маринина объясняла это так: «Он же, понимаете, не ходил потом и не добивался. И не доказывал ничего. Запретили — значит запретили. Это очень огорчительно, конечно. Ничего хорошего в этом нет. Но, во всяком случае, он не продолжал эту тему. Мне еще казалось, потому что он считал, что это, так сказать, нарушение какого-то его собственного достоинства. <…> Иногда он говорил: “Не пойду же я попрошайничать”. “Саш, ну и что там сказали?” — пытаешься у него узнать. “Ну, сказали”, — особенно не рассказывал. “Ну, пойдет пьеса (или фильм, там) или нет?” — “Да нет, наверное”. — “Ну, ты пойди, поговори, что к чему”. — “Ну что я, попрошайничать пойду, что ли?”»[1156]
А познакомилась Маринина с Галичем еще в конце 40-х годов: «Он даже был моим учителем. Когда меня первый раз пригласили после окончания Театрального училища имени Щепкина играть Зою Космодемьянскую, мне сказали, что моим режиссером будет Саша Галич. Это была наша первая встреча»[1157].
После исключения Галича неприятности коснулись и его дочери Алены, причем начались они еще в 1968 году, сразу же после Новосибирского фестиваля. Тогда Алена была вынуждена уйти из Театра имени Моссовета, куда получила распределение после ГИТИСа, и, поскольку ее объявили персоной нон грата и запретили работать во всех крупных городах, уехала в Ярославль, где устроилась в Театр имени Волкова. Через некоторое время ее вызвали в местное отделение КГБ и заявили: «Вы занимаете в нашем театре ведущее положение. Вы должны прописаться в Ярославле»[1158]. Но когда Алена посоветовалась со своей мамой, та ей сразу сказала: «Что хочешь, делай, только сохрани московскую прописку!» И Алена послушалась ее, сказав сотрудникам КГБ, что уходит из театра, а те сразу: «Да вы что? Мы вам квартиру дадим!»[1159] Но Алена отказалась и вернулась в Москву, где в 1969 году устроилась на работу в музыкально-драматическом ансамбле под руководством Надежды Аксеновой-Арди (жены Всеволода Аксенова — известного актера и чтеца).
Весной 1972 года в Москонцерте отказались продлить с Аленой контракт на ее работу в музыкальном ансамбле и заявили: «Дочери диссидента здесь делать нечего»[1160]. После этого она пыталась устроиться в московские театры под другой фамилией (Сафонова), но безуспешно. Не помог и никто из именитых кинематографистов: «Вчерашние друзья-режиссеры, которые на словах обещали помочь, отвернулись первыми. Теперь это знаменитые люди, которые на каждом шагу рассказывают о том, как боролись с режимом… Потом я узнала: было распоряжение — не давать мне работать ни в Москве, ни в больших городах»[1161]. Отец же, узнав об этом, сказал ей: «Извини, это из-за меня»[1162]. Обсудили сложившуюся ситуацию, и когда Алена сказала, что уезжает из Москвы на периферию, Галич с этим согласился.
Алена уехала на три месяца во Владимир и вскоре в одном из местных театров начала репетировать роль в спектакле «Дело, которому ты служишь» по роману Юрия Германа (того самого, для которого была написана «Леночка»). На генеральную репетицию приехал Галич с друзьями. «Там есть сцена с журналистом, когда Варвара находится в экспедиции, — вспоминает Алена. — Он делает ей предложение. Сцена не шла, была какая-то неискренняя. Я была одета щеголевато, выглядела эффектно. Отец сказал: “Не сможешь правильно играть. Если ты не чувствуешь чужую боль, ты не имеешь права выходить на сцену”. Подсказал, что одежда мешает мне сыграть искренне. Пошли в костюмерный, нашли обрезанные валенки, ковбойку. Вид стал другой, и сцена пошла»[1163].
Потом Алена вернулась в Москву. Были разные предложения, и среди них прозвучал совет Михаила Львовского: «Лучше тебе уехать в республику»[1164]. Сначала Алена хотела уехать в Вильнюс по приглашению одного из местных театров, но вскоре этот вариант отпал, поскольку главный режиссер театра женился на немке и уехал в Германию, да и общежитие в качестве места проживания ее не устраивало. Тогда Алена выбрала Киргизию и уехала во Фрунзе (Бишкек). Там тоже не знали, что она дочь опального поэта Галича, и поэтому не спрашивали, кто ее родители. Алена сумела устроиться в русский театр и играла в спектаклях главные роли.
Сам же Галич никуда уехать не мог — ему и в других городах не дали бы прописаться и устроиться на работу. Пришлось остаться в Москве. Нищенской пенсии в 54 рубля явно не хватало. Знакомые звонили и интересовались: «На что ты живешь, Саша?»[1165] Доброжелатели спрашивали сочувственно, а недоброжелатели — со злорадством. Галич им всем говорил, что работает книгоношей: у него была превосходная библиотека, которая теперь оказалась спасением — он начал продавать свои книги, среди которых было много раритетов. Приходилось даже продавать одежду. Владимир Войнович несколько раз был свидетелем сцены, когда Галич выходил из своей квартиры, а Ангелина Николаевна, трагически возводя глаза к потолку, говорила: «Саша пошел продавать последний костюм». Причем, по словам Войновича, Галичу было неприятно, когда она это говорила[1166].
Более того, власти даже предприняли попытку выселить Галича из квартиры, но эта попытка провалилась. Его соседка по улице Черняховского Елена Веселая рассказывает, что «по подъездам ходила парочка активистов с характерной гэбэшной внешностью: молодой человек с мышиными волосами и усиками и пышногрудая приземистая блондинка — они собирали подписи жильцов под просьбой о “выселении аморально ведущего себя члена ЖСК Галича А. А.”. В квартире над Галичем жила красавица Белла Ахмадулина, и у нее активисты не смогли добиться свидетельств аморальности соседа — поэтому пошли по квартирам. Мама ничего не подписала, да, кажется, и дверь не открыла — ну, не нравились ей молодые люди с мышиными волосами…»[1167]
Через несколько лет, когда Галич уже уехал, квартира № 37 по улице Черняховского стала собственностью Ахмадулиной, и она часто вспоминала о ее прежнем владельце…[1168]
Когда в середине 60-х Галич последний раз съездил в командировку в Париж, писатель Луи Арагон подарил ему несколько предметов из наполеоновского сервиза. И теперь злые языки, знавшие про этот сервиз, говорили: «Ничего, продашь тарелочку, будет на что жить»[1169]. Так и пришлось сделать: хотя Галичи и жили в достатке, но сбережений на черный день не скопили[1170]. Дома у них было много антиквариата, который Александр Аркадьевич покупал в ту пору, когда еще был преуспевающим драматургом. И вот теперь им было что продать, чтобы купить жизненно необходимое.
Страдая от безденежья, Галич решил затребовать гонорары у зарубежных радиостанций, которые крутят в эфире его песни, а также у всех, кто печатает его тексты за рубежом. И вскоре в журнале «Посев» появилась короткая, но очень выразительная заметка:
Настоящим доводится до сведения всех зарубежных русских книгоиздателей, редакций газет и журналов, а также всех иностранных издательств, что публикации произведений поэта А. Галича (или их переводов), будь то по самиздатовским публикациям их, будь то по записи с магнитофонных лент, могут происходить только с разрешения находящегося за границей полномочного представителя автора. То же относится к производству пластинок с песнями А. Галича и использованию этих песен в радио- и телепередачах.
Полномочный представитель поэта А. Галича просит всех, кто печатал произведения поэта А. Галича или переводы этих произведений, будь то отдельными книжками, будь то в сборниках и периодических изданиях, а также всех, кто использовал радиозаписи песен А. Галича в радио- или телепередачах, сообщить, когда, где и какие произведения были опубликованы или переданы в эфир, а также указать сумму авторского гонорара.
Полномочный представитель поэта А. Галича заранее благодарит за выполнение его просьбы, изложенной в этом оповещении.
Писать по адресу: Agence Hoffman; 77, Bid. St. Michel; F. 75 Paris 5.
Литературное агентство Hoffman[1171]
Тем временем, чтобы не сидеть без дела, Галич сумел найти неофициальную работу. Он любил повторять: «Я работаю за негра». Его дочь Алена сначала не могла понять, что это значит, а Галич объяснял: «Ну, присылают сценарии с “Узбекфильма”, я их довожу до кондиции, а взамен получаю деньги»[1172]. Помогали и друзья — также приносили какие-нибудь сценарии про трактористов и колхозы, Галич под чужим именем их переделывал (в этом ему помогала Ангелина Николаевна, окончившая в свое время сценарный факультет ВГИКа) и получал за это деньги. А если верить Григорию Свирскому, то отец Ангелины Николаевны, «старый большевик, а затем, естественно, многолетний зэк, который любил Галича, каждый месяц отрезал им сотенную от своей персональной пенсии в 250 рублей»[1173].
Кстати, по поводу одного из таких сценариев забавную историю рассказал кинорежиссер Юрий Решетников: «Ему прислали очередную бредятину, где ничего нельзя было понять. И Галич говорит: “Я чувствую: там что-то есть”. Я говорю: “Чего?” Наконец, он говорит: “Я однажды разгадал: там же, в общем, Гамлет и Офелия, потому что она его любит, он ее не любит, а она любит трактор”. В общем, он сделал страшную историю: оставив среднеазиатские имена, написал им “Гамлета”. Они были в полном восторге»[1174].
Не остались равнодушными и рядовые поклонники творчества Галича. Узнав о бедственном положении любимого поэта, они старались в меру сил ему помочь. Известный коллекционер и издатель бардовских песен Рувим Рублев вспоминает: «Наши питерские коллекционеры отнеслись к его положению с большим участием. Стал широко известен московский адрес Галича, и к нему двинулись первые “паломники”. Предварительно производился сбор средств по принципу “кто сколько может”, затем, вооружившись портативным магнитофоном, какой-нибудь очередной энтузиаст отправлялся “в Москву за песнями”. Александр Галич принимал у себя всех без исключения и совершенно безбоязненно. После некоторых расспросов щедро угощал и чаем, и песнями, разрешая записывать их безо всяких оговорок. Ни о каких деньгах он, конечно, слышать не хотел, поэтому их старались “забыть” где-нибудь в укромном месте в гостиной или тайком сунуть в карман его пальто в передней»[1175].
Дополнительным источником доходов стал тайный фонд помощи опальным литераторам, организованный Алисой Лебедевой, женой академика Сергея Лебедева, одного из создателей отечественной ЭВМ. Академики (сам Лебедев, а также Петр Капица и другие) ежемесячно скидывались по сто рублей, которые Алиса Григорьевна анонимно пересылала по почте нескольким бедствующим писателям — Галичу, Дудинцеву, Солженицыну и Войновичу. Эта помощь просуществовала в течение двух лет — потом власти ее прикрыли.
Якутским поклонникам песен Галича также удалось организовать денежную помощь. Инициатива в этом деле принадлежала Владимиру Ямпольскому, который был по профессии архитектором-строителем и окончил в свое время Московский инженерно-строительный институт. В 1968 году волею судьбы он оказался в якутском городе Мирном, и поскольку «глушилок» на радио там не было, то он без проблем записывал на магнитофон песни Галича, транслировавшиеся практически всеми «вражескими голосами», и давал слушать своим знакомым.
Летом 1970 года друзья сообщили ему, что будто бы Галич умер, и сказано это было с такой уверенностью, что Ямпольский тут же купил билет и прилетел в Москву. Узнав телефон Галича, он позвонил ему и с облегчением узнал, что слух этот ложный. А на следующий день пришел к Галичу в гости и познакомился с ним. Песни Галича и его личность произвели на Ямпольского настолько сильное впечатление, что позднее он написал в своих мемуарах: «Если бы Галич был священником, я бы наверняка стал верующим»[1176].
В августе 1972 года, уже после всех исключений Галича, Ямпольский в очередной раз прилетел к нему и предложил материальную поддержку: «Я, набравшись смелости, спросил: “Александр Аркадьевич, а как вы отнесетесь к тому, что мы учредим вам Якутскую стипендию? Мы с ребятами не раз об этом говорили”. Галич помолчал. Прошел по комнате. Глаза грустнющие!.. Сказал негромко: “Ну что ж, Володенька, дела у меня хреноватые. Выпендриваться не буду…”»[1177]
Размер стипендии определили в 200 рублей. В Москве в это время находились еще два «якутянина», которые вместе с Ямпольским собрали первую стипендию и передали Галичу. С тех пор каждый месяц восемь разных людей (чтобы не вызвать подозрение у властей) передавали с оказией Галичу деньги. Одним из курьеров должен был стать Вячеслав Лобачев, но справиться со своей задачей ему не удалось — по причине плотной слежки со стороны ГБ: «Последним связным оказался я. Меня направили на курсы повышения квалификации в Москву. Наследующий день я звоню Александру Аркадьевичу с домашнего телефона. Вот этот номер: 157-ХХ-53. (Он действующий, сейчас там живут другие люди.) В ответ — короткие гудки. Тогда я пробую звонить из автомата. Никто не поднимает трубку. Промаявшись несколько дней, решил ехать к нему без предупреждения. Метро “Аэропорт”. Арка. Подъезд. В нем меня встречают два бритоголовых парня в одинаковых серых костюмах. “Вы к кому?” — почти синхронно спрашивают они. Мгновенно схватываю ситуацию и действую согласно инструкции. “Я, кажется, ошибся подъездом…” Мы с Володей [Ямпольским] обсуждали разные варианты посещения семьи Галича, в том числе и такой. Я не должен был оказаться в руках инквизиции: не имея опыта общения с этой организацией, я мог потянуть за собой всех северян. Таким образом, моя миссия оказалась невыполненной»[1178].
Похожую ситуацию описывает и сам Ямпольский, но, по его словам, она произошла с другим «связным»: «Один из наших последних “курьеров”, сосед Галичей по улице, Юрий Федорович Шинкевич, рассказал мне как-то, что осенью 1973 года в подъезде Галича к нему довольно плотно привязался рослый дядя и стал выяснять, куда Юра направляется»[1179].
Стипендия просуществовала около года — до осени 1973-го. Потом власти ее прикрыли, а на Владимира Ямпольского было заведено уголовное дело[1180].
Вместе с тем, несмотря на свое положение, Галич находил возможность делиться с нуждающимися людьми. В начале 1970-х он часто болел и лежал в постели. Поднимался главным образом для того, чтобы продать книги. Отказывался принять денежную помощь от своих близких друзей Аграновских. «Я еще и сам могу помочь», — сказал им, когда раздался звонок в дверь. Ангелина Николаевна, с кем-то поговорив, вошла в комнату, достала из письменного стола конверт с деньгами и обратилась к Аграновским: «Это для семьи Н. Сашенькины носильные вещи я уже отдала, а это денег немного… У вас нет ли с ребят одежды, из которой они выросли, там как раз двое парнишек?»[1181]
Хотя в течение примерно двух лет после своего исключения Галич был худо-бедно обеспечен материально, но резко изменилась сама атмосфера вокруг него. Незадолго до этого Михаил Львовский, к тому времени уже не раз испытавший на себе «отключение кислорода», пророчески предостерегал своего друга: «Ты останешься один. Вдруг замолчит телефон, и те, кто носил тебя на руках, будут прятать глаза при встречах». Галич похлопал Львовского по плечу и уверенно сказал: «Нет, брат. Не те времена. Меня физики не дадут в обиду. Они меня любят. А физики, знаешь, — сила!»[1182]
Тогда же Львовский спросил Галича, на что он существует. Оказалось, продает книги и вещи. Причем началось это все уже в конце 60-х! Так, например, 6 января 1969 года Галич записывает в своем дневнике: «Хозяйственные дела — рынок и прочее. Кончил правку для Л. Пинского. Впрочем, надо еще записать — “Футбол” и “Вечный огонь”… Вечером забегал Пинский. Но вечер был тихий и почти благостный. Так как продалось мое пальто — то мы нынче пировали»[1183].
Жуткая деталь, но вместе с тем и беспощадно характеризующая эпоху.
«Хочешь, я тебя прикрою? — предложил Львовский. — У меня бывает работа на “Мосфильме” и студии Горького». На это Галич ответил категорическим «нет!» — по той же причине, по которой отказался от работы над сценарием о Штраусе.
Теперь, после исключений, предсказание Михаила Львовского сбылось. Реже стал звонить телефон, от Галича отвернулись многие друзья и знакомые. Если раньше его дом всегда был полон гостей, то теперь там собираются лишь самые преданные люди. Даже родной брат Валерий отказывается принимать у себя опального родственника и, более того, обращается с соответствующим письмом в КГБ (со слов Алены Архангельской): «Я, Гинзбург Валерий Аркадьевич, как заместитель парторга киностудии им. Горького, лауреат Госпремии СССР, сообщаю, что к творчеству своего брата Александра не имею никакого отношения. Характер наших отношений ограничен исключительно семейными делами»[1184].
Вскоре после исключения Галича из СП ему позвонили или зашли проведать домой, где он лежал с сердечным приступом, Владимир Максимов, Юрий Домбровский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Лев Копелев, Раиса Орлова, Александр Шаров и еще несколько человек. Навестили Галича и его давние друзья-драматурги Исай Кузнецов и Авенир Зак. «Жена Галича выглядела больной, возбужденной, — вспоминал Кузнецов. — Она обрадовалась нашему приходу, сказала: “Как хорошо, что вы пришли, Саше это так нужно, так нужно!” Галич — вид у него был совершенно больной — сидел за столом. Он не писал, не читал, просто сидел задумавшись. Мы заговорили о заседании секретариата. Меня интересовало поведение Арбузова. Волновало оно и Галича. Арбузову когда-то мы посвятили свою пьесу…»[1185]
Когда Галича исключили из Союза кинематографистов, тоже было много звонков поддержки в его адрес. Один из них принадлежал писателю Борису Носику, который посещал сценарную мастерскую Галича: «Робкий от природы, я все же позвонил ему в тот вечер. Какая-то женщина сказала, что учитель не подходит, но спросила, что я хочу ему передать. Я сказал, что мы его любим и чтоб он наплевал на “их кино” и на “их союз”»[1186].
Не прекратили общение с Галичем Станислав Рассадин, Андрей Гончаров, Михаил Львовский, Валентин Плучек, Михаил Швейцер, Николай Каретников, Бенедикт Сарнов, Семен Липкин[1187]… Активную поддержку оказывали и физики — Андрей Сахаров, Петр Капица, Виталий Гинзбург и другие: устраивали домашние концерты, на которых собирали деньги, и вообще старались всячески помочь.
Не предавали Галича и рядовые поклонники его творчества. Автор-исполнитель Игорь Михалев вспоминал об одном из своих выступлений, состоявшемся вскоре после исключения Галича: «На одном из концертов, причем в Москве, когда я спел несколько песен Александра Аркадьевича, мне прислали записку: “Что с Галичем?” (он только что перенес инфаркт). Я объяснил, что сейчас уже ничего, а вообще-то, худо ему по всем направлениям. Зал (а он был, ясное дело, разношерстный) встал. Все. Как один. Я даже не ожидал такого. И была какая-то минута… нет, не молчания — преклонения перед талантом и мужеством человека»[1188].
Более того, Александр Мирзаян утверждает, что в 1972 году Валерий Абрамкин, который в середине 1960-х был одним из инициаторов создания московского КСП, устроил за городом слет самодеятельных авторов, целиком посвященный творчеству Галича! И собралось на него несколько тысяч человек — конечно, не столько, сколько бывало на обычных слетах (многие участники опасались нежелательных для себя последствий), но все-таки…
С самим Галичем Мирзаян познакомился лишь в конце 1973 года и тогда же пересказал ему всю эту историю, о чем стало известно из интервью Мирзаяна, которое он в 2008 году дал для фильма «Без “Верных друзей”», правда в сам фильм это фрагмент не вошел: «…пели через микрофоны танковые. Приносили танковые батареи, свет ставили и звук ставили. Все это озвучивалось. А иначе как петь перед столькими тысячами людей? Ты же без микрофона ничего не сделаешь, да? Вот на танковых батареях, народ привозил. И все это озвучивалось, освещалось. И потом обсуждения были около костров. И два дня вот такой слет — суббота и воскресенье. Когда я ему это рассказал, он на меня посмотрел. Была такая мхатовская пауза. Он мне говорит: “Саш, вы ничего не путаете?” Я говорю: “Александр Аркадьевич, Вы что, хотите сказать, что этого не было?” То есть насколько круги не перемешивались, да? И такое событие, в общем-то, ну, в культуре, во всяком случае, мне кажется, это историческое событие. Несколько тысяч человек собралось на посвященный творчеству Галича слет. Он об этом ничего не знал. Когда я это пересказывал всё, он был просто в шоке: “Слушай, да это надо, это надо… Нюша, Нюша! Ты представляешь?! Послушай, что Саша рассказывает!” Она тоже не могла в это поверить. И он говорит: “А и Вы что-то пели?” Я говорю: “Да, и я пел”. — “Что Вы пели? Свое?” Я говорю: “Нет, Ваши песни. Слет же Вам посвящен”, то есть все пели песни Галича»[1189].
Рассказ Мирзаяна подтверждает публикация журналиста Валерия Хилтунена, в 70-е годы работавшего обозревателем «Комсомольской правды». Он пишет, что этот и многие другие слеты КСП открывал популяризатор авторской песни Дмитрий Дихтер, и рассказывает о реакции властей на слет, посвященный опальному барду: «С текстами Галича КСПшники лишь иногда баловались — и всякий раз нарывались на дружный отпор Системы. Поставили в своем лесном подзвездном театре его музыкальную пьесу о Корчаке — и невольно запустили такой сыр-бор в Кремле и на Старой площади. На заседании Политбюро Гришин, наседая на не любимого им Андропова, бубнил о том, что КГБ в очередной раз что-то там такое проворонил, не предупредив партию и страну о каких-то надвигающихся ближневосточных катаклизмах. На что разозлившийся шеф жандармерии сказал, как отрезал, что вместо того, чтобы совать нос в чужую епархию, Виктору Васильевичу следовало бы проследить за тем, что делается под носом у его МГК КПСС. Несметные толпы молодых подпольщиков уезжают на электричках в подмосковный лес, зажигают сотни, а может, и тысячи костров, заговорщически садятся спиной к партии и комсомолу и — о ужас! — Галича поют! Политбюро по четвергам заседало, а уже в пятницу по столичным вузам бегали взмыленные инструкторы райкомов ВЛКСМ, собирая объяснительные: как это студенты А., Б., В. и даже отличник Щ. могли дойти до антисоветского со-пения у ночных костров. А из “Комсомолки” в те дни чуть не выгнали талантливого корреспондента студенческого отдела Мишу Хромакова, поместившего с того слета КСП вполне благожелательный репортаж»[1190].
В феврале 1972-го эмигрирует писатель Григорий Свирский вместе с женой Полиной. «Звонил-чертыхался Галич: болеет, а проститься с ним не пришли. — Вы что, думаете, я ссучился? — Схватили из цветочницы букет подснежников, побежали к нему»[1191]. Вопрос Галича становится понятным, если знать, что незадолго до этого звонка Свирский не дал Галичу прочесть рукопись своей книги «Заложники», опасаясь, что тот начнет расхваливать ее вслух и об этом узнает ГБ: «Давал читать самым близким. Друзьям Полины, Юре Домбровскому, Александру Беку… Даже Галичу не дал, люто обидев его этим. Галич пил зверски, а что у трезвого на уме, у пьяного на языке. В списочке, который набросал, помнится, было девять душ»[1192]. Самому же Галичу Свирский причины не объяснил, и после того, как он вдобавок забыл сообщить еще и о своем отъезде, Галич решил, что ему не доверяют. Этим и объясняется его возмущенный вопрос: «Вы что, думаете, я ссучился?».
Выше всего Галич ценил дружбу. И как же он реагировал на предательства друзей и близких, многие из которых, опасаясь нежелательных для себя последствий, теперь не замечали его в упор, а при случайных встречах перебегали на другую сторону улицы?
По свидетельству его дочери Алены, он реагировал на это внешне спокойно и в высшей степени интеллигентно: «Я возмущалась, когда люди не здоровались с отцом, не отвечали на приветствие. Я начинала орать: “Зачем ты здороваешься, он же сукин сын!” Отец отвечал: “Человек слаб, у него семья”. Он продолжал здороваться, а я прямо из себя выходила»[1193].
Не лучше была обстановка и в самом писательском доме у метро «Аэропорт», где на втором этаже жил Галич. По словам Станислава Рассадина, «ближайший друг и сосед, который всегда разделял наше застолье, вдруг как-то потерял адрес, и на несколько этажей ему уже спускаться не захотелось»[1194]. Судя по всему, речь идет о соавторе Галича Борисе Ласкине, который жил на четвертом этаже писательского дома (в начале 60-х он жил на третьем, но потом переехал этажом выше). Согласно дневниковой записи за август 1974-го — февраль 1975 года его тестя Ярослава Голованова, жившего на первом этаже, «когда в конце 1971 г. Галича исключили из Союза писателей и он превратился в диссидента, они раздружились: Ласкин — человек верноподданнический, он просто побаивался этой дружбы. У Галича все время толклись разные иностранные корреспонденты, какие-то сидельцы, всякого рода люди, властью обиженные, а Ласкин Бобкова дома принимал»[1195].
Да уж, действительно, одно из двух: либо ты принимаешь у себя начальника Пятого управления КГБ, либо преследуемого им писателя. Хотя некоторые люди — вроде Виктора Луи — прекрасно совмещали и то и другое…
С другой стороны, прямо противоположным образом характеризует Ласкина сценарист Яков Костюковский: «…когда началась травля Галича, Борису Ласкину, его соавтору, просто руки выворачивали, чтобы он его предал, осудил. Это было очень важно… И надо отдать должное Борису Савельевичу, они его не сломали. Он был не самый смелый из моих знакомых и не был диссидентом. Но тут для него, как видно, мужская дружба оказалась святой. И он этого не сделал. И честь ему и хвала, если там есть тот свет, они там встречаются. Саше не в чем Борю упрекнуть, в отличие от других так называемых друзей»[1196].
Однако мы уже знаем, что Ласкин был одним из тех, кто уговаривал Галича написать покаянную записку в Союз писателей, и эта информация вкупе со свидетельством Ярослава Голованова («К моменту моего появления в семье Ласкиных охлаждение в их отношениях уже наступило, что, впрочем, никак не повлияло на наши с ним отношения: Галич любил девчонок Ласкиных с детства»[1197]) дает нам основания подвергнуть сомнению слова Костюковского о том, что для Ласкина «мужская дружба оказалась святой».
В упомянутой дневниковой записи Голованова приводятся и другие любопытные штрихи к портрету Галича: «Когда я заходил к Галичу, то обычно заставал его лежащим на тахте. Он и стихи свои, и все прочее сочинял на тахте, мысленно их редактировал, потом вставал и записывал набело. Помню, что курил он всегда только сигареты “Kent”, а я всегда “стрелял” у него эти сигареты. Где он их доставал, ума не приложу. Наверное, переплачивал спекулянтам»[1198].
Что же касается обстановки в писательском доме, то дело доходило до того, что один из друзей Галича не отвернулся от него, продолжал приходить к нему в гости, даже чем-то помогал, но, когда выходил из его квартиры, надевал войлочные тапочки и спускался в них по лестнице, чтобы никто не услышал…[1199]
Единственным человеком, потом выступившим по телевидению и признавшимся в том, что отвернулся от Галича в начале 1970-х, был Виктор Мережко, который незадолго до этого посещал высшие сценарные курсы под руководством Галича и Гребнева. Когда в 1993 году издательство «Искусство» собиралось выпустить сборник драматургии Галича[1200], Мережко попросили написать воспоминания, но он отказался[1201], сказав дочери Галича: «Алён, я ничего не буду писать об Александре Аркадьевиче, потому что я очень перед ним виноват: я встретил его в арке и не поздоровался»[1202]. Остальные же делали вид, что ничего не произошло, а они, мол, всегда любили и признавали Галича.
Более того, Галич сам не хотел подставлять своих знакомых, и поэтому, например, коллекционеру Михаилу Крыжановскому, сделавшему много качественных записей его домашних концертов, говорил, чтобы тот уничтожил тетрадку с его стихами, убрал подальше пленки и вообще реже заходил в гости, когда приезжал из Ленинграда в Москву[1203]. Но тот, к счастью, его не послушал.
Хотя Галич старался не показывать свои эмоции и умел сдерживать себя (он даже говорил в подобных случаях своей дочери: «Умей держать паузу»[1204]), но в глубине души воспринимал предательства многих друзей очень болезненно и сильно переживал. Об этом догадывались лишь самые близкие люди: «Он умел держать все в себе, — вспоминает его дочь Алена, — и никогда не показывал, как ему больно. Вот никогда. Я только по глазам могла определить, что ему тяжело. По двум вещам. Он обычно сидел нога на ногу. И если он начинал громко отбивать такт ногой, я понимала, что папа нервничает. А если в руках появлялись темно-вишневые янтарные четки, значит, он сосредоточенно обдумывает, какой шаг ему сделать, чтобы это было в правильном направлении, чтобы не было лишних неприятностей. Даже когда его исключили, внешне никто никогда бы не мог догадаться по его поведению, что он переживает, что он в отчаянии»[1205].
Приведем еще на эту тему свидетельство историка Юрия Глазова, который близко общался с Галичем вплоть до своей эмиграции 21 апреля 1972 года: «Образованные москвичи любили Галича, быть может, более, чем кого-либо другого. Он держался просто, в нем отсутствовала гордыня. Его талант ценили и жили им. Но теперь, когда его отовсюду выбросили, меня потрясло, что никто не сказал ни слова в его защиту. Знакомые пожимали плечами, как бы спрашивая: “Что можно сделать против этой напасти?” А когда я упрекнул в бездействии своих друзей-диссидентов, то жена моего друга швырнула мне в лицо гневное: “Крови жаждешь?” Правда, она тут же извинилась, а я понимал, что меня уже занесло. Меня упрекали за то, что я собирался “катапультироваться” за рубеж и мне уже нечего терять. <…> Галич не совсем был готов к испытаниям, выпавшим на его долю. Без боли нельзя было все время смотреть на него. С ним случился очередной сердечный приступ. При своей необыкновенной общительности и при всеобщей любви, которой он был окружен еще несколько месяцев назад, Галич никак не мог привыкнуть к остракизму, никак не ожидал, что число друзей, готовых выступить в его защиту в самый горький час его жизни, будет столь мизерно. <…> Среди моих знакомых многие говорили: “Подумаешь, исключили из Союза писателей! Из этой бандитской организации. Ну и что? Можно только радоваться этому!” Но писателя лишили куска хлеба. Его обрекали на голод, на нищету»[1206].
После очередного инфаркта Галич лежал у себя дома на диване и отчаянно крутил ручки приемника, надеясь услышать хоть что-нибудь о себе. Но зарубежные радиостанции почти ничего не говорили — скажут пару раз и замолчат, видимо, полагая, что этим только усугубят положение Галича, в то время как ему могла помочь именно активная поддержка мирового сообщества. Прекрасно понимая это, Галич почти умолял Глазова: «Юра, сделайте, чтоб сказали несколько слов. Хоть что-нибудь!»[1207] Тот подписал два коллективных письма в защиту Галича[1208], но повлиять на политику западных радиостанций, конечно, не мог.
Именно поэтому Галич не возражал, когда ведущий радио «Свобода» в Лондоне Леонид Владимиров, узнав о его исключении из союзов, позвонил ему домой и попросил интервью: «Сразу же сказал, что звоню со “Свободы” и прекрасно пойму, если он предпочтет не продолжать разговор. “Да нет, пожалуйста, давайте поговорим, — спокойно и грустно ответил Галич. — Еще хуже мне от этого не будет”. Его интервью, в сопровождении согласованных с ним самим песен, передала “Свобода”. А я еще написал о нем статью “Поет Галич, поэт Галич”»[1209]. Эта статья, опубликованная в журнале «Посев» еще до их знакомства, была подписана псевдонимом[1210].
Хотя после исключений Галича многие старые друзья отвернулись от него, но зато он приобретал новых, и каких! О двух из них стоит рассказать подробнее.
Сахаров
Александр Галич, Андрей Сахаров, Петр Григоренко — три человека разной судьбы, жизненного опыта и рода занятий. Но всех их объединяло то, что долгое время они находились на вершине номенклатуры — писательской, академической и военной, — однако, когда пришло время, каждый из них понял, что не может больше молчать. Они пожертвовали благополучной жизнью, лишились всех регалий и наград и серьезно поплатились за свой выбор, но при этом стали для многих людей символом нравственного сопротивления тоталитарному режиму. В 1960-е годы все трое занялись правозащитной деятельностью и вскоре познакомились между собой.
С деятелями искусства Сахарова обычно знакомила его жена, Елена Боннэр. Именно она сводила его со многими поэтами — с Булатом Окуджавой, Александром Галичем, Давидом Самойловым и другими.
Вскоре после исключения Галича из Союза писателей Елена Георгиевна привела мужа к Галичу домой, где и состоялось их знакомство, ставшее началом долгой дружбы. Правда, осенью 1971 года они уже мельком виделись друг с другом — во время заседания секретариата СП 29 декабря 1971 года Галич говорил: «Один раз в жизни я встречался с Сахаровым у общих знакомых физиков»[1211]. Однако полноценное знакомство между ними состоялось уже после исключения.
Сахаров сразу понял, что за внешним «пижонством» и «барством» Галича скрывается мягкий и ранимый человек: «В домашней обстановке в Галиче открывались какие-то “дополнительные”, скрытые от постороннего взгляда черты его личности, — он становился гораздо мягче, проще, в какие-то моменты казался даже растерянным, несчастным. Но все время его не покидала свойственная ему благородная элегантность»[1212].
Во время первого визита к Галичу Сахаров заметил висевший на стене красивый портрет Ангелины Николаевны и стоявший рядом бюст Павла I. Когда он поинтересовался, чем объясняется такой выбор, Галич ему ответил: «Вы знаете, история несправедлива к Павлу I, у него были некоторые очень хорошие планы»[1213].
Вероятно, Галич имел в виду планы императора по проведению некоторых либеральных реформ, то есть того, что лишь через 60 лет удастся осуществить Александру II. По крайней мере, такая информация содержится в книге Натана Эйдельмана «Грань веков». Эту книгу Сахаров прочитал уже в 1980-е годы и согласился с мнением Галича: «Недавно мы с Люсей читали интересную книгу Эйдельмана об эпохе Павла I, в чем-то подкрепившую для нас мысль Галича о некоторой несправедливости традиционных оценок этого человека»[1214].
Вообще к Сахарову Галич относился с огромным пиететом и любовью. «Однажды сидим у него, — вспоминает Станислав Рассадин, — естественно, выпиваем, и Галич, как мне ревниво кажется, уж чересчур волнуется: “Андрей… Сейчас Андрей придет…” Приходит — Сахаров и молча сидит, прелестно наклонив голову и пережидая наш гомон»[1215].
В отличие от некоторых других крупных общественно-политических фигур 1960—1970-х годов, Андрей Дмитриевич был начисто лишен каких-либо религиозных или националистических предрассудков. Он был в полном смысле человек мира. Его не интересовали люди вообще — его интересовал конкретный человек, которому он всегда был готов помочь, невзирая ни на какие угрозы и последствия для себя.
Галич и Сахаров часто бывали друг у друга в гостях, и Александр Аркадьевич всегда пел охотно и безотказно. Один из таких вечеров состоялся во второй половине сентября 1972 года дома у Сахаровых, которые жили тогда на улице Чкалова. Людей собралось много, и они слушали песни Галича с огромным вниманием. Когда уже все расходились, правозащитник Юрий Шиханович, ожидавший ареста со дня на день, сказал Елене Боннэр: «Теперь еще устрой вечер Окуджавы, и можно садиться»[1216]. Но Окуджаву Шиханович послушать не успел, поскольку 28 сентября был арестован, а через год, 26 ноября 1973 года, состоялся суд, на котором его обвинили в распространении «Хроники текущих событий», признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу.
За Галичем уже давно была неотступная слежка, и поэтому домашние концерты всегда организовывались тайно, со строгой конспирацией, чтобы не узнал КГБ. Однажды произошел забавный случай. Ноябрь 1972 года. Льет сильный дождь. Галич в тоскливом настроении стоит у окна, ожидая приезда Сахарова. Вдруг он видит, что к подъезду подъезжает черная гэбэшная «Волга». Ну всё, думает Галич, за ним приехали. Но из «Волги» выходит… Сахаров. И больше никого! Сахаров поднимается на второй этаж, где живет Галич, и тот сразу спрашивает: «Андрей, ты один?» — «Один». — «А откуда?» — «Как откуда? Из Академии наук». — «А на чем же ты приехал?» — «А я вышел, не мог поймать такси, а стоит гэбэшная “Волга”. Я им стукнул в окошечко — ребята, говорю, вы за мной поедете к Галичу? Они говорят — обязательно. Ну так, может, подвезете?» Так и подвезли.
Эту историю Алена Галич часто рассказывала в своих интервью, а также на вечерах памяти отца. Теперь послушаем версию Владимира Фрумкина, который приводит рассказ Ангелины Николаевны: «Сахаров, направляясь недавно к ним с Еленой Георгиевной (“Люсей”), не мог поймать такси — и вдруг решительно направился к двум сидевшим в машине гэбэшникам, постоянно дежурившим у подъезда дома. “Не подвезете?” — “Садитесь, Андрей Дмитриевич. Вам куда?” — “К Галичу”. — “А-а-а, знаем”. “И привезли, даже адреса не спросили!” — торжествующе выложила Нюша. Но история на этом не кончалась. “Когда надо было ехать домой, Андрей подошел вот к этому окну: машина стояла как миленькая. “Люся, а что, если мы поедем на них обратно?” И что вы думаете — поехали!»[1217]
И, наконец, версия самого Александра Галича: «Когда ко мне приходил в гости Андрей Дмитриевич Сахаров, то прямо под окнами становились две черные машины. Однажды он приехал с опозданием с заседания в Академии наук. Я выглянул в окно и говорю: “Вот, Андрей, машина тут как тут”. А он отвечает: “Так я на ней приехал! Я вышел, такси не было, я им и сказал: подвезите меня”»[1218].
Свидетелем слежки за Галичем оказался и норвежский художник Виктор Спарре, прилетевший в Москву в 1973 году и там с ним познакомившийся. Холодным декабрьским вечером он стоял рядом с отелем «Берлин» и ждал Галича, чтобы вместе с ним поехать к Сахарову. У Спарре были с собой подарки для Галича, Сахарова и Солженицына, а также сумка с одеждой — подарок семьи Нансенов жене генерала Григоренко, до сих пор находившегося в психушке.
Галич подъехал на такси и, улыбнувшись, кивком пригласил его зайти вовнутрь. Спарре сел в такси, но ничего подозрительного вокруг себя не заметил. Однако Галич оказался более наблюдательным. Как только такси двинулось с места, он сказал: «За нами следуют две машины. КГБ интересуется вашим визитом».
В такси они обменялись подарками — Галич подарил Спарре запись с пением древнерусского церковного хора[1219]. Для того чтобы понять, почему Галич вдруг заинтересовался подобными вещами, необходимо рассказать еще об одном его знакомстве, которое состоялось в начале 1970-х годов. Галич встретился с человеком, который сыграл, без преувеличения, поворотную роль в его духовной жизни.
«Я вышел на поиски Бога…»
Конец 1960-х — начало 1970-х годов были для советской интеллигенции временем интенсивных духовных поисков. Значительную роль здесь приобрел религиозный вектор — многие писатели и поэты на фоне воинствующего государственного атеизма обращались к религиозной тематике.
Во второй половине 1960-х религиозная тематика серьезно заинтересовала и Александра Галича. Он начал читать запоем многочисленные самиздатские произведения и зарубежные книги на эту тему. И однажды ему в руки попалась книга некоего Эммануила Светлова «Вестники Царства Божия», посвященная ветхозаветным пророкам. Вскоре выяснилось, что под этим псевдонимом скрывался священник Александр Мень. События и персонажи библейских времен изображались в его книге настолько ярко и правдоподобно, что возникало чувство, будто автор видел их собственными глазами: «Тогда я в один прекрасный день решил просто поехать и посмотреть на него, — рассказывал Галич. — Я простоял службу, прослушал проповедь, а потом вместе со всеми молящимися я пошел целовать крест. И вот тут-то случилось маленькое чудо. Может быть, я тут немножко преувеличиваю, может быть, чуда и не было никакого, но мне в глубине души хочется думать, что все-таки это было чудом. Я подошел, наклонился, поцеловал крест. Отец Александр положил руку мне на плечо и сказал: “Здравствуйте, Александр Аркадьевич. Я ведь вас так давно жду. Как хорошо, что вы приехали”»[1220].
О подробностях крещении Галича Мень никогда не распространялся («врачебная тайна»), но подчеркивал неслучайность этого события: «Что касается Галича, то его вера была плодом твердого, глубокого размышления, очень непростых внутренних, духовных процессов. Но я обычно о таких вещах не говорю, хотя меня часто об этом спрашивают»[1221].
А вот как описывает приход Галича к религии его дочь Алена: «…отец уже серьезно относился к вере, когда я училась в старших классах [конец 50-х годов]. Я знаю, что он с большим уважением относился к церкви, и у него дома на “Аэропорте” были иконы… Но на Бронной ничего подобного никогда не было. Как он сам объяснял, к Православию его толкнуло то, что это единственное, что может спасти душу человеческую, и что принятие Православия — это знак преданности своей земле, своей родине, тому месту, где родился…»[1222]
Религиозная писательница Зоя Крахмальникова (жена писателя и диссидента Феликса Светова — тоже, кстати, еврея, принявшего христианство) утверждает, что крещение Галича состоялось летом 1972 года[1223], однако Юрий Глазов вспоминает, что Галич «с гордостью говорил о крестившем его отце Александре Мене»[1224]. А поскольку Глазов эмигрировал 21 апреля 1972 года, то, следовательно, крещение состоялось до этого времени — вероятно, в марте — апреле.
О том, как Галич пришел к христианству, сохранилось любопытное свидетельство Феликса Светова: «Саша тяжело шел к вере. Он был евреем, русским интеллигентом, и вся эта идея [крещения] его сильно смущала. Зоя часто пыталась обратить его в веру, но он не мог спокойно войти в Церковь. Однажды, я вспоминаю, он выпивал. Он был большой любитель выпить, красивый “пьющий артист”. Зоя сказала: “Светик, покажи Саше свой крест”. И я показал ему крест. На следующий же день он пришел к священнику»[1225]. Однако в телепередаче «Как это было» (1998), посвященной Галичу, Светов рассказал, что незадолго до крещения Галича они вдвоем уже один раз съездили к Меню, и тогда произошло их знакомство: «Однажды мы с ним поехали к отцу Александру Меню в этот самый Семхоз — ныне печально знаменитый дом, возле которого отец Александр был убит. Это был замечательный вечер. Отец Александр очень много и прекрасно говорил, а Галич много и прекрасно пел. После этого буквально через несколько дней он крестился у отца Александра».
С 1970 по 1990 год Мень служил в храме Сретения Господня, располагавшемся в Новой Деревне, близ подмосковного Пушкино. До знакомства с Галичем он отождествлял автора с персонажами его песен и поэтому был несколько удивлен, когда на пороге храма появился высокий, красивый и барственный брюнет, обладающий густым баритоном, который магнитофонные пленки, как выяснилось, сильно искажают. Галича он сразу узнал, хотя до этого не видел ни одной его фотографии. Как говорил потом отец Александр, «в первом же разговоре я ощутил, что его “изгойство” стало для поэта не маской, не позой, а огромной школой души. Быть может, без этого мы не имели бы Галича — такого, каким он был.
Мы говорили о вере, о смысле жизни, о современной ситуации, о будущем. Меня поражали его меткие иронические суждения, то, как глубоко он понимал многие вещи. <…> Его вера не была жестом отчаяния, попыткой куда-то спрятаться, к чему-то примкнуть, лишь бы найти тихую пристань. Он много думал. Думал серьезно. Многое пережил. Христианство влекло его. Но была какая-то внутренняя преграда. Его мучил вопрос: не является ли оно для него недоступным, чужим. Однако в какой-то момент преграда исчезла. Он говорил мне, что это произошло, когда он прочел мою книгу о библейских пророках. Она связала в его сознании нечто разделенное. Я был очень рад и думал, что уже одно это оправдывает существование книги»[1226].
После этой первой встречи Галич принял окончательное решение креститься, о чем отцу Александру тут же сообщил композитор Николай Каретников: «…когда Саша захотел креститься, я предупредил отца, что мы приедем. Галич принял крещение в маленьком домике священника при церкви. Мы были втроем. Отец очень полюбил его и всегда смотрел на него с глубокой нежностью»[1227].
На встречу с отцом Александром Галич действительно поехал вместе с Каретниковым, который стал его крестным. А после этого они втроем — Мень, Галич и Каретников — сидели в небольшом домике священника, и Галич читал свои стихи. Особенно соответствовало моменту стихотворение «Сто первый псалом»: «Но вновь я печально и строго / С утра выхожу за порог — / На поиски доброго Бога, / И — ах, да поможет мне Бог!» А еще через год Галич напишет песню «Когда я вернусь», в которой создаст возвышенный поэтический образ новодеревенского храма: «Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, / Где с куполом синим не властно соперничать небо, / И ладана запах, как запах приютского хлеба, / Ударит в меня и заплещется в сердце моем».
После крещения Галич часто слушал церковную музыку. «Несмотря на все, Саша не терял присутствия духа, — вспоминает Михаил Львовский. — Только чаще слушал музыку — теперь уже преимущественно духовную.
— Что это за пластинки? — спросил я как-то.
— Хор Большого театра… И Государственный хор Союза, свешниковский… Исполняют церковные песнопения. Литургии Чайковского, Рахманинова. Мы специально записываем все это и потом продаем записи за границу, а на Западе выпускаются пластинки, которые у нас почти не выходят, — пояснил он.
— Как же это мы продаем?
— А что мы не продаем? — ответил Саша вопросом на вопрос.
В это время хор Большого театра повторял что-то вроде: “Господи, помилуй нас, помилуй нас…”
Саша спросил: ‘‘Ты чувствуешь, какое слово: ‘Помилуй! По-ми-луй нас…’”»[1228]
Вместе с тем, если после крещения и произошли какие-то существенные изменения, то они затронули главным образом поэтическое творчество Галича, в котором резко увеличилась концентрация религиозных мотивов и изменился способ их подачи (исчезли ирония и сарказм). Но как человек, как личность Галич практически не изменился — по крайней мере, внешне. Это видно и по воспоминаниям современников. Например, Раиса Орлова говорит, что, «надев крест, Галич (как и некоторые другие новообращенные) не стал ни добрее, ни милосерднее, не стал больше думать о других людях»[1229]. Впрочем, последний упрек Раисы Орловой следует отнести в первую очередь к ней самой, поскольку в тех же воспоминаниях она сетует: «Сколько раз мы у себя и в других домах дарили его, угощали им. И как, в сущности редко дарили ему, угощали его… Сколько не успели ему сказать…»[1230]
Перед тем как принять крещение, Галич много читал соответствующую религиозную литературу и изучал обряды, а после соблюдал христианские праздники, ходил к причастию. И на этой почве у них с женой даже возникали семейные конфликты. Свидетелем одного такого эпизода стала Галина Шергова: «Звонок по телефону, мрачный Нюшин голос: “Мы с Сашей разводимся”. Перепуганная, мчусь на Черняховского. Оказывается, Галичи не сошлись во взглядах на крещение Руси»[1231].
Похожий случай зафиксирован в воспоминаниях Владимира Волина: «Однажды в Доме творчества я услышал на лестнице главного корпуса громкий, на повышенных тонах разговор. Даже скорее не разговор, а гневный монолог. Александр Аркадьевич, возмущаясь и размахивая руками, спорил о чем-то с женой Ангелиной Николаевной, одновременно обвиняя и убеждая ее. Было впечатление серьезной семейной ссоры. Поравнявшись с ними, я услышал о предмете спора: речь шла о… теоретических проблемах раннего христианства — ни больше ни меньше!»[1232]
Все это резко выделяло Галича на фоне других писателей. «…Я не понимаю, — вспоминал Юрий Нагибин, — почему хорошие переделкинские люди смеялись над ним, когда на светлый Христов праздник он шел в церковь с белым чистым узелком в руке освятить кулич и пасху»[1233].
Крещение Галича вызывало не только любопытство, но и иногда даже самую настоящую ненависть, причем отнюдь не со стороны ортодоксальных иудеев, а со стороны самых обыкновенных неверующих евреев, которые восприняли это как «предательство» по отношению к своей нации.
Весной 1974 года Александр Аркадьевич вместе с Ангелиной Николаевной приходил прощаться с женой Марка Колчинского (того самого, на защите диссертации которого Галич впервые публично исполнил «Памяти Пастернака»). Там же присутствовал вместе с женой Ириной и их сын, биолог Александр Колчинский, который и оставил подробный рассказ о кухонном застолье: «В тот день на Александре Аркадьевиче была элегантная, низко расстегнутая летняя рубашка, из-под которой выглядывала толстая цепочка из желтого металла. Мать сидела рядом с Галичем, слегка отодвинувшись от стола, и глядела на эту цепочку так, что от этого взгляда она, казалось, должна была начать плавиться.
Я не сразу понял, в чем дело. Александр Аркадьевич старался быть приветливым, сказал нам с Ирой несколько ласковых слов. Мать тяжело молчала в прежней позе, брови были угрожающе сдвинуты, а потом вдруг мрачно спросила: “А что это у тебя на шее?” Галич ответил зазвеневшим голосом, в котором прозвучал некоторый вызов: “Я крестился”. Тут Александр Аркадьевич залез рукой под рубашку и вытащил большой нательный крест. При этом он сказал что-то вроде: “Я пришел к единственному Господу нашему Иисусу, и это символ моей новой веры” — и поцеловал крест.
“Ты крестился?!” — вскричала мать. Хотя сама она была бесконечно далека от любой религии, в том числе иудейской, мать очень не любила, когда евреи крестились, полагая это предательством. Именно это она и стала высказывать Галичу в самых резких выражениях.
Мы с Ирой хором пытались мать остановить, а Галич в полной растерянности бессвязно повторял: “Я никогда… Я не мог себе представить… Какое право…” Он поднялся, за ним Нюша, и они быстро ушли»[1234].
Сохранились свидетельства современников о посещениях Галичем церкви. Писательница Юлия Иванова вспоминала, как однажды с Галичем, Анатолием Найманом и еще одной сценаристкой они «съездили в Ленинград, побродили по городу, зашли в полутемный собор (службы не было), поставили свечи»[1235]. В Ленинграде же Галич вместе с коллекционером бардовских песен Михаилом Крыжановским посетил Никольский собор: «Приехали. Галич вышел из машины и дернул дверь. Разумеется, заперто. Он начал стучать. Вышел заспанный сторож:
— Ну, чего тебе?
— Отворите, пожалуйста! Хочу Анне Андреевне свечку поставить.
— Какой Анне Андреевне? Да и ключей у меня нет.
Но когда Галич сунул ему крупную купюру, дед нашел ключи и открыл собор.
Было пусто и тихо. Александр Аркадьевич сказал:
— Здесь отпевали Ахматову.
Он зажег свечку, постоял минут пять, что-то нашептывая.
Когда мы выходили, я обернулся: посреди громадного ночного храма светилась одна высокая свеча. Ахматовская…»[1236]
Дневниковая запись протоиерея Александра Шмемана за 26 марта 1975 года содержит информацию о его встрече с Галичем в Нью-Йорке у одного из крупнейших популяризаторов авторской песни Виктора Кабачника: «У Кабачников с Александром Галичем. У Галича огромный человеческий шарм. Я его до сих пор читал или же слушал с ленты. Но совсем другое — слушать его живьем. Огромное впечатление от этой лирики, эмоций — очевидно абсолютно подлинных. Широта, благожелательство, элегантность. Короткий разговор наедине — об о. Александре Мене, об эмиграции. “Я ведь неофит. Только знаю Евангелие, Библию…”»[1237]
В отличие от многих новообращенных у Галича не появился религиозный фанатизм, происходящий из-за поверхностного понимания религии. Напротив: он признавал свою не слишком большую компетентность в этом вопросе, хотя, судя по всему, Галич все же преуменьшил свои познания в религии: из его же собственного рассказа известно, что кроме Библии и Евангелия он читал еще как минимум одну — а на самом деле гораздо больше — религиозную книгу: «Вестники Царства Божия», которая, собственно, и привела его к христианству.
Однако Галич не только сам пришел к вере, но и стремился приобщить к ней других. Скульптор Эрнст Неизвестный впоследствии клял себя за то, что так и не познакомился с Менем: «Я, скажем, до сих пор сердит на себя, нет мне прощения, — отец Александр Мень хотел со мной встретиться. А я, идиот, привыкший, что приезжают ко мне, сказал: хочет — пусть сам приезжает. Галич, Мераб[1238] тянули меня к о. Александру… Это сейчас я зачитываюсь им, кляну себя. Мальчишка! Тепёрь сержусь и на Галича, и на Мераба: они должны были взять меня за шиворот и насильно повести!»[1239]
А поэтесса Елена Кумпан рассказала о восприятии Галичем двух малоизвестных религиозных стихотворений: «Э. Л.[1240] познакомилась с ним в Малеевке. Ее очень подкупало, кроме всего прочего, то, что Галич был в буквальном смысле слова помешан на стихах, прекрасно знал их и очень страстно реагировал на новые, неизвестные ему ранее. Эльга показала ему список тех стихов, авторство которых мы не смогли установить, но читали их друг другу и тем, кто этого заслуживал, с нашей точки зрения. В частности, она показала ему однажды “Сколько было нас — Хлебников, Блок и Марина Цветаева…” и “Легкой жизни я просил у Бога…”. Галич прочел стихи, круто повернулся и быстро ушел к вешалке, зарылся в пальто. Все это получилось у него неловко и невежливо. У Эльги, как она рассказывала, “потемнело в глазах от этакого хамства”, но она взяла себя в руки, подошла к Галичу и спокойно сказала: “Отдайте мне текст, будьте добры!” Он обернулся, лицо его было залито слезами… Эльгу это очень тронуло, и она включила его в круг “своих”»[1241].
Точное авторство первого из упомянутых стихотворений неизвестно. Согласно одной из версий, его написала сама Марина Цветаева вскоре после своего возвращения из эмиграции в Советский Союз, незадолго до начала Второй мировой войны и своей трагической гибели, а согласно другой — поэт Николай Асеев, уже после смерти Цветаевой: «Сколько было нас? / Хлебников, Блок и Марина Цветаева, / Маяковский, Есенин — всей певчей дружины число… / Сколько светлых снегов, отсияв, уплыло и растаяло / И по мелким ручьям в океан-глубину унесло! / Кем мы были? Цветами, листами, зарницами, звездами, / доказательством ваших недаром промчавшихся лет, / вашим отблеском, вашей мечтой, вашим будущим созданы, / только, видно, не вовремя мы появились на свет».
Несомненно, Галич причислял себя к сонму этих поэтов, прозревая в их судьбе свою собственную, поэтому и отреагировал так эмоционально.
А второе стихотворение, упомянутое Еленой Кумпан, написал поэт-переводчик Иван Тхоржевский (1878–1951): «Легкой жизни я просил у Бога: / Посмотри, как мрачно все кругом. / Бог ответил: подожди немного, / Ты меня попросишь о другом. / Вот уже кончается дорога, / С каждым годом тоньше жизни нить — / Легкой жизни я просил у Бога, / Легкой смерти надо бы просить».
Наблюдается прямое совпадение — и ритмическое, и смысловое — со стихотворением Тютчева «Вот иду я вдоль большой дороги…», которое очень любил Галич и неоднократно приводил в качестве примера подлинной поэзии, противопоставляя песне «Расцветали яблони и груши…», которая написана тем же размером: «Тяжело мне, замирают ноги. / Ангел мой, ты видишь ли меня?» (так его цитировал Галич, что несколько отличается от оригинала). И в тютчевском произведении, и в стихотворении «Легкой жизни я просил у Бога…» присутствует мотив тяжелого человеческого удела, что как нельзя более точно соответствовало положению самого Галича, возникшего в результате его исключения изо всех союзов и изоляции от общества.
Стихотворение Тхоржевского оказалось близко Галичу еще и темой приближающейся старости: «Вот уже кончается дорога, / С каждым годом тоньше жизни нить», — что перекликается с песней самого Галича «Вот пришли и ко мне седины…»: «Ах, как быстро, несусветимы, / Дни пошли нам виски седить!», и, исполнявшейся им песней Анчарова: «Ах, как быстро утекло / Счастья моего тепло!»
В произведениях Галича второй половины 1960-х годов все чаще появляются христианские реалии и скрытые реминисценции из Нового Завета. Например, в «Разговоре с музой» (1966) представлена даже своеобразная христианская триада: смерть — спасение — воскресение: «Если с радостью тихой партком и местком / Сообщат наконец о моем погребении, — / Возвратись в этот дом, возвратись в этот дом, / Где спасенье мое и мое воскресение — / В этом доме у маяка!..»
Примерно в это же время в его творчестве возникает мотив распятия, причем в концовке песни «Фестиваль песни в Сопоте в августе 1969» автор напрямую сравнивает себя с распятым Христом: «А я, крестом раскинув руки, / Как оступившийся минер — / Всё о беде да о разлуке, / Всё в ре-минор да в ре-минор…»
Образу оступившегося минера сродни образ подорвавшегося на мине эсминца в песне «Старый принц» (1972): «Чья-то мина сработала чисто <…> Я тону, пораженный эсминец, / Но об этом не знает никто!»
В начале 1970-х Галич пишет поэму «Вечерние прогулки», в которой вновь встречается мотив распятия: «Пора сменить — уставших — на кресте», а в 1973 году он разовьется в песне «Понеслись кувырком, кувырком…»: «Худо нам на восьмом этаже / Нашей блочно-панельной Голгофы! / Это есть. Это было уже. / Это спето — и сложено в строфы. / Это хворост для наших костров… / Снова лезут докучные гости. / И кривой кладовщик Иванов / Отпустил на распятие гвозди!»
В том же году «блочно-панельная Голгофа» будет упомянута в «Опыте ностальгии»: «Над блочно-панельной Россией, / Как лагерный номер — луна».
Смешной случай связан со стихотворением «Сто первый псалом», посвященным Борису Чичибабину. Однажды Галич прочитал его Михаилу Крыжановскому и спросил: «Миша, как вы думаете, что означает этот заголовок?» Тот, не обладая большими познаниями в религии, наивно ответил: «Сто первый километр, что ли?». Галич расхохотался, но больше ничего не сказал. И лишь спустя почти два десятилетия, когда Крыжановскому попался в руки Псалтырь, он нашел в нем сто первый псалом и прочитал: «Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою»[1242].
Любопытно, что впервые слово «псалом» в творчестве Галича появилось в одном из стихотворений конца 1930-х (!) годов, которое он цитирует в «Генеральной репетиции»: «А здесь с головы и до самых пят / Чужой нежилой уют, / Здесь даже вещи не просто скрипят, / А словно псалмы поют!..» Эти стихи в 1941 году он читал Лии Канторович, и, вероятно, странно было их слышать из уст 23-летнего парня, игравшего в спектакле «Город на заре» роль «врага народа» троцкиста Борщаговского. Кстати, когда Саше Гинзбургу было восемь лет, он был настолько отравлен атеистической пропагандой, что даже проголосовал за разрушение церкви, о чем стало известно из рассказа режиссера Театра на Таганке Юрия Любимова: «Я близко сдружился с мальчиком Сашей Гинзбургом. Мы в одном классе. Я еще не знал, что он будет знаменитым бардом Галичем. Мне нравилась его открытость, мягкость и желание участвовать во всех авантюрах в школе и школьном дворе. Я только не простил его за его “голос” ради разрушения православной церкви. Мне 8 лет. 1925 год»[1243].
Однако этот воинствующий атеизм вскоре исчез, и к началу 1940-х годов Галич уже совсем по-иному относился к религии. В воспоминаниях Матвея Грина о его знакомстве с Галичем осенью 1941 года есть такой эпизод: «“А говорят Бога нет! Конечно, есть!” — засмеялся незнакомец»[1244]. Таким образом, советское воспитание к тому времени уже дало трещину, и Галич стал всерьез задумываться о вопросах веры. И есть тому подтверждение.
Его первая жена Валентина Архангельская, которая всю жизнь была твердокаменной коммунисткой и пришла к православию только в самом конце жизни (она умерла в 1999 году), как-то еще до рождения их дочери Алены — а это начало 40-х годов — спросила мужа: «Сашка, если бы тебе пришлось выбирать веру, какую ты бы выбрал?»[1245]. Галич ей ответил: «Православие. Иудейская вера неплоха, но православие ближе моей душе»[1246]. Есть и другая версия: «Ну, в общем-то, все веры сами по себе интересны. Но мне по душе православие»[1247].
Что же касается темы псалмов, то она будет интересовать Галича и в 70-е годы, причем настолько, что в письме к Борису и Лилии Чичибабиным от 6 января 1973 года он признается, что задумал написать книгу псалмов. Однако замысел этот так и не будет осуществлен.
Еврейская тематика
Говоря об отношении Галича к религии, нельзя пройти мимо его отношения к еврейству. Вряд ли можно найти поэта, который бы в равной (и значительной) степени ощущал себя евреем и христианином. Никто с такой силой и яростью, как Галич, не обличал антисемитов и организаторов массовых убийств евреев, и при этом создал большое количество самых что ни на есть «христианских» произведений — по концентрации в них соответствующих образов и мотивов. «Я — русский поэт еврейского происхождения», — сказал однажды Галич своему племяннику — сыну Виктора Гинзбурга[1248].
Отношение Галича к еврейству с исчерпывающей полнотой раскрывается в воспоминаниях писателя Юрия Герта, встречавшегося с Галичем во время одного из его приездов в Алма-Ату летом 1967 года: «На этот раз, после встречи в университете (разумеется, в “узкой аудитории…”) и перед встречей в театре с артистами, куда его упросил прийти главреж Мадиевский, который взялся поставить “Матросскую тишину”, Галич пел в доме у Алексея Белянинова. За столом, по тогдашнему времени уставленным без гастрономических излишеств (сосиски, помидорный салат, “Столичная”), было тесно, в маленькой комнатке — жарко, душно от собравшегося народа, и Галич потребовал у Алексея что-нибудь полегче, чем вязаный свитер, который был на нем. Софа, жена Белянинова, принесла тонкую летнюю рубашку Алексея, Галич не без усилия в нее влез… Перед тем как переменить свое облачение, он сбросил свитер, под которым ничего не было, — ничего, кроме свисавшего на волосатую грудь могендовида…[1249] Шел 1967 год, и в газетах вовсю поносили “израильских агрессоров”, коварных победителей в Шестидневной войне… <…> На другой день я позвонил Галичу в гостиницу и попросил разрешения прийти.
— Приходите, — сказал Галич. — И если можно, захватите свой “Лабиринт”…
Должен заметить, что к тому времени Александр Аркадьевич, будучи в Алма-Ате, уже прочитал “Кто, если не ты?..” и горячо его одобрил.
…Он еще лежал в кровати, когда я пришел к нему в номер. В комнате царил раскардаш, окно было распахнуто в жаркий алма-атинский полдень. Галич прикрылся простыней, оставив открытой грудь, заросшую черными курчавыми волосами, на ней по-прежнему лежал свисавший с шеи отлитый из металла могендовид. С него я и начал разговор, пододвинув стул к изголовью кровати:
— Александр Аркадьевич, почему вы носите могендовид?
Галич холодно прищурился в ответ на мой прокурорский вопрос:
— Почему вы об этом спрашиваете? Ведь вы, кажется, еврей?..
— Да, — подтвердил я, — еврей… Но быть евреем — не значит обязательно носить могендовид… — Я достал из своего дипломата роман “Лабиринт”, он был написан несколько лет назад и Бог знает, когда и где будет напечатан.
Увидев рукопись, ходившую в Алма-Ате по рукам, Галич смягчился:
— Видите ли, для меня могендовид — это знак причастности к судьбам тех, кто страдал в варшавском гетто, погибал в Освенциме и Треблинке… Могендовид — это память о них… И о том, что я мог быть, должен был быть с ними… Пепел Клааса, как говорится… Только не пепел Клааса, а могендовид стучит в мое сердце…
Он внимательно посмотрел на меня карими, слегка выпуклыми глазами:
— У нас ведь многие считают, что евреем быть стыдно… И невыгодно… Это мешает жизни, карьере… Мешает быть — там, наверху…
<…> Я заговорил об Израиле, об уезжающих на свою “историческую родину”…
— Спохватились… — усмехнулся Галич. — Спохватились через две тысячи лет… Что до меня, то я никуда не уеду. Моя родина — здесь. Я считаю, что евреем можно быть в любой стране…
— Кроме фашистской…
— Мы должны сделать все, чтобы очистить нашу страну от остатков фашизма…
— Вы думаете, это возможно?..
— Возможно, если каждый сделает все, что в силах…»[1250].
В 1970 году Галич напишет поэму «Кадиш», в которой при описании эшелонов с евреями-заключенными, направлявшихся в Освенцим и Треблинку, также упомянет магендовид: «Уходят из Варшавы поезда, / И скоро наш черед, как ни крути. / Ну, что ж, гори, гори, моя звезда, / Моя шестиконечная звезда, / Гори на рукаве и на груди».
Как видим, еврейская тема для Галича была весьма значима. И напрасно возмущается Валерий Лебедев, споря с мнением одного радиоведущего: «Галич всегда и много раз называл себя русским поэтом. Не еврейским. Не идишистским. <…> Никогда в наших многочисленных разговорах Галич никак не подчеркивал свою этничность, вообще ничего не говорил о национальной принадлежности своей или своих коллег»[1251].
Ну, разумеется, не подчеркивал. Какой смысл это делать в разговоре с неевреями? При условии, конечно, что ты рассчитываешь на адекватную реакцию собеседника… Однако в разговорах с евреями Галич часто обращался к еврейской тематике и даже использовал еврейские слова! «Что касается Галича, — вспоминает коллекционер Владимир Ковнер, — я не раз видел его в домашних концертах и в кругу его близких друзей, и наедине — у него дома. Могу смело утверждать, что он никогда ни словом, ни делом не отказывался от еврейства и чувствовал его не менее остро, чем любой из нас»[1252]. А писатель Михаил Лезинский свидетельствует о знании Галичем идиша: «Александр Галич, как это кому ни покажется странным, владел этим языком. Уж не знаю, на каком уровне, лично мы с ним вели беседы на русском языке, но он пересыпал свою речь пословицами и поговорками на идише, и тут же переводил их мне»[1253]. А когда однажды Александр Дольский спросил Галича, еврей ли он, то Галич воскликнул: «Да еще какой! Крымский!»[1254]…
Вскоре после Шестидневной войны (5—10 июня 1967 года), как следует из рассказа Юрия Герта, Галич носил на груди магендавид, но это было не единственное, чем он выразил тогда свою поддержку Израилю. Под впечатлением от ближневосточных событий Галич написал одну из своих самых пронзительных песен об антисемитизме и Холокосте, которая называется «Реквием по неубитым, или Песня, написанная по ошибке».
На фонограмме, сделанной в июне 1974 года Валерием Лебедевым, зафиксирован следующий комментарий Галича: «В 67-м году, когда я жил в городе [Ленинграде] со стороны Репино и началась Шестидневная война, у меня испортился радиоприемник, и я слушал только радиоточку и слышал, как там всё наступали наши родные египетские и сирийские войска, и я очень сокрушался. Не потому, что я такой уж сионист, но все-таки мне было неприятно: маленькая страна, на нее нападают 28 стран. Потом, на шестые сутки, я решил поехать в Ленинград, купил батарейки для приемника, приехал. Выяснилось, что там капитуляция. Я думаю: едрена мать, что ж такое?! А я уж за это время сочинил песню».
Лебедев вспоминал, что философ Лев Баженов, присутствовавший на этом концерте и уже слышавший ранее эту песню, пошутил, обращаясь к Галичу: «Написали сионистско-антисемитскую песню». «Именно», — ответил Галич и начал ее петь[1255]. Почему он согласился с такой оценкой, догадаться легко: «сионистскую» — потому что любые проявления симпатий к Израилю трактовались в СССР не иначе как сионизм. А «антисемитскую» — потому что начиналась эта песня так: «Шесть миллионов убитых! / А надо бы ровно десять! / Любителей круглого счета / Должна порадовать весть, / Что жалкий этот остаток / Сжечь, расстрелять, повесить / Вовсе не так уж трудно, / И опыт, к тому же, есть!»
Строка «А надо бы ровно десять» является здесь так называемым «чужим словом», поскольку произносится от лица антисемитов, которые сожалеют о том, что Гитлеру не удалось до конца уничтожить евреев.
Кстати, первые записи песен Галича в Израиле появились в 1969 году, их вывезла туда певица Нехама Лифшиц. Теперь становятся понятны причины появления в 1971 году обширной подборки песен Галича в израильском журнале «АМИ»[1256].
Начав в 1960-е годы работать в жанре авторской песни, Галич вскоре ощутил некоторую раздвоенность, поскольку чувствовал себя одновременно евреем и русским поэтом. Чем дальше, тем больше эта раздвоенность не давала ему покоя и однажды выплеснулась в разговоре с поэтом Петром Вегиным: «Галич нарезал колбасы, достал старинный, запотелый штоф, мы выпили.
— Слушай, а ты — еврей? — неожиданно спросил он.
— Нет, — ответил я и коротко рассказал о своих корнях.
— Ты знаешь, старик, тебе повезло! Быть русским поэтом и евреем — это очень тяжело. Мало кому удавалось. Мандельштаму — да! А вообще надо быть космополитом…»[1257]
У Галича даже был своеобразный «комплекс еврейства», о чем ясно говорит приписка, которую он сделал, находясь уже в эмиграции, к своему письму, адресованному немецкому слависту Вольфгангу Казаку — составителю энциклопедического словаря русской литературы: «Кстати, фамилия “Гинзбург” фигурировала только в моих официальных, милицейских документах — и я стараюсь ее забыть, как раб, получивший вольную, старается забыть кличку, которую ему дали в рабстве. “Галич” — это тоже вполне хорошая еврейская фамилия»[1258].
Вскоре после знакомства Галича с Александром Менем могла состояться еще одна знаменательная встреча.
Солженицын
Первая заочная встреча Галича и Солженицына имела место в 1967 году после того, как 16 мая Солженицын обратился с «Письмом IV съезду писателей СССР», где призвал обсудить вопрос о политической цензуре и о недопустимости репрессий по отношению к писателям. Поскольку СП хотел замолчать это обращение, группа из 80 литераторов, среди которых был и Галич, подписала письмо президиуму съезда о необходимости гласного рассмотрения обращения Солженицына.
11 декабря 1968 года, в день 50-летия писателя, Галич отправил ему телеграмму: «Дорогого Александра Исаевича, замечательного писателя, человека, поздравляю от всего сердца. Низкий Вам поклон за великое мужество, которое позволяет выстоять всем нам. Обнимаю Вас. Александр Галич»[1259].
В 1970 году Галич и Солженицын были заочно избраны в неофициальный Комитет прав человека в СССР в качестве корреспондентов, а летом 1972 года Галич, уже отовсюду исключенный, после очередного инфаркта отдыхал в подмосковном поселке Жуковка. Сначала он снимал дачу покойного академика Антона Вольского, но вскоре вдова академика сдала Галичу дом целиком[1260].
Вообще в Жуковке был сосредоточен весь цвет советской интеллектуальной элиты. Рядом с дачей Вольского располагалась дача известного физика-ядерщика Юлия Харитона, тут же рядом — дача академика Сахарова. По соседству с Сахаровым — дача Мстислава Ростроповича, у которого уже несколько лет гостил Солженицын. За углом жил Дмитрий Шостакович. Еще неподалеку, за дощатым забором (прямо по Галичу!), находился поселок Совмина, где жили Молотов, Каганович, Булганин, Шепилов, а также министры и члены ЦК.
Казалось бы, на таком пятачке Галич и Солженицын просто обречены на встречу, но, как свидетельствует Владимир Фрумкин, «Галич мне с большой горечью сказал, что Солженицын отказался с ним встретиться, что он как-то попросил Екатерину Фердинандовну, тещу свою вторую уже, Наташи Светловой мать[1261], очень интеллигентную, очень умную женщину, и та передала Галичу, что тот страшно занят, заканчивает какую-то очередную работу…»[1262]
Ну не настолько же занят, чтобы не найти хотя бы полчаса для короткого знакомства! С Сахаровым, например, он общался тогда довольно часто, как сам же написал в своих воспоминаниях: «…мы продолжали встречаться с Сахаровым в Жуковке 72-й год»[1263]. Можно обратиться и к воспоминаниям А. Д. Сахарова: «Около часа однажды мы гуляли по лесу недалеко от Жуковки (где дачи Ростроповича и моя), и он предлагал мне примкнуть к сборнику “Из-под глыб”, но я не решился на это по смутным тогда соображениям независимости»[1264].
Значит, причина не в занятости, а в чем-то другом.
Раиса Орлова так описывала это событие: «Летом 1972 года мы виделись особенно часто, он жил на той же самой маленькой улице, в деревне Жуковка, где жили Сахаров, Солженицын, Ростропович. <…> Ходили в лес, он пел у меня на дне рождения. Жарили шашлык.
Самая его большая обида того лета — Солженицын отказался с ним повидаться. <…> Мы просили Александра Исаевича встретиться с Галичем. Сделать-то больше и ничего было нельзя, — если Солженицын чего не хотел, то его не переубедить»[1265].
Обида усилилась в августе 1973 года. Тогда к Галичу как к последнему ученику Станиславского из Норвегии поступило приглашение приехать в сентябре на театральный семинар. В Москве на квартире юриста и основателя Института криминалистики Александра Штромаса собралось около десяти друзей Галича (среди них были композитор Николай Каретников и ленинградский коллекционер бардовских записей Владимир Ковнер) для того, чтобы обсудить все «за» и «против» этого приглашения. И вдруг, как вспоминает Ковнер, «Александр Аркадьевич сказал, что он страшно зол на Солженицына. Европейский Пен-клуб решил издать сборник “Десять заповедей” и каждую заповедь предложил написать одному из известных писателей. Предложили и Солженицыну. Он отказался, сославшись на занятость, а на вопрос, кого бы он мог рекомендовать из русских писателей, ответил: “Никого”. В числе других достойных писателей Галич был особенно обижен за Владимира Максимова, которого очень ценил. Помню, как друзья убеждали Галича, что два таких человека, как он и Солженицын, должны быть выше личных обид, личной неприязни»[1266].
Но почему же все-таки Солженицын отказался встретиться с Галичем? Об этом речь пойдет ниже, а пока отметим, что известно лишь одно публичное, но тем не менее положительное упоминание им Галича — на пресс-конференции в Цюрихе 16 ноября 1974 года, в связи с деятельностью Жореса и Роя Медведевых: «Знаете, Александр Галич недавно пошутил, что в Советском Союзе только осталось, говорит, два человека, которые придерживаются этого мнения, — два брата Медведевых. Ну, он несколько приуменьшил — не два, но действительно, ненамного больше. Это все направление тех коммунистов, которые ничему не научились от всей истории нашей страны, которые считают величайшим преступлением Сталина только то, что он опорочил социализм и разгромил свою партию, больше ничего»[1267].
Солженицын имеет в виду следующие слова Галича, сказанные им в интервью журналу «Посев»: «Откровенно говоря, кроме братьев Медведевых, я вообще уже не знаю никого, кто, во всяком случае в Советском Союзе, искренне считал бы себя марксистом и ленинцем. Во всяком случае, среди моих знакомых таких не попадалось. Это я вам должен сказать совершенно откровенно»[1268].
Обратим внимание на то, что Солженицына никто не заставлял цитировать Галича, никто не задавал вопроса конкретно о нем. Но мысль Галича оказалась ему настолько близка, что было трудно удержаться и не процитировать ее. И это неудивительно, поскольку общего у них было достаточно много.
Начать с того, что они тезки. Оба родились в 1918 году с разницей в два месяца. Оба исповедовали православие: Галич крестился у Александра Меня, с которым Солженицын был очень дружен и даже какое-то время хранил у него в саду рукописный вариант «Архипелага ГУЛАГ».
Творчество каждого из них было направлено в первую очередь против советского тоталитарного режима, и, соответственно, они в целом одинаково оценивали большинство общественно-политических деятелей и событий советской истории. Так что недалек был от истины бард Вадим Егоров, сказавший однажды: «Вольным по-настоящему, безрассудно, в авторской песне был только один человек — Галич. Так же, как в литературе — Солженицын»[1269].
Оба невероятно раздражали власти — причем до такой степени, что те даже собирались их уничтожить, подстроив «автокатастрофу», но всякий раз находились тайные доброжелатели, предупреждавшие об опасности. В 1967 году КГБ хотел избавиться от Галича, а через несколько лет пришел черед Солженицына. В 1971 году его укололи отравленным «зонтиком», но Солженицын выжил[1270], и тогда КГБ предпринял вторую попытку: «Зимой 1971—72 г. меня предупредили и даже несколькими каналами (в аппарате ГБ тоже есть люди, измученные своей судьбой), что готовятся меня убить через “автомобильную аварию”»[1271].
За распространение, да и просто хранение магнитофонных записей Галича и книг Солженицына (особенно «Архипелага ГУЛАГ») можно было запросто получить лагерный срок[1272]. Наконец, в 1974 году, с разницей в несколько месяцев, оба писателя были изгнаны из страны. Причем незадолго до высылки Солженицына его решила приютить Норвегия: «И норвежцы — духом твердые, единственные в Европе, кто ни минуты не прощал и не забывал Чехословакии, — предложили мне даже приют у себя — почетную резиденцию Норвегии, присуждаемую писателю или художнику. “Пусть Солженицын поставит свой письменный стол в Норвегии!”»[1273]
А первой остановкой Галича в эмиграции станет та же гостеприимная Норвегия. И так же, как Солженицын, Галич откажется от иностранного гражданства, считая себя российским гражданином и надеясь вернуться на родину.
Тем удивительнее, что при всех отмеченных сходствах (прямо как у братьев-близнецов) они так и не встретились.
Чтобы понять отношение Солженицына к Галичу, обратимся ко второму тому его двухтомника «Двести лет вместе», посвященного взаимоотношениям русских и евреев. Методику исследования, примененную в этой книге, может проиллюстрировать один пример. В главе «Начало исхода» Солженицын цитирует фрагмент из «Генеральной репетиции» Галича, в котором как раз говорится о советских евреях: «Множество людей, воспитанных в двадцатые, тридцатые, сороковые годы, с малых лет, с самого рождения привыкли считать себя русскими и действительно… всеми помыслами связаны с русской культурой»[1274].
Сразу хочется поинтересоваться: а что скрывается за отточием после слова «действительно»? Да всего лишь три слова: «всеми своими корнями». Зачем же Солженицыну понадобилось их выбрасывать? А вот зачем. Через один абзац он приводит высказывание Григория Померанца о том, что советские евреи «стали чем-то вроде неизраильских евреев, людьми воздуха, потерявшими все корни в обыденном бытии», и сопровождает своим комментарием: «Очень точно выражено». Так вот, мысль Галича о том, что многие советские евреи «всеми своими корнями, всеми помыслами связаны с русской культурой», противоречит концепции Солженицына и понравившейся ему фразе Померанца о евреях, «потерявших все корни». Поэтому он просто заменил эти слова отточием.
Собственно говоря, после этого уже ясно, чего можно ожидать от главы «На отколе от большевизма», где Галичу уделено целых шесть страниц. И обвинений ему здесь предъявлено столько, что все их рассмотреть невозможно, да вряд ли и нужно. Поэтому коснемся лишь основных.
Говоря о стихах Галича, Солженицын сетует: «Но и спускаясь от вождей “в народ”, — разряды человеческих характеров почти сплошь — дуралеи, чистоплюи, сволочи, суки… — очень уж невылазно», как будто не знает реального положения дел, да и задача сатирика состоит в том, чтобы показывать именно негативные стороны жизни. Аналогичное высказывание прозвучало в документальном фильме А. Сокурова «Беседы с Солженицыным» (1998, часть 2): «…у нас то Обломов, то Печорин, то Онегин — всё какие-то “лишние люди”, которые не могут пристроиться. А где же дельцы, а где же строители, где зиждители? Где они? Упустила русская литература. <…> Я думаю, что под влиянием Гоголя это развилось. Отсюда пошли сатирики, иронисты, Салтыков-Щедрин. Салтыков-Щедрин — это уже просто горчица. Ну что это?»