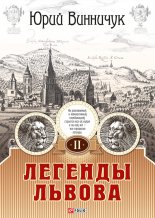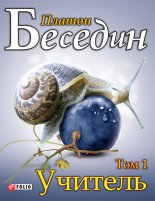Александр Галич. Полная биография Аронов Михаил
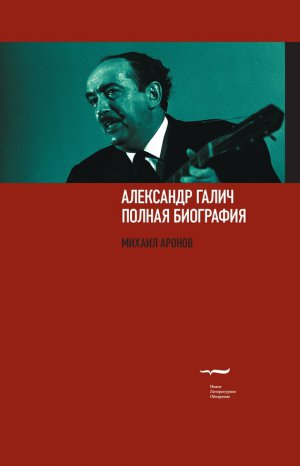
В ответ на ваше письмо от 18.6 с/г. сообщаю, что т. Галич А. А. находится в настоящее время в отъезде, на санаторном лечении, в котором он ввиду болезни сердца крайне нуждается, и вернется в Москву в конце августа. Немедленно по его возвращении я передам ему ваше письмо. Передать же его в санаторий я не могу, т. к. врачи категорически запретили беспокоить его»[195].
5 октября, вскоре после возвращения из санатория, Галич предлагает директору студии Горького А. Калашникову «разрулить» ситуацию с авансом следующим образом: «…сценарный отдел студии, по согласованию с Л. Лагиным, обратился ко мне с просьбой в качестве соавтора написать сценарий по мотивам повести Лагина “Старик Хоттабыч”. Эту работу я обязуюсь сдать студии до 1 января 1955 г. и прошу аванс, полученный мной за сценарий “Зайчик”, учесть при перерасчете гонорара за “Старика Хоттабыча”. Таким образом и будет погашен мой долг Студии»[196].
Однако 11 октября энтузиазм Галича быстро охладили и.о. директора студии имени Горького Г. Бритиков и начальник Сценарного отдела С. Бабин: «Уважаемый Александр Аркадьевич!
Мы приветствуем выраженное вами согласие включиться в качестве соавтора в работу по написанию совместно с Л. Лагиным сценария “Старик Хоттабыч” и просим оформить это соавторство соответствующей надписью на договоре студии с Л. Лагиным.
Вместе с тем сообщаем, что работу по сценарию “Старик Хоттабыч” мы не имеем никакой возможности ставить в какую-либо связь с расчетами по сценарию “Зайчик”, и без того недопустимо затянувшимися, что неоднократно отмечено ревизующими инстанциями.
Ввиду изложенного, просим аванс, полученный Вами по договору от 12/IV-52 г., в сумме руб. 3750 — вернуть студии не позднее 20-го октября с.г., до какового срока юрчастью студии будет задержано предъявление к вам соответствующей претензии»[197].
Пришлось Галичу смириться с таким требованием, что и было отмечено 12 июля 1955 года начальником Сценарного отдела студии имени Горького С. П. Бабиным, а также старшими редакторами В. П. Погожевой и С. М. Рубинштейном, которые составили акт, где констатировали следующее: «По договору на сценарий по повести А. Гарри[198] “Зайчик”, переданному из Киностудии “Мосфильм”, автор А. Галич возвратил полученный им первый аванс. Договор расторгнут.
Сумма же в 5000 рублей, выплаченная автору повести А. Гарри за право экранизации, подлежит списанию в убыток»[199].
Разумеется, после этого на «Старика Хоттабыча» у Галича уже не осталось никакого энтузиазма, и Лагину пришлось писать сценарий самостоятельно. С этим он вполне справился, и в 1956 году фильм вышел на экраны.
Между тем вышеописанная история не повлияла на Галича-драматурга. В марте 1953-го умирает Сталин, и Галич пишет пьесу «Под счастливой звездой» (другое название — «Пути, которые мы выбираем») — о моральном выборе, который возникает перед адвокатами при защите высокопоставленных лиц. Можно предположить, что пьеса была написана не только после смерти Сталина, но и после ареста Берии в июне 53-го.
Директор подмосковного завода Алексей Жильцов нанял молодую адвокатшу Варю Воробьеву для защиты его интересов в суде. Незадолго до этого Жильцов в порядке сокращения уволил с работы своего бывшего товарища, инженера Ивана Кондрашина, и под своим именем опубликовал его научный проект, после чего Кондрашин подал на Жильцова в суд за плагиат. Поскольку для Вари это был первый серьезный процесс, она подошла к нему со всей серьезностью, и процесс был выигран. Но вскоре выяснилось, что Варя защищала неправое дело: директор завода оказался жуликом и негодяем. Это же понял и молодой помощник Жильцова Максим Медников, который долгое время был очарован своим хозяином: он рассказывал всем, какой это замечательный человек, талантливый, умный и т. д. Но когда открылась страшная правда, и Максим и Варя нашли в себе мужество ее принять и исправить свои ошибки. Поэтому пьеса заканчивается соответствующей сентенцией Максима, в которой явственно слышится авторский голос: «Помните, когда мы кончали школу, мы твердо верили, что нам суждена безупречная и необыкновенная жизнь, в которой ни единого дня нельзя будет ни вычеркнуть, ни изменить. А сколько мы уже натворили ошибок!» Через двадцать лет Галич повторит эту мысль в песне «Опыт ностальгии»: «Как много мы недоглядели, / Не поздно ль казниться теперь?!»
Обратим внимание еще на одну перекличку. Когда Ивану Кондрашину с женой стало не на что жить, они отвезти в комиссионку свое пианино, и им выдали квитанцию: «Получено от гражданки Кондрашиной двадцать пять рублей за перевозку и доставку принадлежащего ей пианино со станции Чернополье в скупочный магазин…» Легко заметить здесь отсылку к биографии самого Галича, когда он вынужден был отдать в комиссионный магазин рояль для того, чтобы выкупить своего отца, посаженного в тюрьму…
31 марта 1954 года пьеса была поставлена режиссером Н. П. Акимовым в Ленинградском театре имени Ленсовета и 18 апреля — в Московском театре драмы и комедии[200]. А чуть раньше журнал «Искусство кино» (№ 1, 1954) опубликовал литературный сценарий «На плоту», написанный Галичем совместно с его давним коллегой Константином Исаевым. И в том же году по этому сценарию на экраны вышел фильм, завоевавший у зрителей невиданную популярность.
«Верные друзья»
Казалось бы, чего проще: авторы написали комедию, и режиссер (Михаил Калатозов) ее экранизировал. Однако, по свидетельству драматурга Климентия Минца, до того, как фильм вышел на экраны, пьеса Галича и Исаева провалялась в шкафу сценарного отдела «Мосфильма» более трех лет[201]. Хотя, скорее всего, это явное преувеличение, поскольку получается, что пьеса была написана не позднее 1950 года (съемки фильма начались летом 1953-го в Ростове-на-Дону). А хранящееся в РГАЛИ дело фильма «Верные друзья» открывается документом за 26 апреля 1952 года — это машинописное письмо директора «Мосфильма» С. А. Кузнецова заместителю министра кинематографии СССР Н. К. Семенову: «Кинодраматурги А. Галич и К. Исаев представили студии сценарий комедийного фильма “На плоту”.
Сценарий “На плоту” может быть основой для создания интересного фильма.
Студия обсудила представленный вариант и дала авторам свои предложения о переделке сценария.
Просим Вас разрешить заключить с т.т. Галичем и Исаевым договор на сценарий “На плоту”.
Работа над сценарием “На плоту” будет завершена авторами в кратчайший срок и никоим образом не отразится на обязательствах авторов по другим договорам»[202].
Судя по всему, первоначальный вариант сценария был написан в начале 1952 года[203]. А уже 11 июля директор «Мосфильма» С. Кузнецов и начальник сценарного отдела К. Кузаков написали письмо на имя министра кинематографии СССР И. Г. Большакова: «Оценивая сценарий “На плоту” как приемлемую основу для создания комедийного фильма, киностудия “Мосфильм” просит Вас утвердить его к производству»[204].
Однако 3 февраля 1953 года замминистра кинематографии СССР Н. К. Семенов сообщил директору «Мосфильма» С. А. Кузнецову: «В связи с болезнью т. А. Галича — одного из авторов сценария “На плоту”, студии необходимо предоставить авторам дополнительный срок для переработки сценария в соответствии с указаниями, данными Главным управлением по производству художественных фильмов»[205].
Как видим, сценарий отнюдь не «валялся» в шкафу сценарного отдела «Мосфильма», а над ним постоянно велась работа.
Кстати, первоначально фильм назывался «Старые друзья», однако 16 октября 1953 года на студию поступило письмо драматурга Л. Малюгина, в котором он просил поменять название, поскольку так же называется его собственная пьеса, идущая во многих театрах страны[206]. В итоге картина стала называться «Верные друзья».
15 марта 1953 года на смену Министерству кинематографии пришло Министерство культуры, которое возглавил Пантелеймон Пономаренко, до этого работавший секретарем ЦК ВКП(б) и одновременно министром заготовок СССР, а во время войны руководивший партизанским движением.
Вспоминает актер Николай Сморчков, сыгравший в фильме «Верные друзья» роль секретаря комсомольской организации Алеши Мазаева: «Пономаренко ознакомился с планом, что делается у нас в кино. И увидел, что на Мосфильме запускается “Иван Грозный” Пырьева, “Крамской” Столпера, “Донской” в Ленфильме и так далее. В общем, опять то же, что и было при Сталине. Он перечеркивает этот план и говорит, что будем делать картины на современную тему и побольше комедий. И все закрутилось после этого. И вот повезло, конечно, сценарию “Верные друзья”. Повезло молодому сценаристу Галичу, который написал сценарий — правда, он совместно с Исаевым, но Исаев, когда потом я снимался, все говорили, это для того, чтобы весомее пробивать этот сценарий. Потому что молодой, его никто не знает. Сценарий такой, даже будь он и хорошим, могут не взять. Но стоит написать, что это Исаев вместе с Галичем, как он пойдет сразу. Потому что Исаев же сделал “Подвиг разведчика”, получил Сталинскую премию… Это я слышал своими ушами от больших наших актеров, которые снимались в “Верных друзьях”»[207].
А когда дело дошло до съемок, начались претензии киночиновников. До какого абсурда они доходили, можно понять из выступления сценариста Михаила Папавы на Втором Всесоюзном съезде Союза советских писателей, проходившем с 15 по 26 декабря 1954 года в Большом Кремлевском дворце: «Комедия “Верные друзья” Галича и Исаева, поставленная режиссером Калатозовым, с успехом обошла все экраны страны. Трудно поверить, какой долгий бой пришлось вести за нее. Нам задавались следующие вопросы: “Тема этой картины — борьба с бюрократизмом?” — “Да”, — скромно отвечали мы. “Можно ли рекомендовать путешествие на плоту как основную форму борьбы с бюрократизмом?” — “Нет, — отвечали мы, — не можем”. — “Значит, основное сюжетное положение в этой комедии несерьезно”. Более уступчивые оппоненты предлагали заменить плот путешествием на пароходе. Солидные люди — чего им, как мальчишкам, путешествовать на плоту?»[208]
А по словам Станислава Рассадина, Галич говорил ему, что этот фильм цензура невероятно изуродовала и что изначально он был острее и смешнее, подобно комедиям Гайдая[209].
Но и даже в таком виде «Верные друзья» в 1954 году на VIII Международном кинофестивале в Карловых Варах были удостоены Большой премии «Хрустальный глобус» (эту же премию присудили американскому фильму «Соль земли»)[210].
Внешне комедия «Верные друзья» напоминает пьесу «Вас вызывает Таймыр» — та же атмосфера веселья, те же искрометные шутки, которыми пестрят реплики персонажей. Но «Верные друзья» не были простым повторением «Таймыра»: в новой пьесе уже наличествовала умеренная (а для сталинского времени — достаточно острая) критика начальства, и по всему тексту в виде блесток разбросано скрыто ироническое отношение к «сакральным» советским реалиям.
Сюжет фильма не слишком замысловат. Двое друзей — Борис Чижов и Александр Лапин — решают найти своего давнего школьного товарища Василия Нестратова и вспомнить юность. Узнав, что Нестратов стал академиком и возглавляет одно из управлений гражданского строительства, они отправляются к нему в приемную, но попасть туда оказалось практически невозможно. У приемной толпилось человек двадцать с разными чертежными проектами — многие из них приходили сюда уже несколько дней подряд, но референт Нестратова никого к нему в кабинет не пускал, а Лапину с Чижовым и вовсе заявил, что академика нет на месте. После безуспешных поисков друзья возвращаются в приемную Нестратова и уже собираются схватить референта за горло, но внезапно из кабинета выходит сам Нестратов. Увидев старых друзей, он им несказанно обрадовался (что выглядит не слишком правдоподобно — вспомним аналогичную сцену в фильме А. Райкина «Мы с вами где-то встречались», 1954, где начальник, которого, кстати, сыграл тот же актер — Василий Меркурьев, упорно не желает признавать своего бывшего школьного товарища, прорвавшегося к нему в кабинет): «Господи! — вскрикивает он. — Господи боже мой… Вы… Дорогие мои… Когда?.. Откуда?..»
Друзья приходят на берег реки Яузы, по которой в юношеские годы катались на лодке, но тут Нестратов начинает задаваться и расхваливать свои начальственные достижения. Лапин с Чижовым, недолго думая, окунают его в реку, как тридцать лет тому назад, и при этом поют во весь голос: «Мы пойдем к буржуям в гости, / Поломаем им все кости, / Во!.. И боле ничего!..». Наконец Нестратов взмолился о пощаде: «Больше не буду!» — и его вытаскивают из воды.
Вскоре все трое отправляются в путешествие на плоту по реке Каме (здесь авторы, несомненно, заимствовали основную идею повести Джерома «Трое в лодке, не считая собаки», где три английских джентльмена отправляются в путешествие по Темзе). После многочисленных приключений друзья без денег и документов прибывают в город Тугурбай, где находится управление строительства — филиал управления Нестратова. Сотрудница этого филиала Катя Синцова в течение целой недели не могла добиться приема у Нестратова, по поводу чего секретарь местной комсомольской организации Алеша Мазаев даже выговаривал ей: «А мы тебе не верим, Синцова. Мы тебе, понимаешь, просто не верим! Не может этого быть, чтобы один советский человек не принял другого советского человека, который за тысячу километров приехал к нему по важному делу. И лучше бы ты нам честно сказала — я, ребята, у Нестратова не была».
Возглавляет Управление строительства Тугурбая Виталий Нехода и ведет себя точно так же, как академик Нестратов на своем посту. Когда Катя сумела прорваться на прием к Неходе, тот на нее просто наорал: «Меня и так со всех сторон тянут, ночи, как говорится, недосыпаю! Сердце себе к чертям собачьим срываю, а тут еще вы… Ну, сунулись вы к товарищу Нестратову?! Он вас… Что? Принял? Нет-с, шалишь! И правильно! Потому что товарищ Нестратов — государственный человек, он на всякого не станет время терять. А моего времени вам не жалко! Для вас тут я — Нестратов!»
Придя в кабинет Неходы, Нестратов пытается лично разрешить возникшую ситуацию, но, поскольку документов у него не было, Нехода принял его за проходимца и вызвал милицию. Тут Нестратов окончательно прозревает: «”Вы поймите, что со мной сегодня случилось! Ведь я самого себя увидел. Увидел и ужаснулся!” — “Кого увидел?” — переспрашивает лейтенант. — “Самого себя. В отвратительном кривом зеркале!” — “Какое еще зеркало? — строго спрашивает лейтенант. — Не путайте, гражданин. Кого вы и где увидели?” — “Себя, друг мой, — грустно отвечает Нестратов, — себя в Неходе. Я и есть Нехода!” Лейтенант привстает. “Кто вы?!” — “Нехода, — грустно улыбается Нестратов, — как ни отвратительно это признание, но нужно иметь мужество: я — Нехода…” Лейтенант дрожащей рукой наливает из графина воду и жадно пьет».
Авторы пьесы демонстрируют наивную веру в то, что плохой чиновник, увидев свое отражение, тут же одумается и «перевоспитается». В качестве обратного примера можно опять-таки вспомнить фильм «Мы с вами где-то встречались» (1954).
Заметим, что Нестратов — высокий, статный и вальяжный мужчина — полная противоположность Неходе: «пожилой квадратный человек, совершенно лысый, с резкими складками в углах рта и неопределенного цвета чахлыми, точно выщипанными усами». В этом последнем случае внешность человека является как бы отражением его внутреннего мира. Однако, несмотря на разную внешность, как чиновники Нехода и Нестратов ведут себя совершенно одинаково, и даже болезни у них одни и те же: энфизема легких, одышка, больное сердце, плохой сон и т. д.
Роль Нестратова была изначально написана для Николая Черкасова, и его персонажа даже звали Николай Константинович. Однако Черкасов, прочитав сценарий, от роли отказался, чем сильно расстроил Галича и Калатозова: они так и не поняли, чем был продиктован отказ. И лишь спустя много лет муж телеведущей Галины Шерговой, Александр Юровский, руководивший киноредакцией Центрального телевидения, сумел выведать у Черкасова эту тайну: «Николай Константинович, дело прошлое, не скажете, почему вы отказались от роли в “Верных друзьях”?» Черкасов, не задумываясь, ответил: «Вы понимаете, там есть эпизод, где я должен бегать в одних трусах. А я все-таки член обкома партии»[211]. В итоге роль Нестратова отдали Василию Меркурьеву, как будто рожденному для этой роли. А его персонаж в честь нового исполнителя был переименован из Николая Константиновича в Василия Васильевича.
По словам одесского журналиста Александра Галяса, съемки фильма проходили в Ростовской области «в пору бериевской амнистии, и трое молоденьких зэков, которым негде было жить, согласились стать охранниками на плоту: они сторожили не только плот, но и весь реквизит группы»[212].
Галич лучше других понимал неблагодарную работу сценариста и режиссера: ведь лавры всегда достаются актерам. После успеха «Верных друзей» он как-то заметил: «Да, вот напиши хоть сто сценариев, сними хоть сто фильмов, а восхищенный народ будет все равно пялиться только на актера»[213].
Однако положительных сторон все же было куда больше. Фильм принес Галичу хороший доход и решил все его материальные проблемы. А кроме того, теперь он мог свободно помогать своим друзьям. В 1954 году его давний соавтор Матвей Грин вернулся в Москву после второго лагерного срока. Как-то зимой, идя по Малой Бронной, он вдруг услышал с противоположной стороны улицы: «Матвей Яковлевич! Господи! Вы живы?» Оглянувшись, Грин увидел Галича, одетого в роскошную шубу и шапку: «Он кинулся ко мне, прижал к себе и заплакал…
— Вы “оттуда”? Ну, что я спрашиваю — конечно, оттуда, а Клава где? Куда вы идете? Нет, нет, пошли к нам!
Он потащил меня куда-то рядом — в дом своих родителей.
Собралась вся семья — я весь день и вечер рассказывал им свою эпопею. Он пошел меня провожать и все время спрашивал:
— Мотя! Чем помочь?
У метро мы расстались, дав друг другу слово встречаться. Я, добравшись до Казанского вокзала, сел в малаховскую электричку, зачем-то полез в карман куртки и обнаружил там конверт, а в нем триста рублей! При моей тогдашней неустроенности это были огромные деньги. Но дело даже не в этом — у меня много было знакомых в Москве, все знали о моих трудностях, но никто и не подумал помочь — не словами, не сожалением, не сочувствием, а просто деньгами. А вот Саша — подумал и сделал это! Да еще так деликатно, чтобы не поставить меня в неловкое положение»[214].
Союз писателей
В 1955 году Галича наконец принимают в Союз писателей СССР и выдают ему билет за номером 206[215]. Юрий Нагибин говорит, что Галич неоднократно подавал заявления в СП, но его всё не принимали — сказывались негативные отзывы на «Таймыр» и «Москва слезам не верит»[216]. Эту информацию косвенно подтверждает «Выписка из протокола № 18 заседания президиума ССП СССР от 28 декабря 1951 г.»: «Вопрос о приеме Галича А. А. в Союз писателей отложить до представления новой работы»[217].
Лишь после смерти Сталина ситуация начала меняться.
4 марта 1955 года заместитель председателя Кинокомиссии Н. Родионов и заместитель председателя Комиссии по драматургии СП В. Пименов напечатали письмо «В Комиссию по приему в члены Союза писателей»: «Комиссия по драматургии и Комиссия по кинодраматургии рекомендует в члены Союза писателей тов. ГАЛИЧА А. А.
Тов. Галич является автором пьес и сценариев, широко идущих и пользующихся любовью зрителей.
Им написана популярная пьеса “Вас вызывает Таймыр”, пьеса “Под счастливой звездой”, а также сценарий “Верные друзья”, с успехом прошедший по кинотеатрам страны.
Тов. Галич активно работает в литературе, сейчас им закончен новый сценарий о Чайковском, который принят студией “Ленфильм”.
Считаем, что тов. Галич вполне заслужил право быть принятым в члены Союза писателей»[218].
А через неделю, 11 марта, состоялось заседание комиссии по приему в члены СП. Приведем сохранившиеся фрагменты выступлений.
Олег Писаржевский: «Это — автор ряда пьес и сценариев (В. Н. Ажаев: у него случился третий инфаркт, и мы сделаем гуманное дело, если примем его в Союз). Это талантливый человек».
Александр Штейн: «Это человек очень талантливый, известен у нас в драматургии как одаренный человек, но с ошибками. Пьеса, написанная им в соавторстве с Исаевым, “Вас вызывает Таймыр” прошла 1000-й спектакль. Остальные пьесы написаны самостоятельно. Сейчас работает над большой вещью о Чайковском по поручению Министерства кинематографии вместе с Папавой. Очень одаренный драматург».
Александр Яшин: «Есть отзывы Папавы и Крона (читает)».
Георгий Мдивани: «Это бесспорная кандидатура, его надо принять в члены Союза».
И, наконец, еще раз Александр Яшин: «Кто за то, чтобы принять Гинзбурга (Галича) в члены ССП? (единогласно)».
В итоге постановили: «Рекомендовать Президиуму ССП принять ГИНЗБУРГА (ГАЛИЧА) А. А. в члены Союза советских писателей»[219].
К постановлению прилагаются два рекомендательных письма — Михаила Папавы «О пьесах Галича» (на трех страницах) и Александра Крона (на одной).
Но лишь два с половиной месяца спустя Галича примут в Союз, о чем сообщает «Постановление Президиума Московского отделения СП СССР» от 25 мая 1955 года ответственного секретаря Комиссии по приему в СП С. Баруздина[220]. И 31 мая Галичу было направлено поздравительное письмо за подписями того же Баруздина и председателя Комиссии Вс. Иванова: «Уважаемый Александр Аркадьевич!
Решением Президиума Московского отделения СП СССР от 25 мая с.г. Вы приняты в члены СП.
Горячо поздравляем Вас, Александр Аркадьевич, с приемом в Союз писателей и искренне желаем Вам сил, здоровья и новых, еще больших творческих успехов!»[221]
Однако в Союз кинематографистов Галича приняли сразу же, как только был создан оргкомитет, — в 1957 году (сам Союз будет официально зарегистрирован лишь восемь лет спустя), и выдали ему членский билет за номером 186[222].
Вообще же хрущевская «оттепель» затронула практически все сферы советской жизни, и особенно литературу и искусство. Именно на этот период приходится самый мощный всплеск драматургической активности Галича. Во второй половине 50-х он работает литературным консультантом в самодеятельном рабочем коллективе Дворца культуры московского автозавода имени И. А. Лихачева[223] (в театральной студии этого ДК в 1957 году режиссер С. И. Туманов поставил пьесу Галича «За час до рассвета»[224]), а также помогает начинающим драматургам: например, 22 февраля 1956 года он заключает с «Мосфильмом» договор, согласно которому «СТУДИЯ поручает, а тов. ГАЛИЧ А. А. принимает на себя работу по литературной консультации и редактированию литературного сценария Д. Ганелиной “Во имя правды”»[225].
Продолжается работа и над собственными произведениями.
В 1955 году Галичем написан сценарий «С новым счастьем!» по мотивам повести В. Дягилева «Доктор Голубев»[226], и через год режиссер Абрам Роом снимает по нему картину «Сердце бьется вновь»[227]. Также Галич активно работает для студии «Союзмультфильм». В 1955 году на экраны вышел кукольный фильм «Упрямое тесто» по сценарию, написанному им совместно с А. Зубовым[228], а в 1958-м — «Мальчик из Неаполя» (по сказке итальянского писателя Джанни Родари)[229].
Однако главная его драматургическая работа, несмотря на грянувшую «оттепель», вновь не прошла цензуру.
«Матросская тишина». Возвращение к теме
25 февраля 1956 года в Москве завершался XX съезд Коммунистической партии. В этот день на закрытом заседании Хрущев прочитал свой знаменитый доклад о «культе личности» Сталина. Хотя доклад был крайне осторожным, а по нынешним меркам — и просто лживым, но даже то, что было сказано в нем, произвело на людей ошеломляющее впечатление. Когда же из тюрем и лагерей вышли на свободу миллионы заключенных, у многих появилась иллюзия, что партия навсегда очистилась от своего прошлого и больше ничего подобного не повторится.
Многие писатели — например, Окуджава — даже вступили в партию.
Галич в партию не вступил, так как понимал больше других, но все же и у него затеплилась надежда, что жизнь в стране наконец наладится, и он дописал к «Матросской тишине» заключительный — четвертый — акт, который придавал пьесе оптимистическое звучание.
Можно сказать, что в «Матросской тишине» в сжатом виде отразилась вся почти сорокалетняя (на тот момент) история режима.
В 1946 году пьеса состояла из трех актов, каждый из которых был привязан к конкретному историческому периоду: 1929, 1937 и 1944 годам. Теперь добавился еще один акт, действие в котором происходит в мае 1955-го — в десятую годовщину победы над гитлеровской Германией. И оставшиеся в живых персонажи наконец встречаются друг с другом.
Из магаданского лагеря вышел Мейер Вольф, дядя Давида Шварца. Седой, хромой, со стальными зубами, но, несмотря на это, «он был даже красив — внушительной и спокойной стариковской красотой». Освободившись, Вольф прислал письмо в Москву на имя Давида, но ему ответил его сын — тоже Давид. После чего Вольф прилетел в Москву и был поражен их сходству.
Бывший секретарь партийного бюро Московской консерватории Иван Чернышев во время их встречи рассказал, что 20 декабря 1952 года его исключили из партии «за потерю бдительности и политическую близорукость», но буквально накануне восстановили. В течение более двух лет он, по его собственному признанию, думал: надо ли ему подавать на пересмотр или нет? На этом месте в посевовском издании 1974 года Галич добавил сноску, где в нарушение законов жанра напрямую обращается к своему персонажу, делясь с ним жизненным опытом: «…Не надо было подавать на пересмотр, Иван Кузьмич, теперь-то я могу вам сказать со всею определенностью — не надо было подавать! Если вы честный человек — а мне, автору, хочется думать, что вы, хоть и наивны и даже, может быть, глуповаты, но честны, — так вот, если вы честный человек, то уже через несколько лет вам снова придется расстаться с вашим партийным билетом, вас заставят умереть, как заставили умереть старого большевика, писателя Ивана Костерина, вас загонят в “психушку”, как генерала Петра Григоренко… Впрочем, и об этом, в ту пору, мы еще не знали, а догадываться и думать — боялись…»[230]
Действительно, мало кто мог тогда предположить, что уже к середине 60-х годов в стране снова наступят «заморозки» и возобновятся показательные процессы. Кстати, «старого большевика, писателя», упомянутого Галичем, звали не Иван, а Алексей Костерин (17.03.1896—10.11.1968).
В четвертом действии Галич дописывает биографии своих персонажей и делает их всех положительными. К примеру, Иван Чернышев, который в первых трех действиях выглядел убежденным коммунистом и вполне типичным партработником, теперь прозревает и на реплику сидельца Мейера Вольфа о том, что молодежь должна принимать в наследство от своих отцов «только добрые дела, только подвиги», возражает: «Вы сказали — добрые дела! (В упор взглянул на Вольфа.) А заблуждения? Преступления? Ошибки?! Нет, нет, погодите, дайте мне договорить! Вчера мне вернули партийный билет! И вот я шел из райкома и так же, как и вы, заглядывал в лица встречным… Когда-то я воевал на гражданской, потом учился, был секретарем партийного бюро консерватории, начальником санитарного поезда, комиссаром в госпитале… Работал в Минздраве… После пятьдесят второго мне пришлось, как говорится, переквалифицироваться в управдомы… <…> Нет, Мейер Миронович, не так-то все просто!.. И они, эти молодые, они обязаны знать не только о наших подвигах… Мы сейчас много говорим о нравственности. Нравственность начинается с правды! (Посмотрел на портрет старшего Давида.) Вот ему когда-то на один его вопрос я ответил трусливо и подло — разберутся! Понимаете? Не я разберусь, не мы разберемся, а они там разберутся!»
Кроме того, выясняется, что Давид Шварц умер не в санитарном поезде, как можно было бы подумать, исходя из концовки третьего акта, а в челябинском госпитале на руках у того самого Ивана Чернышева.
В конце четвертого акта 14-летний Давид — сын Тани и погибшего на войне Давида Шварца — беседует с 10-летним мальчиком Мишей, сыном Ханы, которая в свое время была безответно влюблена в старшего Давида.
Младший Давид беседует с Мишей явно снисходительно и свысока (это проявляется даже в авторских ремарках: со смешком, презрительно, явно уклоняясь от ответа, сурово), так же как и 24-летний Александр Гинзбург беседовал в 1942 году в Ташкенте с 17-летним Сергеем Хмельницким: «Со мной он поговорил раза два или три о чем-то необязательном, приветливо и со слабо скрытым высокомерием. Терпеливо выслушал мои стихи про Врубеля и Рериха и высказал что-то сурово-патриотическое, — дескать, такое время, и как же я могу». Автобиографичность, как говорится, налицо.
В редакции 1956 года пьеса заканчивается описанием торжественного салюта за окнами дома и словами младшего Давида: «Знаешь, мама… Мне почему-то кажется, что я никогда не умру! Ни-ког-да!..»
Тогда для подобных эйфорических настроений имелись все основания: десять лет назад закончилась самая кошмарная в истории человечества война, массовые репрессии, казалось, безвозвратно отошли в прошлое, и раз уж после всего этого ты остался жив, то как же не поверить в то, что тебе суждена вечная и счастливая жизнь?! Однако сам Галич в «Генеральной репетиции» (1973) безжалостно разделается с иллюзиями, возникшими и у него, и у многих других после XX съезда: «И опять мы поверили! Опять мы, как бараны, радостно заблеяли и ринулись на зеленую травку, которая оказалась вонючей топью!» Там же он назовет свою пьесу «почти наивно-патриотической» и подробно расскажет, с какими непреодолимыми препятствиями столкнулись попытки поставить ее в Москве и Ленинграде.
Генеральная репетиция
Так назывались воспоминания Галича, посвященные событиям вокруг постановки «Матросской тишины».
Дописав четвертый акт, Галич прочитал пьесу нескольким друзьям. Хотя, наученный горьким опытом, он решил не предлагать ее в театры, но однажды к нему домой пришли двое — актер Центрального детского театра Олег Ефремов и выпускник школы-студии МХАТа Михаил Козаков, работавший в Московском драмтеатре имени Маяковского, где уже сыграл главную роль в пьесе Галича «Походный марш». В «Генеральной репетиции» Галич так описывает их визит: «Они сказали, что достали у кого-то из моих друзей экземпляр пьесы, прочли ее на труппе, пьеса понравилась, и теперь они просят меня разрешить им начать репетиции с тем, чтобы Студия открылась как театр двумя премьерами: пьесой В. Розова “Вечно живые” и “Матросской тишиной”. Так начался год нашей дружной, веселой, увлекательной работы…»
Однако со слов Михаила Козакова выходит, что их совместная работа продлилась от силы несколько месяцев — с осени 1957-го до января 1958-го, когда состоялась вторая генеральная репетиция: «Галич дал мне ее прочесть, полагая, что главные роли могут сыграть Л. Н. Свердлин — отца, и я — сына. Я, как говорят актеры, загорелся. Дал пьесу Свердлину, тот — Охлопкову. Последовал категорический отказ. Я стал уговаривать Николая Павловича. Он:
— Забудь и думать. Еврейский вопрос.
— Но ведь все кончится, как надо.
— Да, но эта пьеса в нашем театре не пойдет.
В то время я уже шустрил в “Современник” и даже бывал у них на репетициях в маленьком зале Школы-студии, где им была предоставлена возможность работать. Осенью 57-го я присутствовал там на обсуждении репертуара, с которым у них было не густо. <…> Я рассказал о “Матросской тишине”. Чуть ли не в тот же вечер мы приехали к Галичу, и он прочел пьесу, которая была принята в репертуар»[231]. О существовании этой пьесы Козаков объявил им так: «Ребята, я знаю очень хорошую пьесу Галича. Мы в нашем театре уже играли его “Походный марш”. Я с ним познакомился, он дал почитать пьесу. “Матросская тишина” называется. Попросите у него, почитайте»[232].
Однако, по словам Олега Табакова, реплика Михаила Козакова была куда более эмоциональной: «Прилетел откуда-то Миша Козаков, и смысл его речи был таков: “Что вы вообще репетируете?! Вот у меня пьеса ‘Матросская тишина’!” Мы прочли ее — действительно было впечатление разорвавшейся бомбы»[233].
Как вспоминает Игорь Кваша, «“Матросская тишина” произвела на всех огромное впечатление. Вот она — наша пьеса. Надо немедленно начинать работать. Пьеса была залитована[234], правда, не общесоюзным, а ленинградским литом. Ее, по слухам, собирались ставить в Театре имени Комиссаржевской, но то ли не разрешили, то ли не получилось, однако лит был. И добиваться разрешения на нее было не нужно. “В поисках радости” отложили.
Мы начали репетировать. Если раньше нами руководило главным образом отрицание существующей театральной практики и существующей драматургии, которую мы считали лакировочной, то здесь определяющими стали художественные задачи»[235].
Поскольку у студийцев не было своего помещения, они проводили репетиции в здании МХАТа, когда у них был выходной день — понедельник. И если до этого во МХАТ приходило не так много зрителей, то теперь по понедельникам был настоящий аншлаг![236] А потом МХАТ арендовал для них Дом культуры издательства «Правда», где можно было свободно проводить дневные репетиции, что они и делали «по двенадцать часов с маленькими перерывами на обед»[237].
У «Матросской тишины» был разрешительный номер Главлита, и ее репетиции шли не только в Москве, но и в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, чей худсовет в конце мая 1957 года принял пьесу к постановке, а 29 мая состоялся прогон спектакля. Однако какое-то очень высокое начальственное лицо вызвало директора театра и приказало ему прекратить репетиции. Тот растерялся: «Но, позвольте, спектакль уже на выходе, что же я скажу актерам?!» Подобные мелочи начальственное лицо не интересовали, поэтому оно лишь усмехнулось и ответствовало: «Что хотите, то и скажите! Можете сказать, что автор сам запретил постановку своей пьесы!..»[238] В результате спектакль был снят с репертуара. То же повторилось в нескольких московских театрах. У них также имелось разрешение Главлита, но все знали, что пьеса запрещена, хотя чиновники и не говорили это прямо, а всего лишь «не рекомендовали» ее ставить и предлагали «одуматься».
Постепенно большинство постановок было свернуто, и единственным местом, где продолжались репетиции, оставалась небольшая школа-студия МХАТа, группа выпускников которой собиралась премьерой «Матросской тишины» отметить открытие театра «Современник». На первых порах им даже оказывал поддержку секретарь парткома МХАТа Николай Сапетов, но и это не помогло, а сам Сапетов впоследствии получил строгий выговор с предупреждением — за потерю бдительности и политическую близорукость.
15 апреля 1956 года студийцы показали свою первую самостоятельную работу — спектакль Олега Ефремова «Вечно живые» по одноименной пьесе Виктора Розова. И вскоре начались репетиции «Матросской тишины» под руководством того же Ефремова, который решил дать пьесе другое название: «Моя большая земля» — по последним словам Давида в третьем действии. Именно это название было указано в программке, отпечатанной для зрителей генеральной репетиции.
Но для начала предстояло выработать концепцию спектакля. «Кто-то принес “Матросскую тишину”, которая всем безумно понравилась, — рассказывал в одном из интервью Игорь Кваша. — Решили делать ее. Но долго даже с первых реплик не могли сдвинуться. <…> Первый период репетиций был очень подробный, жутко мучительный, но очень радостный, потому что мы понимали, что находим что-то свое. Конечно, нас вел Ефремов, предлагал методику, путь, но работали все вместе. Все сидели на репетиции. Независимо от того даже, занят ты в пьесе или нет. <…> Хотелось сказать со сцены правду… У нас был тогда термин — мы его у Немировича-Данченко взяли: “мужественная простота”. Как воплотить это на сцене? Что он имел в виду? В “Матросской тишине” мы пытались это понять и добиться этой “мужественной простоты”. Мы знали, что у “Матросской тишины” есть ленинградский “лит”, разрешение тамошней цензуры — значит, пьеса разрешена к представлению. Но когда мы вчерне сделали первый акт, пришел Солодовников — директор МХАТа и сказал, что лит с пьесы снят. Соответственно, играть нельзя. Но мы очень быстро — не то что мы схалтурили, но уже было такое понимание, чего мы хотим от этой работы, и так был проработан первый акт, что второй, третий и четвертый акты сделали месяца за полтора-два. И показали целиком пьесу»[239].
Более подробно эту ситуацию Игорь Кваша описал в своих воспоминаниях. Над первым актом пьесы студийцы проработали примерно полтора месяца — старались нащупать «настоящие человеческие связи». А когда первый акт был предварительно готов, «пришел Солодовников.
— Дело в том, что с пьесы снят ленинградский лит, надо подумать, что делать. Может быть, вам не надо репетировать эту пьесу и найти что-то другое?
Мы на дыбы — это совершенно невозможно!
— Хорошо, давайте так: сделайте какую-нибудь болванку всей пьесы и покажите, мы посмотрим и после этого что-то решим. Только надо сделать срочно. Невозможно существовать в подвешенном состоянии. И потом — я же несу ответственность, вы под крылом Художественного театра»[240].
За следующие полтора-два месяца студийцы сделали еще три акта, причем особые трудности у них возникли с четвертым («оптимистичным»), Галич также участвовал в этом процессе и постоянно переделывал свою пьесу.
Наконец без разрешения начальства был сделан первый прогон спектакля. На нем присутствовало человек 400–500, среди которых были друзья мхатовцев, а также многочисленные студенты. Успех был грандиозный, но Солодовникова разозлило, что спектакль был сыгран, несмотря на запрет. Кваша вспоминает: «Взорвался Солодовников: “Как вы посмели позвать людей без нашего разрешения? И до того, как показали нам?” Назначили день приемки. Привезли билетеров из МХАТа, они стояли вокруг зала, все двери закрыли, внутрь никого не пускали. Дошло до того, что не пустили Мизери, участницу спектакля. Она была занята в первом действии, потом свободна, хотела посмотреть спектакль из зала, но ей решительно преградили путь»[241].
«Приемка», или вторая генеральная репетиция, состоялась в январе 1958 года в Доме культуры издательства «Правда». В зале действительно было мало публики: представители Министерства культуры; горкомовское начальство; сам автор пьесы Галич вместе с женой Ангелиной; создатель спектакля Ефремов; ленинградский режиссер Георгий Товстоногов, о роли которого во всем этом действе будет сказано особо; режиссер и актер МХАТа Григорий Конский; драматург Леонид Зорин; искусствовед Виталий Виленкин, который присутствовал на всех ночных репетициях «Матросской тишины»[242] (по словам Игоря Кваши, если бы не Виленкин, театр «Современник» вообще мог не возникнуть), и еще несколько человек.
Кое-кому, правда, удалось прорваться на репетицию нелегально, как, например, Елизавете Исааковне Котовой, которая в 1963–1977 годах будет заведовать литературной частью «Современника»: «Состоялся закрытый просмотр. Понаехали из ЦК, из горкома. Ни одного постороннего не пустили в зал. Меня ребята из “Современника” протащили в оркестровую яму»[243].
Роли в спектакле распределились следующим образом. Евгений Евстигнеев играл старика Абрама Шварца; Игорь Кваша — Давида Шварца; Олег Табаков — пианиста Славку Лебедева (во 2-м акте) и райеного солдата-антисемита Женьку Жаворонкова (в 3-м); Николай Пастухов — Митю Жучкова (школьного приятеля Давида); Лилия Толмачева — Таню; Светлана Мизери — Хану; Людмила Иванова (будущая Шурочка в «Служебном романе») — Людмилу; Галина Волчек — старуху Гуревич; Михаил Зимин — Мейера Вольфа; Олег Ефремов играл парторга Чернышева и выступал в роли Рассказчика.
Важность пьесы для того времени точно сформулировала в одном из интервью Людмила Иванова: «Серьезным событием стала “Матросская тишина”, тогда вот я и познакомилась с ее автором, Александром Галичем. В его пьесе жила правда, мне до боли известная. Мою семью репрессии миновали. Но когда говорят, что о них ничего не знали, не догадывались даже, верится с трудом. У нас в семье обо всем догадывались: в доме опечатывались соседские двери, исчезали люди. Мама была до смерти напугана и боялась всего. Так что все события, описанные Галичем, я ощущала остро».
А Галина Волчек, в 1957 году ставшая женой Евстигнеева, вспоминала: «На заре “Современника” мы репетировали пьесу А. Галича “Матросская тишина”, где Евстигнеев играл старика-еврея, попавшего в гетто. Там была сцена, в которой он как бы видением является бредящему умирающему сыну и рассказывает о своей гибели. В его очень обыденном повествовании был такой подлинный трагизм, что каждую репетицию мы, его партнеры, толпились в кулисе и хлюпали носами. Хотелось заорать: “Сволочи! За что же вы его убили?!”»[244]
Во время второй генеральной репетиции в первом ряду зала сидели два самых главных зрителя: дамочки с почти одинаковыми фамилиями — Соловьева и Соколова. Первая была представителем Московского горкома КПСС, вторая — инструктор ЦК КПСС. В своих воспоминаниях Галич пишет: когда заканчивалось третье действие, ему показалось, что в темноте кто-то всхлипывает, но по окончании этого действия он увидел, что ошибся — «никто и не думал плакать», а Соловьеву «окончательно расхватил насморк». Однако Олег Табаков утверждает, что Соловьева с Соколовой именно плакали, а не сморкались: «Это были две женщины — я не буду называть их фамилии, — которые не знали, что делать. Талант Евстигнеева был так мощен, что и они плакали»[245]. О том же свидетельствует Владимир Кардин: «Моя мать едва не всю жизнь проработала в школе рабочей молодежи этого издательства. Школа помещалась в тыльной части Дома культуры. Мне не составило труда проникнуть внутрь и стать свидетелем того, как номенклатурные дамы, платочком промокая слезоточивые глаза, следили за спектаклем»[246].
Между тем публично эти дамы высказались так, как им полагается по должности. По окончании первого действия в зале зажегся свет, и Соловьева сказала на весь зал: «Никакой драматургии… Ну совершенно никакой драматургии!..»
Перед началом третьего действия в бой вступила тяжелая артиллерия. Режиссер Георгий Товстоногов, которого отделяло от Галича несколько рядов, вдруг обернулся к нему и громко — чтобы всем было слышно — объявил: «Нет, не тянут ребята!.. Им эта пьеса пока еще не по зубам! Понимаете?!» Так эту фразу воспроизвел Галич в своих воспоминаниях «Генеральная репетиция». Для сравнения приведем еще несколько ее версий. Первая принадлежит Михаилу Козакову: «Пьеса неплохая, но молодые актеры “Современника” художественно несостоятельны»[247]; вторая — Олегу Табакову: «Пьеса такая хорошая, а ребята такие молодые. Пройдет несколько лет, и сыграют они это всё лучшим образом»[248]; и третья — Игорю Кваше: «Мы играли при пустом зале, а ведь до этого уже ощутили реакцию публики на первой генеральной. Тогда зал дышал вместе с нами. А тут — мертвая тишина. Кончился прогон, мы разгримировались, пришли к ним, они уже посовещались немного без нас и, очевидно, приняли решение. А при нас что-то вякали-мякали, потупив взор. Удивил Товстоногов. Думаю, он жутко заревновал. И придумал, к сожалению, формулировочку, за которую чиновники тут же уцепились. Мол, вы замечательные ребята, прекрасно играете. Но зачем вам это нужно, зачем из десятого класса — сразу в выпускной курс института? Для вас это слишком сложный материал. Ну, они и стали на это напирать. Мол, вам рано это играть. Вдобавок пьесу к тому времени уже запретили литом, то есть цензурой»[249].
Спорить с вердиктом признанного мэтра — главного режиссера Ленинградского БДТ имени Горького — двадцатилетние актеры «Современника», вчерашние студенты, конечно, не могли. А находившийся рядом Солодовников был счастлив: теперь можно смело запрещать пьесу! На вечере в Доме кино (27.05.1988) выступавший после Михаила Козакова сценарист Леонид Агранович возразил ему: «Миша, мне Александр Аркадьевич сказал однажды, что Солодовников придумал хорошую формулу для запрещения “Матросской тишины”: “Это может вызвать нежелательную реакцию как с одной стороны, так и с другой стороны”» (то есть со стороны евреев и антисемитов). Вполне возможно, однако эта формула наверняка была произнесена Солодовниковым уже после того, как высказался Товстоногов.
Галич в своих воспоминаниях пишет, что, «сам того не желая, Товстоногов подсказал спасительно обтекаемую формулировку». В действительности же Товстоногов прекрасно знал, что говорил. В 1987 году были опубликованы воспоминания Солодовникова, которые проливают свет на эту загадочную историю. Начисто забывая о своей решающей роли в запрете «Матросской тишины», он, тем не менее, приводит один любопытный документ, помогающий понять мотивы, которыми руководствовался Товстоногов, вынося свой вердикт. Документ представляет собой письмо Солодовникова от 27 сентября 1957 года министру культуры СССР Н. А. Михайлову по поводу необходимости создания «Современника»: «Художественным руководителем Театра молодых актеров предлагаю назначить Г. А. Товстоногова. Для этого с 1 января 1958 г. Товстоногова надо перевести в штат Художественного театра, где он должен до конца сезона поставить спектакль и тем творчески утвердить себя. С Г. А. Товстоноговым на этот счет имеется полная договоренность, и надо лишь преодолеть возможное сопротивление ленинградских организаций»[250]. На следующей странице Солодовников дает свой комментарий. Оказывается, в том же 1957 году Товстоногов «получил звание народного артиста СССР. К тому же ленинградские организации выдвинули его кандидатом в депутаты Верховного Совета. Я получил (уже после записки министру) письмо Товстоногова, содержавшее деликатный отказ от ранее данных заверений. Георгий Александрович писал, что его отзыв из Ленинграда теперь может быть решен только в самых высших инстанциях».
Итак, Товстоногову было неловко за то, что он подвел Солодовникова, нарушив договоренность с ним, и поэтому режиссер решил эту неловкость загладить. По просьбе Солодовникова он приехал в Москву на генеральную репетицию «Матросской тишины» и, посмотрев спектакль, произнес нужную фразу, после чего пьеса была снята с репертуара. Вот и вся история.
Когда закончилось третье действие, Соколова повернулась к Солодовникову и произвела, как говорится, контрольный выстрел в голову: «Как это все фальшиво!.. Ну ни слова правды, ни слова!..» Тут уже Галич не выдержал и крикнул ей: «Дура!»
Однако номенклатурные дамочки нисколько не обиделись — Соловьева только покачала головой, а Соколова даже улыбнулась…
В конце генеральной репетиции Галич, по словам драматурга Леонида Зорина, «сидел мертвенно-бледный, с осунувшимся, отрешенным лицом. Жена его шепнула мне на ухо: “Этого дня он не переживет”. Пережито было еще немало»[251].
После запрета спектакля Ефремов уговорил Галича попроситься на прием к Соколовой, чтобы спасти ситуацию. Галич так и сделал и через десять дней имел с ней приятную беседу в ее служебном кабинете в здании ЦК КПСС на Старой площади.
Пересказывать содержание этой беседы во всех деталях не имеет смысла — Галич подробно описал ее в своих воспоминаниях. Но некоторые наиболее характерные выражения, показывающие истинную причину запрета спектакля, нельзя не процитировать: «Вы что же хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?! Это евреи-то! <…> Вот, говорят, я сама слышала, будто мы, как при царском режиме, собираемся процентную норму вводить!.. Чепуха это, поверьте!.. Никакой процентной нормы мы вводить не собираемся, но, дорогие товарищи, предоставить коренному населению преимущественные права — это мы предоставим!..»
Особенное негодование вызвала у Соколовой сцена в санитарном вагоне, где раненому Давиду является его покойный отец: «То он жуликом был, то вдруг в герои вышел — ударил гестаповца скрипкою по лицу! Да не было этого ничего, товарищ Галич, не было! <…> А можете ли вы, товарищ Галич, гарантировать, что на вашем спектакле — если бы он, конечно, состоялся — не будут происходить всякие националистические эксцессы?! Не можете вы этого гарантировать! И что же получится? Получится, что мы сами, своими, как говорится, руками даем повод и для сионистских, и для антисемитских выходок…»
После запрета спектакля на сцене МХАТа актеры и режиссер пытались его отстоять. Они написали письмо в горком партии. И когда их пригласили на прием, Олег Ефремов взял с собой Олега Табакова, Петра Щербакова и Людмилу Иванову, которая славилась своим умением ставить в тупик чиновников, ловко жонглируя цитатами из Маркса и Ленина. Но и тут ничего не получилось[252].
В 1964 году Галичу сообщили, что обнаружился молодой человек, который идет по его стопам. Этим человеком был 30-летний прозаик Эдуард Шульман, написавший повесть «Красная звезда». Одна сцена в ней напоминала сцену в «Матросской тишине»: там тоже старик бросается на охранника… При встрече Галич посоветовал Шульману поменять название повести — не «Красная звезда», а что-нибудь другое. Тот загрустил, но Галич его подбодрил: «Нит гедайге! Не огорчайтесь! Это не мы изменили советской власти. Это советская власть, как женщина, изменила нам»[253].
В самом деле, по позднейшему признанию Галича, вторая редакция пьесы «Матросская тишина» была его «последней иллюзией, последней надеждой, последней попыткой поверить в то, что все еще как-то образуется», и после запрета спектакля эта надежда рухнула окончательно.
Однако Олег Табаков спрятал пьесу у себя дома[254] и в 1970 году, став директором «Современника», предпринял еще несколько попыток возродить спектакль — сначала обратился к председателю Госкомитета по радио- и телевещанию Сергею Лапину, который был назначен на эту должность 17 апреля: «…я был настолько глуп, что послал эту пьесу Сергею Лапину. Дескать, вот сейчас отпускают евреев, а мы давайте расскажем, какие они хорошие. Лапин вызвал меня и сказал: “Надо найти человека, который бы вам объяснил, как нехороша эта пьеса”, — и предложил сразу же альтернативу: литературный текст Вадима Кожевникова “Знакомьтесь, Балуев”. Я застеснялся и ушел. Также пошел к ныне покойному П. Тарасову — начальнику Главного управления театров Министерства культуры. Дескать, давайте. <…> Тот уже был более пунктуален — с большим количеством замечаний красным карандашом на страницах пытался доказать, как это неверно»[255].
«Аэропорт»
В 1955 году на свои гонорары за сценарий к фильму «Верные друзья» Галич купил квартиру в кооперативном доме рядом со станцией метро «Аэропорт» по 2-й Аэропортовской улице, 7/15 (ныне — Черняховского, 4).
По плану там было построено рядом несколько домов, которые сразу окрестили «писательским гетто». Тогда же, по воспоминаниям Елены Веселой, появилась шутка: если сбросить парочку фугасных бомб в районе метро «Аэропорт», страна может разом лишиться всей своей великой литературы[256].
Несомненно, власти разрешили этот проект с далеким расчетом — компактное проживание писателей значительно облегчало слежку за ними со стороны КГБ. А кроме того, район станции метро «Аэропорт» был своеобразным «городком в городке»: там располагались, например, многочисленные мастерские, где любой желающий мог сделать ксерокопию — большую редкость по тем временам. И с этой точки зрения район также был весьма привлекателен для писателей.
В мае 1957 года дом номер 7/15, построенный жилищно-строительным кооперативом «Московский писатель», был сдан в эксплуатацию. Всего в нем было семь подъездов и сто сорок квартир, в которые и въехали писатели со своими семьями. Галич поселился там вместе с Ангелиной и ее дочкой Галей в третьем подъезде на втором этаже в квартире № 37, а Алена осталась со своей мамой Валентиной, которая после развода с Галичем поселилась в доме на улице Станиславского, в Леонтьевском переулке, рядом с музеем Станиславского. Когда они ссорились, Алена переезжала к отцу и всякий раз была свидетелем идеального порядка, который царил у него на рабочем столе: «Когда он переехал в район станции метро “Аэропорт”, где я его навещала, у него была небольшая длинная узкая комната, у окна углом стоял письменный стол, тахта, небольшой комнатный рояль. Остальное пространство занимали книги. <…> А еще он выписывал ежемесячники американской драматургии, они были бумажными. И папа специальным ножом из слоновой кости разрезал страницы. Он свободно читал на английском»[257].
По воспоминаниям жены Виктора Драгунского, актрисы Аллы Драгунской, Галич, узнав, что она закончила Иняз, обрадовался и сказал, что это здорово и что он может дать ей почитать хорошие английские детективы, которые специально собирает. Особенно, добавил Галич, он «уважает старушку Агату Кристи» и читает ее книги в подлиннике. Драгунская удивилась, но Галич сказал: «Да, овладел. Приходите в гости. Поговорим на “аглицком”»[258].
В новом доме у метро «Аэропорт» помимо Галича поселилось множество других знаменитостей: Константин Симонов, Владимир Войнович, Александр Бек, Татьяна Бек, Юрий Нагибин, Евгений Габрилович, Арсений Тарковский, Александр Штейн, Алексей Арбузов, Виктор Розов, Виктор Шкловский и т. д. Кто-то из писателей в шутку назвал улицу Аэропортовскую — Раппопортовской, поскольку примерно половину членов писательского кооператива составляли евреи: «Одних только Гинзбургов в доме проживало трое: Лев Гинзбург, Александр Галич и Лазарь Лагин (автор “Старика Хоттабыча”)»[259].
«Город на заре»: второе рождение и первый конфликт
12 июня 1957 года на сцене вахтанговского театра состоялась премьера нового варианта спектакля «Город на заре», поставленного Евгением Рубеновичем Симоновым. Сюжет пьесы остался тот же — поменялись только почти все исполнители, да еще троцкист Борщаговский был переименован в Аграновского. Примечательно, что обе эти фамилии носили вполне конкретные люди: театральный критик Александр Борщаговский, подвергавшийся гонениям во время кампании против «безродных космополитов», и журналист «Известий» Анатолий Аграновский — друг Галича.
Будучи одним из создателей пьесы, Галич, конечно же, пошел на новую постановку, но без энтузиазма. Во-первых, он к тому времени уже прекрасно понимал идейную ложь спектакля. Во-вторых, в 1957 году Всесоюзное управление по охране авторских прав (ВУОАП) опубликовало пьесу «Город на заре», и на обложке стояла фамилия одного Арбузова. Правда, в предисловии «О моих соавторах», написанном 5 февраля, он этот момент специально оговорил: «Пьеса эта не является делом рук одного человека. Перед нами результат совместных усилий автора, режиссера и актеров-исполнителей. И в этом, мне кажется, и состоит ее основной интерес, ибо в истории драматургии пример создания “Города на заре” почти уникален», и упомянул целый ряд студийцев, создававших эту пьесу, в том числе Галича. Однако во время постановки пьесы в Театре Вахтангова на афише опять значилась только фамилия Арбузова. Это и возмутило Галича, равно как и сам факт постановки спектакля, о чем он прямо высказался в «Генеральной репетиции»: «Когда <…> Арбузов опубликовал эту пьесу под одной своей фамилией, он не только, в самом прямом значении этого слова, обокрал павших и живых.
Это бы еще полбеды!
Отвратительнее другое — он осквернил память павших, оскорбил и унизил живых!
Уже зная все то, что знали мы в эти годы, — он снова позволил себе вытащить на сцену, попытаться выдать за истину ходульную романтику и чудовищную ложь: снова появился на театральных подмостках троцкист и демагог Борщаговский, снова кулацкий сынок Зорин соблазнял честную комсомолку Белку Корневу, а потом дезертировал со стройки, а другой кулацкий сынок Башкатов совершал вредительство и диверсию.
Политическое и нравственное невежество нашей молодости стало теперь откровенной подлостью.
В разговоре с одним из бывших студийцев я высказал как-то все эти соображения».
Не будем вешать всех собак на Арбузова. Во-первых, он «вытащил» спектакль не по своей инициативе, а по инициативе одного из бывших студийцев Максима Селескериди (свидетельство режиссера Бориса Голубовского[260]), который играл в постановке 1957 года ту же роль, что и в постановке 1941-го — роль мечтателя-интеллигента Зяблика. Что же касается бывшего студийца, то под ним подразумевается Исай Кузнецов, который утверждает, что Галич даже написал Арбузову соответствующее письмо: «Когда заново отредактированный Арбузовым вариант пьесы был поставлен в Театре им. Вахтангова за подписью одного Арбузова, Галич написал ему резкое письмо, в котором, осуждая его, напомнил о тех студийцах-авторах, что не вернулись с войны»[261]. Однако какой смысл Галичу было писать письмо, если он прямо в лицо Арбузову высказал все, что думает о его поступке? Свидетелем этой сцены, которая случилась в 1957 году, оказалась переводчица Мирра Агранович, жена сценариста Леонида Аграновича.
Когда театр Вахтангова проводил генеральную репетицию спектакля, на афише стояла только фамилия Арбузова. Все актеры были этим крайне удивлены, так как знали историю создания спектакля. И вот в антракте произошла следующая сцена: «По центральному проходу в партере шли навстречу друг другу Галич и Арбузов, оба вальяжные, красивые, барственные, франты.
Сошлись как раз против места, где я сидела, так что хорошо было мне все видно и слышно. Алексей Николаевич протянул руку.
Александр Аркадьевич убрал руки за спину. Алексей Николаевич изумился — забавно, дескать, улыбнулся.
Александр Аркадьевич громко и отчетливо сказал: “Я считаю, что это, — кивок на сцену, — литературное мародерство. Хоть бы помянули тех, кого нет в живых”.
Обошел опешившего классика и пошел дальше»[262].
Между тем данный конфликт имел длинную предысторию. На этот счет есть подробное свидетельство Исая Кузнецова, из которого следует, что дело обстояло гораздо сложнее, чем его изложил Галич: «…самое удивительное и даже парадоксальное — это то, что мы — я, Гердт, Мила Нимвицкая, Сережа Соколов, Максим Селескириди (кажется, присутствовал при этом Саша Галич и еще кто-то), именно мы дали Арбузову разрешение поставить под пьесой свое имя. Случилось это в 49-м, может быть в 50-м, на его квартире, которую он делил с Паустовским. Он сообщил нам, что Театр имени Ленинского комсомола предлагает ему подготовить вариант “Города”, приемлемый для тогдашней цензуры, при условии, что автором будет числиться он один. <…> В первый момент мы все сказали — да, конечно! <…> Однако тут же стало ясно, что зритель увидит пьесу в искалеченном, оскопленном виде. Так, например, придется, как сказал Арбузов, выбросить линию Зорина, придется переакцентировать образ Борщаговского, вообще все “выпрямить”. К чести и нашей, и Арбузова мы решили, что в таком виде воскрешение “Города” нам не нужно. <…> Но чувство у меня такое, что мы не вовсе хоронили идею возрождения нашей пьесы, к которой относились с ностальгической нежностью. <…> Когда через шесть-семь лет он начал работать над вариантом пьесы для Театра Вахтангова, он уже не нашел нужным посоветоваться с нами, считая, что в свое время мы такое согласие на это уже дали. Но время-то было другое! <…> Он жил тогда в Переделкине, в только что отстроенной даче, с огромным кабинетом с камином и прочими онёрами. Мы частенько заходили к нему, он говорил о своей работе над пьесой, она не была для нас неожиданной. Ну, скажем, для меня, Гердта, Львовского, Милы Нимвицкой. Он даже просил нас кое-что припомнить из подробностей, не вошедших в текст пьесы. <…> В тот запомнившийся мне день он пригласил нас — меня, Зяму, Мишу и прочел нам посвящение. Помню, что растерялся всерьез. Почему посвящение? <…> Ведь все мы были авторами в равной степени… Ну, хорошо, не в равной. Но многих уже нет. Не помню, с чего я начал, но, стараясь не обидеть Арбузова, сказал, что надо назвать всех, кто участвовал в создании пьесы, и в первую очередь тех, кто не вернулся с войны. Смущены и растеряны были все, и мое предложение было встречено с облегчением и одобрением. Общим. В том числе и со стороны Арбузова»[263].
В 1957 году Галич демонстративно не подал Арбузову руки, в результате чего у них возник серьезный конфликт — по словам Алены Архангельской, «они с папой даже не разговаривали, потому что папа считал это предательством по отношению к погибшим»[264]. А в 1962 году, когда Театр имени М. Н. Ермоловой пригласил нескольких писателей и театроведов, чтобы обсудить вопросы: «Какими средствами найдем дорогу к сердцу нашего современника? Каким должен был наш театр?», Галич высказался о творчестве Арбузова откровенно неодобрительно. Об этом сообщает заметка в журнале «Театральная жизнь»: «Что же услышали артисты от присутствующих на беседе драматургов А. Кузнецова, А. Галича, Л. Аграновича, М. Шатрова? <…> А. Галич предложил выяснить позиции и отношения. Пренебрежительно сравнив реакцию зрителя на пьесы, которые не по душе А. Галичу, с реакцией элементарно дрессированной собаки, А. Галич подчеркнул далее, что “Иркутская история” Арбузова для него — вершина мещанского театра, и предупредил, что если он завтра увидит на афише театра имена А. Софронова или Г. Мдивани, то посчитает, что вечер, потраченный на сегодняшнюю беседу, пропал для него даром.
Известно, правда, что пьесы А. Софронова, А. Арбузова, Г. Мдивани идут в большинстве театров страны, и где же при такой “непримиримости” остается искать афишу А. Галичу для себя?
Выступившие следом за ним начинающий театровед Б. Поюровский и рецензент Л. Семенова присовокупили к списку драматургов, которых надо, по их мнению, подвергнуть остракизму, и С. Михалкова. Б. Поюровский добавил: “Беда не в том, что идут пьесы этих авторов, беда в том, они пользуются успехом!”»[265]
Возвращаясь к фразе, сказанной Галичем Арбузову в Вахтанговском театре («Я считаю, что это литературное мародерство. Хоть бы помянули тех, кого нет в живых»), отметим, что Галич по-своему почтил память погибших солдат: в 1957 году была опубликована отдельной книжкой пьеса «Походный марш» с посвящением «Памяти тех, кто не вернулся с войны». Самая известная ее постановка состоялась в Московском театре имени Маяковского[266]. После репетиций, как вспоминает участник спектакля Михаил Козаков, Галич приходил в театр, садился за рояль в репетиционном зале и пел старинные романсы[267]…
В следующем году пьеса была поставлена Севастопольским драмтеатром имени Луначарского[268]. И не случайно в апреле 1958 года Галич вместе с группой крымских и киевских литераторов приехал в Севастополь на творческий семинар местного литературного объединения. Официальная цель визита состояла в том, чтобы помочь местной писательской молодежи найти себя. Но заодно Галич посетил и постановку своей пьесы в театре Луначарского, пригласившем его приехать на фестивальный спектакль «Украинской весны»[269]. А кроме того, Севастополь был для Галича еще и городом его детства, из которого он уехал (точнее — его увезли) почти 40 лет тому назад!
Через несколько месяцев в августовском номере журнала «Литературный Севастополь» была опубликована фотография, сделанная Вадимом Докиным. Писатель Михаил Лезинский рассказал, что у него сохранилось несколько таких фотографий, где запечатлены Галич и члены Севастопольского литературного объединения имени Александра Новикова-Прибоя и Иосифа Уткина: «Партийные “отцы” из горкома-обкома советовали “по-отечески” не особенно прислушиваться к словам этого человека — они знали то, о чем мы, молодые необстрелянные, даже не догадывались. Знали, что у Галича “заморозили” несколько пьес, а некоторые, которые уже шли на разных сценах, сняли под различными предлогами»[270].
Лезинский вспоминает, что во время литературного семинара «подсунул Александру Галичу для чтения длиннющую повесть о жизни за границей, и он добросовестно ее прочел ночью в гостинице, а наутро сказал мне: “Есть в этой повести всё, завязка, развязка и еще кое-что хорошее, но нет в ней настоящей жизни. Не пиши о том, чего не знаешь, чего не испытал, о чем даже не подозреваешь!..” — “Но я смогу писать?” — выдал я очередную глупость. “А это зависит от тебя, Майкл, от тебя! Я не Бог, милостыни не подаю!..”»
«Пароход зовут “Орленок”»
Эта пьеса Галича была поставлена в 1958 году к 40-летию комсомола, которое отмечалось 29 октября. Более того, написал он ее непосредственно для этой даты — по заказу комсомольских организаций.
Как почти все «детские» произведения, пьеса откровенно слаба и соответственно малоинтересна. Если говорить о ней совсем коротко, то сюжет ее посвящен истории парохода «Орленок». В Гражданскую войну (1919 год) на нем воевали «парни и девчонки» с четырнадцатью винтовками и «максимом», в Отечественную войну (1943 год) школьники-комсомольцы из Сергиева Посада отправились на «Орленке» в горящий Сталинград и вывезли из него по Волге 840 детей и 1300 раненых солдат, однако по дороге пароход был продырявлен, и два комсомольца погибли. И вот теперь, после войны, по инициативе уже третьего поколения комсомольцев этот пароход был отремонтирован, и на нем отправлены подарки для строителей Комсомольской ГЭС…
3 июля 1958 года во время публичного обсуждения своей пьесы Галич рассказал о том, что послужило прототипом парохода «Орленок»: «Несколько лет назад я ездил по заданию “Литературной газеты”, как шикарно говорят моряки, на флот и сидел почти месяц в Одесском порту, где познакомился с командой парохода “Курск”. <…>. В 1919 году “Курск” был реквизирован у какой-то торговой компании. Его угнали от белых, на нем шли бои. Потом он много дней стоял на приколе. В дни Отечественной войны он стал героическим транспортом, который вывозил раненых и население из Севастополя, был у берегов Румынии, получил огромное количество пробоин и даже непонятно как уцелел. <…> Я очень подружился с командой “Курска”, много раз плавал с ними на корабле и очень хотел о них написать. <…> Потом я узнал о примерно такой же судьбе волжского парохода “Ваня-коммунист”, у которого такая же биография, как у “Курска”. <…> С другой стороны, мне стало известно, как везли подарки на Сталинградскую ГЭС. Это происходило совсем так, как написано в пьесе, где соединились с эпизодом фактические истории “Курска”, “Вани-коммуниста” и “Тихона” на Оке»[271].
В конце беседы Галич назвал еще одну свою работу с аналогичной направленностью, которую ему заказал Театр имени Ленинского комсомола: «Сейчас я собираюсь вернуться к той работе, которую я веду уже несколько лет: это пьеса “Коммунисты, вперед!”[272]. Я надеюсь, что еще в этом году ее закончу. Не в прямом смысле, но эта пьеса, “Походный марш” и “Орленок” будут составлять единый цикл — не трилогию, а тематически единый цикл. Он будет открываться “Коммунистами”, потому что действие пьесы начинается в 1938 году. Героиней пьесы будет 25-летняя девушка, доктор физико-математических наук. Мне кажется, что наше время, XX век — век науки, мы же еще не рассказали по-настоящему о славных героях нашего времени, о людях науки».
Судя по всему, после XX съезда Галич настолько воодушевился предстоящими переменами в стране, что не только дописал оптимистическую концовку к «Матросской тишине», но и создал ряд абсолютно советских пьес. Вне всякого сомнения, он прекрасно знал, что на самом деле происходило в 1938 году, но постарался убедить себя в том, что коммунизм прекрасен, и решил переписать всю историю в романтическом духе. Правда, до сих пор неизвестно, была ли им закончена пьеса «Коммунисты, вперед!» или нет.
Этим же коммунистическим энтузиазмом, вероятно, объясняется и согласие написать сценарий «Государственный преступник» — о том, как советские чекисты ловят фашистского карателя.
В свете сказанного приходится согласиться со свидетельством художника Ильи Глазунова, где он рассказывает о своем визите к Галичу в начале 60-х годов вместе с поэтом Борисом Слуцким: «Ласково улыбнувшись, продолжил: “Теперь вы должны нарисовать жену самого богатого писателя Саши Галича. Учтите только, что он, впрочем, как и я, — улыбнулся Слуцкий, — коммунист и у власти, в отличие от меня, в большом почете. Мастерит даже, как я слышал, какой-то фильм о чекистах. Денег, повторяю, прорва — человек в зените официоза”»[273].
Однако чем больше Галич убеждал себя в справедливости коммунистических идеалов, тем больше противилось этому его подсознание, знавшее правду о репрессиях и не удовлетворенное различными творческими запретами (например, «Матросской тишины» в «Современнике»), и поэтому с такой силой в начале 60-х выдало ответную реакцию в виде острейших политических песен. Андрей Синявский позднее вспоминал: «Я как-то спросил у Галича: “Откуда (из ничего — подразумевалось) у вас такое поперло?” И он сказал, сам удивляясь: “Да, неожиданно как-то так, сам не знаю… — разводя руками вокруг физиономии, похожий на светлого сыча… — Вот так поперло. Поперло, и все»[274].
Но вернемся к «Орленку». Начав работать над пьесой, 28 декабря 1957 года Галич заключил договор со студией имени Горького на написание сценария для фильма «Трижды воскресший»[275] (впоследствии производство картины будет перенесено на «Мосфильм»), Собственно, это был тот же «Орленок», но в другом жанре.
Вскоре сценарий был опубликован в журнале «Искусство кино» (№ 8, 1958), а через два года Леонид Гайдай снял по нему одноименный фильм (оркестровую музыку, как и для «Орленка», написал Никита Богословский)[276], Однако фильм вышел неудачный, поскольку для Гайдая это была вынужденная работа. Дело в том, что в 1958 году он снял свою первую картину — комедию «Мертвое дело». И, как вспоминает жена Гайдая Нина Гребешкова, «худсовет принял его “на ура”, но министр культуры Михайлов был тогда в отпуске. Вернувшись и посмотрев фильм, он вызвал Леню и сказал: “Ваш фильм — это пасквиль на советскую действительность!” — “Неужели вам жаль того бюрократа, из-за которого рушится человеческая жизнь?” — спросил его Леня. “Мне жаль вас, молодой человек, — сухо ответил Михайлов. — Потому что вам придется положить на стол партийный билет. И кино снимать вы больше не будете”. В итоге название фильма изменили [на «Жених с того света»], и все смешное вырезали. У Лени от нервного потрясения началась чахотка. Врач сказал, что ситуация безнадежная, а мы его все-таки вытащили. Иван Александрович Пырьев — тогда директор “Мосфильма” — очень любил Леню и сказал: “Ничего, снимешь историко-революционный фильм — и все будет в порядке”. Тогда по сценарию Александра Галича Леня сделал фильм “Трижды воскресший”. Он не любил этот фильм и никогда его не вспоминал»[277].
«Много ли человеку надо?!»
В 1902 году Максим Горький написал пьесу «На дне», в которой один из главных героев по фамилии Бубнов произносил такие слова: «Эх, братцы! Много ли человеку надо? Вот я выпил и рад!» Через 55 лет Галич позаимствует этот вопрос и сделает его заголовком своей собственной пьесы. Разумеется, ответ на него будет выглядеть иначе, а точнее — даже будет два ответа.
Главный герой пьесы Галича, продавец Александр Башашкин, в прошлом был незаслуженно обижен своими коллегами по магазину и теперь испытывает недоверие к людям, не в силах простить причиненную ему несправедливость. Он уехал из Москвы вместе со своей дочерью и поселился в маленьком городке, устроившись на должность ресторатора музыкальной мастерской. Через некоторое время, по настойчивому совету старого опытного продавца Василия Чагина, Башашкина приглашают на должность заведующего музыкальным отделом магазина, в котором он до этого работал. Получив телеграмму, Башашкин обрадовался, так как соскучился по своей работе, но по-прежнему мучается от недоверия к людям и, кроме своей обиды, ничего больше не видит. Когда он приехал в Москву, Чагин заметил это и попенял ему на напускную небрежность в одежде и на увлечение ролью несчастного. Постепенно в новом коллективе Башашкин отогрелся душой, освободился от всего наносного и начал чувствовать себя нужным человеком.
Итак, первый ответ на вопрос: «Много ли человеку надо?» — очевиден: человеческое внимание и тепло. А второй ответ связан с дочерью Башашкина, которой директор магазина достает билет на Кремлевский бал. Здесь перед нами явно возникает вариация на тему сказки о Золушке и доброй фее. Однако, в отличие от сказки, советская девушка не может пойти на бал, так как у нее нет нарядов. Да и сам Башашкин вначале предстает небритым, в зеленом плаще, плохо сшитом костюме и сапогах. Очаровательные продавщицы, воспитанно улыбаясь, потешаются над его фигурой: «Вот чучело-то!», а когда Башашкин выходит в новом костюме, вдобавок побывав у парикмахера, те же продавщицы восклицают: «Какой мужчина!»
После этого Башашкин решает одеть свою дочь, и начинается торжественный поход по универмагу. Молоденькие феи из разных отделов магазина облачают девушку в ослепительные наряды, но у «современной» Золушки нет денег, и она вынуждена отказаться от нарядов, хотя все ее уговаривают и даже скидываются деньгами, говоря, что когда ее отец заступит на прежнее рабочее место, то все вернет. Однако элегантный Башашкин неожиданно достает из кармана собственные деньги и расплачивается за все наряды. Сказка состоялась!
Так выглядела постановка пьесы в 1959 году в Театре Вахтангова, сделанная Юрием Любимовым, у которого это был первый режиссерский опыт. (Заметим, что фамилии главных персонажей — Чагина и Башашкина — Галич перенес сюда из своей более ранней пьесы «Ходоки», 1951).
В рецензии на спектакль Феликс Светов отмечал, что ответ на вопрос, присутствующий в заглавии пьесы, слишком конкретен: «Да, человеку надо много, и прежде всего хороший костюм… Да, современные туфли на каучуке лучше “посконных” кирзовых сапог, костюм, сшитый у хорошего портного, лучше “москвошвеевского”, работать в “приличном” месте в столице и получать много денег лучше, чем работать в глухой провинции бог знает кем и получать денег мало, — лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным! Спектакль звучит вдохновенным гимном респектабельности, “просперити”, воспринимается блистательной рекламой универсального магазина»[278].
Эти настроения Галича становятся понятными, если вспомнить время написания пьесы: 1957 год — то есть самое начало «оттепели», когда людям только-только дали вздохнуть. В этом году в Москве состоялся VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где проходили в том числе и показы мод, производившие на советских людей, десятилетия лишенных многих красок жизни, ошеломляющее впечатление.
После премьеры спектакля в Вахтанговском театре за кулисами сцены состоялась беседа, в которой приняли участие актеры, занятые в постановке, а также завсекцией женского готового платья ЦУМа В. Мамаев, продавщицы универмага «Детский мир» и многие другие. Мамаев похвалил пьесу и отметил ее достоинства: «Это хорошо, что и автор пьесы, и коллектив театра обратились в своем творчестве к торговым будням. В комедии довольно верно подмечены характерные детали из нашей жизни. Таких людей, как Башашкин, людей, знающих и любящих свое дело, в советской торговле — тысячи. Есть еще и такие “деятели”, как заведующий музыкальным отделом Калашников, человек без души и совести». Сам Галич также принимал участие в этой беседе: «Я давно вынашивал идею показать, какую большую работу выполняют ежечасно, каждодневно представители скромной и незаметной торговой профессии. Ведь это они, если только трудятся честно и добросовестно (а большинство именно такие), доставляют советским людям радость, создают у них хорошее настроение», — такая информация содержится в рецензии на спектакль «О наших товарищах» в газете «Советская торговля» за 16 июня 1959 года. Завершается она так: «В заключение А. Галич выразил пожелание, чтобы торговые работники, посмотревшие пьесу, своими советами и замечаниями помогли театру и автору в дальнейшей работе над спектаклем».
На премьеру спектакля Галич пригласил своих друзей Анатолия и Галину Аграновских. Надписал им и их маленьким детям театральную программку: «Дорогим моим, любимым друзьям Галочке, Толеньке, Алеше и Антоше — в день премьеры нежно и с любовью — Галич. 13 июня 1959 г.»[279]
Галина Аграновская свидетельствует о грандиозном успехе спектакля: «Очень все славно: постановка, актеры. После премьеры банкет в ресторане ВТО. Кого только не было на том банкете, весь цвет театральной Москвы. Поздравляли с успехом, желали дальнейших. Счастливые старшие Райкины принимают поздравления — дочка сыграла прекрасно!»[280] Однако сам режиссер, Юрий Любимов, оценивал художественные достоинства пьесы крайне низко: «В Вахтанговском театре я поставил очень неудачную пьесу Галича — я там много чего навыдумывал, но по содержанию спектакль был ерундовый. В нем дочка Райкина играла, играла Люся Целиковская, моя первая жена…»[281] В другом интервью он сказал об этом так: «…я с детства очень хорошо знал Сашу… Мой первый режиссерский опыт был, когда Саша написал какую-то скверную пьесу, а я пытался ее поставить. Но с его песнями у меня как-то не сложилось в театре. С Булатом Окуджавой больше сложилось, хотя мы дружили с Галичем десятилетиями…»[282]
Более того, и сам Галич спустя восемь лет признал правоту режиссера. Сохранилась уникальная фонограмма, на которой Галич поздравляет с пятидесятилетием Любимова (он родился 30 сентября 1917 года) и поет песню, которая никогда им больше не исполнялась и нигде не публиковалась: «Многоуважаемый Юрий Петрович! Дорогой мой Юра! Мы с тобой начинали вместе — я очень этим горжусь. Я горжусь даже тем, что мою ужасно плохую пьесу, просто невозможно плохую пьесу, ты поставил. Это была твоя первая постановка самостоятельная, и она, честно говоря, была тоже не слишком удачная. Но, в общем, с тех пор прошло очень много лет, и я надеюсь, что мы и поумнели, и кое-чему научились. Во всяком случае, ты это доказал совершенно блистательно. Вот сегодня как раз в газетах напечатано постановление партии и правительства о повышении уровня благосостояния нашего народа[283]. Там речь идет об уменьшении налогов, о прибавке к жалованьям и так далее. И речь идет также о пенсиях военнослужащим, получившим ранения и контузии. И вот я подумал, что, знаешь, если бы подсчитать те ранения и контузии, которые получил ты и твои соратники, создававшие с тобой вместе вот этот новый Театр на Таганке, то даже непонятно, какую группу инвалидности вам следовало бы дать и какую пенсию вам назначить».
- Никогда-никогда нам не выйти на пенсию,
- Нам не выдадут справки о ранениях в ПУРе.
- Пусть Таганка становится Красною Преснею —
- Той, в которую лупят жандармские пули.
- Как стихи, география, поиск в незнаемом, —
- Вроде пишем одно, а читаем другое, —
- Подымайся ж, Таганка, курганом Мамаевым,
- Выгибайся бессмертною Курской дугою.
- Посмеемся над дурью и опекой неловкою,
- Будем делать спокойно, что совестью велено.
- Пусть Таганка становится Невской Дубровкою,
- Охраняющей подступы к городу Ленина.
Галич прекрасно знал, какое мощное противодействие встречает театр со стороны чиновников и что над ним постоянно висит угроза закрытия. Поэтому Галич сравнивает его сначала с Красной Пресней (восстание, поднятое рабочими этого района Москвы в 1905 году, было подавлено царскими войсками), затем с Мамаевым курганом (на этом месте во время Сталинградской битвы 1942–1943 годов шли наиболее жестокие бои, завершившиеся победой советских войск), далее с Курской дугой (тоже знаменитое сражение 1943 года) и, наконец, с Невской Дубровкой (в районе этого поселка располагался плацдарм, с которого удалось осуществить прорыв блокады Ленинграда).
Вскоре после премьеры спектакля «Много ли человеку надо?!» была поставлена еще одна пьеса Галича, которую ожидала другая судьба.
«Август»
Действие в пьесе происходит в августе 1958 года. Николай Пинегин, друг журналиста Владимира Глебова, знакомится у гостиницы «Метрополь» с двумя подругами — Наташей и Любой. Заинтриговав их своим рассказом о Глебове, он просит их подождать, а сам забегает к Глебову на работу в редакцию и с трудом уговаривает его, семейного человека, составить ему компанию.
Далее все четверо идут гулять: ужинают в ресторане «Арагви», прогуливаются по набережной рядом с Московским университетом, потом по предложению девушек, у которых оказываются два лишних билета, идут на «Лебединое озеро» в Большой театр и, наконец, едут в свободную квартиру Глебова (его семья в это время живет на даче). Но дома ничего особенного не происходит, поскольку девушки оказываются весьма строгих правил, и они лишь ухаживают за Глебовым, у которого еще в дороге поднялась температура, из-за чего ему пришлось лечь в постель.
Несмотря на свою непритязательность, пьеса получилась весьма увлекательной, поскольку в ней содержится один детективный элемент, который держит читателя в напряжении до самого конца: а каковы же, собственно, мотивы действий этих двух девушек? Что скрывается за их загадочными фразами типа «Будем считать, что наша идея сорвалась» или «Нет, по-моему, все получилось необыкновенно удачно — и знакомство, и обед, и театр. И с билетами тоже все здорово вышло» и многими другими, не менее загадочными высказываниями? Почему на вопрос Глебова к Наташе: «Чем вы занимаетесь? Я спрашиваю серьезно» — следует уклончивый ответ: «А если мне не хочется говорить серьезно, Владимир Васильевич? Для серьезных разговоров будет другой час и другое место. А сейчас мне хочется веселиться». Как объяснить загадочное поведение девушек в ресторане «Арагви»? В отсутствие Глебова с Пинегиным они выбирают самые дорогие блюда, а их кавалеры, обнаружив это, решают, что дамы их просто «динамят», но когда официант приносит счет, Наташа с Любой сами же за свой заказ и расплачиваются…
И лишь дома у Глебова, когда тот спросил девушек, зачем они это все затеяли, Наташа раскрыла тайну, которая оказалась до удивления проста: на следующий день в пять часов вечера она вместе с Любой должна улететь на самолете в Хабаровск, поскольку этой весной они закончили медицинский институт и получили распределение на работу в тот далекий город. Все их друзья уже уехали, а они остались вдвоем. И свой последний день девушки захотели провести с интересными людьми — так, чтобы он запомнился им на всю жизнь.
Когда читаешь пьесу, трудно отделаться от мысли, что сюжет ее повторяет эпизод из воспоминаний Юрия Нагибина, как они с Галичем весной 1953 года познакомились с Ниной и Олей: также пошли в ресторан на четвертом этаже гостиницы «Москва» (правда, здесь уже не девушки заказывали дорогие блюда, а сам Галич), и также ничем примечательным это знакомство не закончилось…
28 декабря 1959 года спектакль по пьесе «Август» был поставлен Ильей Ольшвангером и Ксенией Грушвицкой в Ленинградском драмтеатре имени Комиссаржевской[284]. Одну из ролей здесь сыграла Алиса Фрейндлих, а Никита Богословский написал музыку. Он же рассказал в своих воспоминаниях о поистине мистическом событии, которое произошло во время премьеры: «Автор где-то на приставном стуле в первых рядах партера. Его Нюша и мы с женой — в середине зала.
Второй акт. Драматический момент. Публика затаила дыхание. Звучит оркестр (этот лейтмотив пьесы был самым любимым Сашей из всех наших совместных работ). И вдруг в театре раздается страшный грохот. Нюша, еще не зная, в чем дело, все равно трагически шепчет: “Это Саша”. И действительно, он. Под Галичем неожиданно развалился приставной стул, причем на такое количество мельчайших кусочков, как будто был специально подготовлен для эффектного клоунского циркового номера. Саша нисколько не пострадал, действие вошло в свое русло, спектакль имел достойный успех. Но весь дальнейший вечер, когда мы с друзьями, смеясь, вспоминали этот эпизод, он мрачнел и повторял: “Это не к добру. Плохая примета”.
Прошло еще два спектакля. И, несмотря на зрительский успех, Саша оставался грустным, все ждал какой-то неприятности. А после третьего спектакля ему позвонил режиссер Ольшвангер и сообщил, что пьеса снята по указанию “высших властей города”. (Эти “высшие власти”, к общему восторгу ленинградцев, были впоследствии за серьезные провинности назначены на ответственный пост в Китай явно для того, чтобы окончательно испортить отношения с этой страной, что и удалось успешно осуществить.) А Сашино предсказание: “Не к добру” — оказалось, как известно, задействовано на долгие годы»[285].
Под «высшими властями» имеется в виду один из наиболее ярых душителей свободомыслия Василий Толстиков, в 1957–1960 годах занимавший должность первого заместителя председателя Ленинградского горисполкома, а в сентябре 1970-го назначенный чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза в Китай.
Помимо печатных воспоминаний Никиты Богословского, мы располагаем и его устным рассказом, прозвучавшим на вечере памяти Галича в Доме кино 27 мая 1988 года. Там он сказал, что «прекрасно прошла премьера — вызывали автора, аплодировали артистам», а описанный им случай, оказывается, произошел на четвертом спектакле, причем в самом конце, «когда раздался последний аккорд оркестра». Тут под Галичем вдребезги разлетелся стул, и Ангелина прошептала Богословскому: «Это Саша». А дальше — слово самому Никите Владимировичу: «Все засмеялись, а он почему-то был грустный, хотя он и не ушибся. Мы вернулись в гостиницу, я вечером зашел к нему в номер. Он мрачный, и я говорю: “Саша, ну это смешная история”. И он говорит: “Нет”, и сказал мне два слова, которые стали названием пьесы и фильма: “Это знак беды”. И сейчас же, синхронно, позвонил телефон. Саша подошел, и вдруг я смотрю, что он бледнеет, вешает трубку мимо рычага, и он — я это увидел в первый и последний раз в жизни, — просто зарыдал, как маленький мальчик. Я его спрашиваю: “Ну что такое? Что случилось?” Он долго не мог ничего сказать и, наконец, всхлипывая, сказал, что кто-то из Отдела культуры Ленинграда посмотрел, доложил главному, и спектакль сняли. Четыре спектакля. Ну, я стал тут его утешать, я стал говорить: “Подумаешь, этот тип, он же дубина, хам. Не надо обращать внимания!” И как только я это сказал, как-то, может быть, это ему в душу вошло. Он понял, что это исходит не от творческого человека, а действительно от хама и дубины. Он вдруг улыбнулся сквозь слезы и сказал одну забавную фразу: “Ну да. Мы живем в античное время. Сейчас у нас главный драматург — Софрокл”».
Галич намекает на известного ортодокса Анатолия Софронова, который 17 декабря 1948 года на вечернем заседании XII пленума Правления ССП, делая доклад об актуальных проблемах советской драматургии, разгромил «Таймыр», а также произведения Л. Левина, И. Меттера, В. Полякова, К. Финна, В. Финка и Н. Погодина, «пьесы которых страдают оторванностью от жизни, низким идейно-художественным уровнем»[286], а в 1975 году, будучи главным редактором журнала «Огонек», отметится погромными высказываниями уже в адрес Галича-барда.
Соответственно, не приходится удивляться дружному единству театральных критиков, которые, как будто сговорившись, опубликовали отрицательные рецензии на спектакль[287]. Причем официальная точка зрения на пьесу «Август» нашла свое отражение не только в статьях, но и в соответствующих постановлениях. Например, 12 марта 1960 года увидела свет «Записка отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР о беседе в ЦК с группой писателей и драматургов о состоянии советской драматургии, театра, кино и телевидения»: «7 марта с. г. Отдел науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР по просьбе группы писателей и драматургов принял председателя Правления Союза писателей РСФСР Л. Соболева и членов комиссии по драматургии, кинодраматургии и телевидению СП РСФСР — A. Софронова, Г. Мдивани, Ю. Чепурина, Д. Зорина, Л. Шейнина, К. Финна, Ю. Зубкова, Д. Щеглова, И. Куприянова, Ц. Солодаря, В. Гольдфельда, B. Пименова и других. <…> Присутствующие на беседе в Отделе писатели и драматурги утверждали, что за последнее время появился ряд ошибочных пьес. Так, например, молодые драматурги А. Володин (автор пьес “Пять вечеров” и “Пять дней”), О. Стукалов (“Карточный домик”), О. Скачков (“Взломщики тишины”), А. Галич (“Август”), С. Алешин (“Все остается людям” и “Точка опоры”), М. Шатров (“Коммунисты”), Л. Зорин (“Светлый май”) отражают в своих произведениях не пафос коммунистического созидания, а лишь теневые стороны жизни. Герои их пьес, как правило, ущербны. Это маленькие несчастные люди с мещански ограниченными интересами (“Пять вечеров”) или же морально нечистоплотные герои (“Август”), поведение которых авторами даже не осуждается. Авторы подобных пьес находятся под влиянием западного неореализма»[288].
А по словам Алены Архангельской, примерно в одно время с постановкой в Ленинградском театре имени Комиссаржевской, спектакль «репетировался в Московском драматическом театре режиссером А. Плотниковым. Результат, увы, почти тот же — пьеса была запрещена еще до премьеры»[289].
Между тем Галич в письме к своему троюродному брату, ташкентскому театральному режиссеру Александру Иосифовичу Гинзбургу подчеркнул всю важность для него этой пьесы и поставил ее очень высоко: «Теперь — об “Августе”. Мне думается, что после “Матросской” это моя вторая настоящая пьеса. Во всяком случае, я написал ее именно так, как хотел, как задумал. Она чрезвычайно хитра, хоть и проста, как мычание, внешне — и эта ее внешняя незамысловатость, локальная анекдотичность, кое-кого сбивает с толку, им представляется, что внешний ее сюжет и есть смысл всего происходящего, и все то, о чем, по существу, говорится в пьесе — тема и размышление о человеческой зрелости, о моральной и нравственной ответственности старшего поколения перед юностью, “отправляющейся в поход”, о том, “зачем я пришел на землю и что сделаю я на земле” — все это остается вне поля их зрения! Пишу это не затем, что опасаюсь, что и ты проглядишь самое главное — просто, мой дорогой, очень уж наболело!»[290]
Но параллельно с этим в 1960 году на Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ) выходит фильм режиссера А. Зенякина «Живопись Святослава Рериха», посвященный открытию в Москве выставки произведений С. Рериха, приехавшего из Индии в СССР. Текст к этому фильму написал Галич, а читал его диктор А. Задачин.
Первые загранкомандировки
Несмотря на многочисленные творческие неудачи, в остальном у Галича всё пока складывается более или менее успешно — например, он без особых проблем выезжает за рубеж. Впервые туда он поехал во второй половине декабря 1957 года — это была двухнедельная командировка от Союза писателей в Румынию по приглашению бухарестских театров, поставивших пьесу «Походный марш». Такая информация содержится в карточке «Сведения на отъезжающих за границу»[291]. Однако следующая поездка состоялась лишь два года спустя. Запись в дневнике драматурга Василия Катаняна за 1960 год гласит: «6—23 марта. Турпоездка от Союза кинематографистов в Норвегию и Швецию. В группе Райзман с Сюзанной, Борис Волчек, Кулиш, композиторы Левитин и Зив, Галич с Аней, Рожков, Долли Феликсовна Соколова, Магдалина Атарова, Миллер и еще 2–3 человека. Очень понравилась Норвегия, а Швеция — меньше»[292].
В Осло Галич все время находился в центре внимания, так как много знал о местных достопримечательностях. Однажды группа кинематографистов оказалась в имении-музее норвежского композитора Эдварда Грига — под Бергеном, в местечке Трольхаузен, на берегу ледяного озера в окружении скал и сосен, и слушала косноязычный рассказ местного гида на английском языке. Выслушав его, Галич спросил: «Простите, пожалуйста. Можно, я дополню для наших по-русски?» И рассказал так, что все, включая гида, раскрыли рты: и о жизни Грига, и об истории создания «Песни Сольвейг» для драмы Ибсена «Пер Гюнт». Ошалевший гид только и смог спросить: «Вы григовед?» — «Нет, я просто писатель. И много читаю», — ответил Галич[293]. Тогда же он задал гиду другой вопрос: «Григ сочинял в маленьком домике у озера, а в большом жил с семьей. Где этот домик?»[294] А тот вообще об этом услышал впервые. Тогда Галич повел их вниз к озеру, и там действительно оказалась избушка с григовским роялем… Когда же выяснилось, что Галич был еще и последним учеником Станиславского, то гид тут же потащил его в Норвежскую академию театрального искусства имени Станиславского, где Галич прочитал несколько лекций.