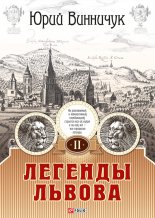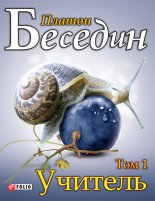Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве Бакштейн Иосиф

А.М. В данной ситуации.
И.Б. К сожалению… Хотя важно то, что, по-видимому, в подобных вещах, не знаю, в этом ли русле или в подобных проработках, все-таки находится источник той действительно радикальной эстетической реформы, которую мы все хотели бы видеть и которая была бы радикальной эстетической альтернативой наблюдаемому нами эстетическому хаосу.
А.М. И в этом смысле, хотя я опять спускаюсь на нижние этажи интерпретации, мне кажется знаменательным лексикон, который употребляет в своих работах Ануфриев. Например: «Дисциплина», ведь, действительно, что можно противопоставить эстетическому хаосу, не плюрализму, если бы он был, это было бы замечательно, – а именно хаосу, мутности в эстетическом смысле? Именно дисциплину.
И.Б. Да, дисциплину.
А.М. Потом вот это слово «БЕЗ». Без чего? Это – отсутствие, без идеологии, вероятно?
И.Б. Без идеологии.
А.М. Дисциплина без идеологии. И некая конкретность. Например, «Татарбунары» – это конкретный город, так же как и «Унгены».
И.Б. Да. Ведь все это действительно очень странно… Татарбунары, Унгены… что это такое… но – нормально.
А.М. Так это и есть признак новой эстетики, невозможность критической дешифровки конкретного. И можно сделать общий вывод, некую последовательность выстроить: Кабаков все время держал и удерживал пустой центр, затем мы в своей серии «домашних» речевых акций заполняли – через тавтологию – рефлексией на свою же собственную артикуляцию этот центр, тем самым очищая его от самих себя не только как художников, но и как критиков, что в концептуализме очень важно…
И.Б. Да. Что-то уже лампочка не горит.
А.М. Уже плохо записывает.
И.Б. А почему?
А.М. Батарейки кончились.
И.Б. Ну ладно, тогда выключай.
И. БАКШТЕЙН, А. МОНАСТЫРСКИЙ Внутри картины (стенограмма диалога)
11.09.1988
М. Хотелось бы начать наш разговор с предположения, что, в сущности, в каждом артистическом жесте художника мы можем обнаружить три эстетических пространства: поверхность картины, которая дает нам сообщение, затем то, что есть «за» картиной – пространство, куда встраивается картина, экспозиционное пространство, стена и вообще любой антураж, и, наконец, как бы несуществующее пространство «внутри картины». Речь идет о метафизическом пространстве, которое является как бы промежуточным между поверхностью и пространством «за» картиной. Мне кажется, это как раз то пространство, где расположены, точнее, откуда исходят все замыслы, интенции, возможности картины, откуда они как бы «выходят» на поверхность. Это метафизическое, несуществующее пространство я и понимаю как пространство «внутри картины». И вот хотелось бы рассмотреть это пространство. Оно всегда было идейным, идеологически напряженным. Реально же оно никогда не прорабатывалось. Посмотрим, например, на работу «Палец». Она висит на стене и в концептуальном жанре воспринимается как объект. Но здесь любопытно то (не важно, объект это или картина), что зритель попадает внутрь этой «картины» физически. То есть «внутренность» картины здесь открыта для физического проникновения. Здесь эта «внутренность» актуализирована не идейно, не потенциально, но именно чисто физически.
Б. Я тебе сначала задам несколько наводящих вопросов, чтобы понять постановку проблемы. Начнем с последнего. Мне кажется, что ты здесь несколько утрируешь метафору «внутреннего пространства» вещи, потому что здесь фактически дело не столько в том, что зритель попадает каким-то образом внутрь пространства объекта, а в том, что здесь есть некий более общий контекст манипуляций зрителя с этим объектом. Причем, с другой стороны, у нас пока еще нет средств описания для того, чтобы различить произвольные манипулирования зрителя с объектом в некоем эстетическом пространстве, именно активное манипулирование, с тем взаимоотношением зрителя с объектом, в частности с инсталляцией, с которого ты начал разговор. Потому что все-таки соотношение зрителя и инсталляции в пространстве экспозиции описывается на одном языке. Это особая исследовательская аналитическая схема, мы можем довольно подробно ее описывать, используя либо семиотический язык, либо постструктуралистский, какой угодно другой, но важно то, что нам здесь дана некая картина взаимодействия и мы предлагаем некоторую гипотезу, касающуюся того, как на самом деле может реагировать зритель, подготовленный или неподготовленный, на эту инсталляцию, в отличие от его возможных реакций на традиционную картину в раме. Это как бы одна ситуация. С другой стороны, имеет место некое активное взаимодействие зрителя с объектом, которое происходит либо в его сознании, ментально, но именно активное, когда он каким-то образом, интерпретируя для себя свое собственное нахождение в пространстве объекта, помогает себе осознать или понять, что, собственно, происходит с ним и что он понимает, какое эстетическое содержание «вычерпывает». Это второй аспект. А первый аспект, или первая позиция, – это взгляд аналитика на ситуацию зрителя перед объектом или перед картиной.
М. Это наш взгляд, отстраненный?
Б. Да, отстраненный. С другой стороны, существует некое данное сознание зрителя, когда он именно активно строит некие гипотезы относительно своего собственного состояния, типов и направленности своего отношения к объекту, строит какие-то активные гипотезы и в этом смысле он уже как бы предуготовлен для того, чтобы потом его описать как «зрителя-персонажа». Потому что, вообще-то говоря, не любой зритель к этому готов.
М. Прости, я тебя перебью. Была довольно длительная школа своего рода воспитания зрителя, для того чтобы у него организовывалось в сознании место отстранения от самого себя, смотрящего на картину или на объекты инсталляции.
Б. Совершенно верно.
М. Вспомни картину «Сад», где Кабаков вывесил огромное количество зрительских интерпретаций вокруг картины. Следовательно, зритель, читающий какую-то навязываемую ему интерпретацию, как свободный человек уже не может согласиться ни с одной из них. Он все время вынужден искать какую-то другую, еще более внешнюю позицию. Вероятно, этот поиск продолжается до того момента, пока в его сознании не возникает совершенно пустое место, с которого он уже действительно будет смотреть на самого себя. Но. Откуда берутся все эти пространства интерпретации? Это же метафорические пространства! Поэтому я и говорю, что понятие «внутри картины» всегда было скрытым, но очень важным в эстетике – как метафорическое и даже метафизическое по своей природе понятие. Ведь физически в картине актуализирована только поверхность, через нее идет сообщение на зрителя и с точки зрения плана содержания, и с точки зрения плана выражения.
Б. Да, эта такая первичная семантика.
М. Да. И затем – среда, в которую помещена эта картина. Она тоже физически проявлена. В «Саде» Кабаков наполнил, актуализировал физически эту среду, обвешав картину листами с интерпретациями. Однако эта среда возникала изнутри картины, из этого внутреннего пространства. С этим пространством «внутри картины» художник, так же как и зритель, связан только метафорически. Это как раз тот пример, о котором ты сказал, то есть то, что я «утрирую проблему внутри картины». Это на самом деле так и есть. Я не то что утрирую, а я хочу акцентировать эту проблему. Ведь это то пространство, которое обычно считается «священным», неизвестным и оттуда как раз все как бы и выходит.
Б. Сейчас я попробую по пунктам с чем-то согласиться, с чем-то не согласиться. По поводу этого «священного» пространства – это вообще особый вопрос. Это пространство как-то создается, конструируется какими-то активными усилиями автора или совместными усилиями автора и зрителя. А оценка его как, допустим, профанного, сакрального, изведанного, постигаемого, желанного или, наоборот, пугающего – это уже другой план, другая семантика. Можно к ней потом отдельно вернуться: каким образом в истории искусства в целом или в истории русского искусства это метафизическое пространство нагружалось разными ценностями. Вплоть до идеологии «фаворского света»…
М. Вот именно. Речь идет об идеологии, которая выходит из этого «внутри картины». Это может быть и «фаворский свет», это может быть любая идеологическая интенция, важно, что это – идея.
Б. Важно, что это идеология, да. Здесь мы еще различим метафизическую природу этого пространства и его возможную, вернее, одну из возможных интерпретаций, а именно – идеологическую. Здесь идеология выступает как один из способов семантического нагружения этого метафизического по своей природе, сути пространства.
М. И это пространство мы называем «внутри картины».
Б. Внутри картины, да. Но я хотел бы обратить внимание на то, что мера активности автора и зрителя в создании пространства интерпретации все-таки несимметрична – хотя бы потому, что Кабаков, например, в работе «Сад», предлагая зрителю, пришедшему на выставку, саму работу и комментарии к ней, тем самым создает некий каркас, основу, структуру и само пространство этих интерпретаций. И зритель может, в зависимости от степени активизации у него неких эстетических взглядов в меру своей конгениальности автору, или включаться, или не включаться, или с разной степенью активности и интенсивности включаться в предлагаемое пространство возможных интерпретаций…
М. Но главное – отталкиваться…
Б. Или отталкиваться…
М. Главное – отталкиваться, соглашаться он не может.
Б. Ну, в этом смысле я, например, могу себя тоже проинтерпретировать как такого активного зрителя-персонажа в отношении акций КД, когда я сознательно принимаю на себя роль такого комментатора, при этом я понимаю принципиальную неустранимую двусмысленность моего положения, то есть – кто я такой? Свободный наблюдатель или я могу быть проинтерпретируем кем-то, в том числе авторами этой работы, как их персонаж.
М. То есть ты говоришь о физической внедренности в структуру? На грани физического внедрения и свободного наблюдения?
Б. Важно то, что граница этого произведения, если это, например, акция КД, каждый раз проводится по-разному, и в зависимости от того, где она проведена, я оказываюсь либо независимым наблюдателем, либо зрителем – персонажем либо кем-то еще. Но, возвращаясь к тому месту, где ты меня прервал, договорю, добавив лишь то, что эта вторая позиция активного зрителя, который строит некоторые гипотезы по поводу своего отношения к объекту или к картине, и в этом смысле мы как бы спускаемся или переходим с позиции чистого наблюдателя-аналитика в первом случае на уровень зрительского сознания, которое пытается себя интерпретировать… Но я хотел обратить внимание на то, возвращаясь к работе «Палец», что здесь уже заведомо необходимо как бы отделиться, отслоиться, дистанцироваться от незаконного использования метафоры «внутреннего», потому что по сути дела, если рука зрителя попадает внутрь этой работы и указывает на самого себя, то все равно это есть некое взаимодействие с объектом, и мне кажется, что в каком-то смысле, на каком-то уровне описания трудно различить сознание зрителя, совершающее взаимодействие с объектом, и буквальное, физическое взаимодействие, хотя дело здесь не в физике, а в семантике…
М. Но семантика здесь вылезает потом, сначала – физика.
Б. В пространственном соотношении! Потому что можно сказать, что для какого-то наблюдателя какое-то, вообще говоря, случайное, а может быть, и каким-то образом продуманное и предуказанное положение зрителя в обычном пространстве выставочного зала по отношению к объекту каким-то образом маркировано и оно эквивалентно, эквисемантично по отношению к этой ситуации с «Пальцем». Другое дело, что здесь в самой конструкции работы предусмотрено это положение и именно оно является центральным, как бы осевым.
М. То есть сначала физическое внедрение внутрь картины, потом выход из нее, но уже в семантическое пространство указания на самого себя. То есть физический проход через метафору «внутри картины» и потом выход на более как бы высокую метафору отстранения «указания на самого себя», которую можно воспринять только со стороны, только имея в сознании это пустое место «третьей позиции».
Б. Да, какой-то «третий глаз». Но мне кажется, что здесь происходит какая-то ошибка. Потому что ты здесь, как мне кажется, не очень законно пытаешься использовать метафору «проникновения внутрь картины» руки зрителя как его буквальное попадание внутрь этого метафизического пространства.
М. Телесное…
Б. Телесное, да. Это мы отдельно рассмотрим. Это тоже можно использовать как некий повод. Но я хочу сказать, что здесь важно другое. Здесь важно то – и это центральный момент эстетической семантики этой работы, – что здесь зритель благодаря этому приему сам становится объектом.
М. Совершенно верно. То, что и написано в этой «инструкции»: «Палец, или указание на самого себя как на предмет внешний по отношению к самому себе». Внешний предмет – это и есть объект. Зритель становится объектом.
Б. В этом смысле я бы, между прочим, сопоставил бы, поскольку это очень сходные, родственные и близкие по специфике эстетической позиции работы: кабаковский «Сад», ты правильно его вспомнил, и «Палец», потому что и здесь, и там в самой конструкции вещи предусматривается какой-то тип включения зрителя в этот объект. В «Пальце» есть этап физического включения, в то время как в случае с «Садом» речь может идти о каком-то ментальном включении. Можно сказать с большой степенью эстетической обоснованности, что в том случае, когда зритель кабаковского «Сада», подходя к этой работе, ознакомившись с ней, но не создав каким-либо образом в себе позицию, которая может быть поставлена в ряд с той системой позиций, которую совершенно нарочито и открыто породил Кабаков, он в этом смысле не может рассматриваться в точном смысле слова как зритель этой картины, точно так же как – и здесь это просто усилено, в «Пальце», – человек, подошедший к этой работе, но не просунувший в нее палец, не является зрителем, потому что он не стал объектом.
М. Работа осуществляется только в том случае, когда зритель пользуется этой коробкой так, как задумано.
Б. Не знаю, как ты считаешь, но в каком-то смысле здесь аналогия с «Садом» очень удобная. Если, по аналогии с «Пальцем», в случае с «Садом» зритель не создает в себе свое пространство понимания и некую позицию активного интерпретатора этой работы и не видит себя, свое положение в зале и свое соотношение в пространстве этой картины как позицию возможного интерпретатора, как некий голос из хора тех голосов, который он видит перед собой в качестве фрагментов текстов, – он, точно так же, как и в случае с «Пальцем», с человеком, который этот палец не просунул, не является зрителем этой картины. В этом смысле я хочу сказать, что есть некая аналогия в семантической конструкции этих вещей. Они предполагают совершенно особый, специфический тип зрителя. Другое дело вот что. В случае с «Пальцем» есть как минимум – их там больше, но как минимум – уровень физического взаимодействия, некая предпосылка и условие дальнейшего наращения семантики, чего нет в «Саде», и есть какое-то возможное отношение зрителя к самому себе в качестве объекта наблюдения. В случае с Кабаковым аналогом этого физического взаимодействия является само попадание в физическое пространство картины на дистанцию различения и внятного прочтения текста. И тогда действительно эти две вещи сопоставимы.
М. Но все же есть и разница. Зритель «Пальца» тоже входит в зал физически, тоже должен встать на позицию различения, но затем совершать еще одно физическое «вхождение» – просунуть руку внутрь ящика. Интерпретационные тексты Кабакова, расположенные вокруг картины «Сад», есть все-таки порождение этого пространства «внутри картины» как метафизического пространства возможностей, метафизического, подчеркиваю, и этих возможностей может быть очень много, практически неограниченное количество. В то время как в «Пальце» мы физически внедряемся в пространство «внутри картины» и оно перестает быть, перестает существовать как метафизическое, как идеология. И в каком-то смысле можно сказать, что все инсталляции, в которых речь идет о «зрителе-персонаже», образно говоря, возникли в результате вот этого физического внедрения в пространство «внутри картины», наподобие того, как рука проникает внутрь коробки «Пальца», они там расширились, возникли комнаты Иры, кабаковская комната «улетевшего»…
Б. Да, верно, я хотел сказать об этом же.
М. То есть здесь мы имеем как бы модель пространства этих инсталляций. Именно в этих пространствах зритель может быть персонажем.
Б. Получается так, что работа «Палец» является как бы знаком, который в процессе своего развития, разветвления и воссоздания пространства значения этого знака разрастается до комнаты, до инсталляции, до любого другого пространственного объекта, который предполагает вхождение зрителя внутрь…
М. Физического…
Б. Да, физического.
М. Вслед за рукой весь человек туда входит, и пространство расширяется.
Б. Какого года эта работа?
М. По-моему, 77-го или 78-го.
Б. Очень старая, да. Это важно. Но все-таки я вернулся бы к проблеме «внутреннего» пространства картины как метафизического, потому что надо понять, насколько законно мы пытаемся их в своем рассуждении связать и потом развязать.
М. Тогда давай еще раз точно просмотрим эту «иерархию». Мы классифицировали картину по трем уровням. Первый уровень – демонстрационный, уровень поверхности.
Б. Вот что это такое?
М. Это тот уровень, откуда идет на нас эстетическая информация. Это – рама, фон, изображение и вообще текст. Материально воплощенные.
Б. Минуточку. Допустим, это так – красочный слой и т.д. Но куда попадает, если взять и картину классическую, и модернистскую и постмодернистскую, в которой есть некое изображение и есть базовое пространство интерпретации – куда попадает сама семантика изображения?
М. Это мерцающее, осциллирующее пространство «внутри картины».
Б. Непонятно, что такое.
М. Еще раз вернемся. Весь комплекс картины как таковой, как предмета, который состоит из рамы, из фона, из красочного слоя, из символов изображения, из тех отсылок, знаков, исторических пластов и эстетических методов, откуда и куда отсылается интерпретирующий взгляд зрителя – все это есть демонстрационное пространство картины. То, что можно назвать ее поверхностью.
Б. Но здесь же есть два, если не больше, принципиально различных слоя. Есть фактурность, важная своими физическими свойствами. Даже красочный слой важен своими физическими параметрами.
М. Конечно, можно сказать, что здесь это план выражения. Вообще-то я это называю демонстрационным знаковым полем.
Б. Пожалуйста! Но есть такой первичный символизм.
М. Да, но демонстрационное знаковое поле, поле – это топографическое понятие и в каком-то смысле материальное, а знаковое – это весь комплекс символизма.
Б. Да. Но я боюсь, что в твоих последующих рассуждениях ты воспользуешься тем, что сознательно не будешь различать два принципиальных плана в едином понятии демонстрационного поля, ибо все-таки это надо как-то особо обозначить, чтобы потом это у нас не слиплось и мы не совершили ошибок.
М. Правильно. Твое замечание совершенно точное, ввиду того что это демонстрационное знаковое поле или поверхность картины, если его редуцировать, связано неким щупальцем с этим метафизическим пространством «внутри картины», о котором мы скажем потом. А сейчас мы говорим, что есть элемент – демонстрационное знаковое поле или поверхность картины, есть экспозиционное поле, среда, где помещена картина – стена музея, среди других картин, на улице, щит и т.п., – это экспозиционное знаковое поле, которое тоже каким-то щупальцем связано с пространством «внутри картины», и, наконец, есть вот это третье, промежуточное пространство «внутри картины», куда сходятся, прилепляются щупальца и от поверхности картины, и от экспозиционного поля, от среды. Это пространство «внутри картины» всегда метафизично и для автора, и для зрителя. Именно там происходит мерцание, вибрация взаимодействий.
Б. Тогда ответь мне на вопрос. В ходе какой операции ты сможешь различить метафизическое пространство картины, с одной стороны, а это особая вещь, поскольку в нее входит как один из вариантов идеология, – и некий эстетический символизм?
М. Так эстетический символизм – это просто те формы, в которых воплощается идеология. Это вкусовые параметры в каком-то смысле. Каждая идеология воплощается в каком-то стиле, в каком-то эстетическом символизме.
Б. Хорошо. Но все же. Берем ли мы классическое искусство от Возрождения или позже, берем ли мы модернизм с его стилями, большими или малыми, но мы каждый раз, по-видимому, говоря про символизм и про эстетику, мы имеем в виду эти стили. В то время как существует некая идеология этих стилей и метафизика нарастает, формируется уже в ином горизонте. Проще, понятнее и нагляднее разница этих слоев будет видна, если мы каждый раз будем называть позицию или субъекта демонстрационного поля – раз, или контекстуального пространства, экспозиционного – два, или символического пространства стиля или некоторой эстетики – три…
М. И того и другого поля…
Б. И четыре – потому что на самом деле заметь, что есть люди, которые формируют представления о специфике того или иного модернистского стиля, поп-арта, допустим, или минимализма, или какой-то лирической абстракции, и, с другой стороны, есть люди, с философическими наклонностями, которые порождают эту метафизическую…
М. Но корни всякого стиля – их все-таки следует искать в религиозном, метафизическом сознании.
Б. Какого?
М. Любого стиля. Минимализма, поп-арта…
Б. Здесь мне кажется…
М. То есть сакральное, некое сакральное пространство все же существует…
Б. Правильно…
М. Которое порождает все эти стили.
Б. У тебя сейчас была одна очень характерная оговорка. Действительно – корни. Правильно. То есть все-таки есть некое содержание этого стиля, и оно описывается исходя из одной позиции. Существует совершенно другими людьми разрабатываемое метафизическое пространство. Это делают философы или религиозные идеологи. И эти религиозные идеологи – и это фраза из их лексикона – занимаются поисками метафизических или религиозных корней того или иного эстетического стиля. Но важно то, что сначала фиксируется принципиальное различие и несводимость этих позиций – эстетической и метафизической – и понимание того, что они создаются разными людьми, а потом метафизик, в силу своей большей ментальной агрессивности, пытается заняться редукцией, как это делал, например, Шифферс. Сначала он отстаивает автономию своей религиозной метафизики. Потом он делает частный, возможный, но совершенно не обязательный и очень уязвимый ход – он занимается редукцией, пытается свести все содержание, исчерпать все содержание эстетического символизма, исчерпать его метафизическим, религиозным происхождением.
М. А тебе не кажется, что то, что мы сейчас рассматриваем, – это есть эстетическая агрессия на метафизическое пространство? Ни один метафизик не допустит, чтобы в метафизическое пространство человек был внедрен физическим путем. В этом случае оно просто перестает быть метафизическим. В случае с инсталляциями Кабакова, когда он говорит о том, что там возникает зритель-персонаж, и вот в этой корневой как бы работе «Палец» можно видеть своего рода эстетическую атаку на метафизическое пространство. В конце концов, весь концептуализм со времен раннего Кошута был объявлен «искусством после философии», после метафизики. То есть это действительно что-то вроде атаки в пространство «внутри картины», которое является метафизическим и неприкосновенным для физики в сознании теолога, идеолога, метафизика и т.д.
Б. Сейчас возникает очень интересная проблема и надо ее аккуратно разобрать. Действительно, этот жест «Пальца» и соотношение объекта и зрителя указывают на то, что и это входит в авторский замысел, что метафизическое пространство «внутри картины» пусто.
М. Пусто, да, конечно.
Б. Пусто.
М. Оно только по краям заполнено интерпретациями, артикуляциями, а реально оно пусто, центр – пустой.
Б. Хорошо, центр пустой. Теперь надо понять, кто может так сказать. Потому что есть объект, и он интерпретируется чисто эстетически как объект в ряду других объектов, есть какая-то история создания таких объектов, она более или менее интересна…
М. Вполне обыденна.
Б. Но она не более чем оригинальный трюк в создании некоего очень емкого, точно очерченного пространства работы.
М. Но вполне обыденной, которая ложится в ряд других работ.
Б. Да. И у нее тем не менее есть концептуалистское описание в его специфике. Можно сказать – да, более-менее удачная работа в этом ряду. С другой стороны, кто-то скажет, что здесь еще совершается некий внутренний жест, указание «на» или полемика «с» традицией автономности или особой значимости метафизического пространства работы как источника всех возможных интерпретаций этой работы.
М. То есть вот этого пространства «внутри картины».
Б. То есть на самом деле отличие позиции религиозных идеологов от философской позиции состоит в том, что они принципиальные редукционисты. Они обязательно приходят к тому, что все содержание интерпретируемых ими объектов сводится к содержанию их собственной профессиональной позиции и их профессионального горизонта. Они не признают автономию искусства. Для них искусство есть служанка.
М. Да. И вот в конце семидесятых годов, когда ко мне первый раз пришел Барабанов, тогда он был еще теологически настроен, и, когда он увидел эту работу «Палец», она вызвала у него жуткую агрессию. Он не мог понять, в чем дело, не смог артикулировать, что, собственно, перед ним такое, но именно эта работа побудила его к рассуждениям, причем чрезвычайно патетическим, о Христе, о каких-то сакральных пространствах и т.п. Хотя я представил ему «Палец» как просто эстетическую работу. Он не понял ее как эстетическую, но понял в ней какую-то угрозу и опасность. Хотя для меня она была банальна и в ряду других концептуальных работ.
Б. Да, да, да. Но здесь есть одна угроза, и надо с ней как-то разобраться. Получается, что этот жест, – это указание на пустоту метафизического пространства работы, причем не этой работы, а на пустоту метафизики вообще…
М. Да, вообще. И что в нее можно физически, банально внедриться… именно банально эстетическим способом.
Б. Нет, дело не в том, что мы в нее внедряемся. Это же жест! Жест, указывающий на пустоту. Это не значит, что мы тем самым как-то его прорыли и туда вошли, это жест, который указывает. Но тогда получается так, что этот жест имеет очень узкое, контекстуальное значение.
М. Разумеется, здесь все дискурсивно, и слово «внедриться» – оно тоже дискурсивно в нашем с тобой контексте. Но есть механика жеста.
Б. Да, есть механика жеста… То есть возникает некоторое противоречие между достаточно универсальным значением этого жеста, указывающего на пустоту, амбивалентность, сомнительность любой метафизики по поводу искусства, по поводу эстетики и – а это достаточно универсальное соображение, – очень контекстуальным, исторически и социально, и идеологически, имея в виду, допустим, наш регион возможного подхода именно к такой интерпретации этой работы. Действительно, ссылка на Барабанова неслучайна. Люди его положения, его позиции – социальной, идеологической, религиозной, метафизической и т.д. – они обнаруживают себя как тот класс зрителей, который различает значение этого жеста и на него реагирует. Положительно или отрицательно – не имеет значения. Но они видят в этом достойный ответ искусства по отношению к любой идеологии, в том числе и религиозной. Ведь это реакция искусства на свое порабощение.
М. Да. А для них искусство – прикладное к идеологии и метафизике. А здесь получается так, что этот жест делает эстетику автономной.
Б. Правильно.
М. Именно механика жеста.
Б. Но мне бы не хотелось думать, что существует только достаточно ограниченный класс возможных зрителей этой работы, который именно так на это отреагирует. Одно дело, когда в ходе особого дискурса подходят к возможной интерпретации жеста, другое дело – нерефлектированный зритель, который реагирует или не реагирует на этот жест. Как ни странно, но Барабанов в этой истории выступает как эстетически не рефлектирующий субъект, потому что он реагирует на эту работу своим идеологическим бессознательным.
М. Да. Ведь для его позиции, откуда, с какой стороны человек может посмотреть на себя как объект? Только с метафизической, но никак не с эстетической. Типа «с того света», «с точки зрения дьявола», Бога, ангела, то есть с какой-то площадки метафизического символа, но никак не в эстетических координатах. В эстетической плоскости для религиозного идеолога и метафизика нет места, с которого бы человек мог посмотреть на себя со стороны. Как на объект.
Б. Мне кажется, что это спорно. Все-таки «новая позиция», возможно, и нужна, и обязательна в эстетическом горизонте, и лишь ее наличие в этом эстетическом горизонте является условием ее создания уже в горизонте метафизическом. Могу сослаться на собственный опыт интереса или вкусового пристрастия к работам концептуалистского ряда. Естественно, что вкус людей, которые входят в пространство таких концептуальных работ, как-то меняется и вещи традиционного плана не доставляют им нормального эстетического наслаждения. В этом году, например, я выписал много литературных журналов, и я замечаю, что я не могу читать, наверное, вполне интересную, актуальную прозу. Совершенно не могу.
М. Со мной то же самое происходит.
Б. Не могу, потому что это не доставляет мне никакого эстетического наслаждения. А когда я беру работы литераторов нашего круга, они мне доставляют некое новое впечатление. Но это не потому, что я отношусь к ним как аналитик, интерпретатор или метафизик, а просто я, сформировав в самом себе какими-то усилиями, и сама моя жизнь, моя судьба сложилась так, что я теперь обладаю «новой позицией» в себе, она присутствует во мне как естественно функционирующая сила (не как некое искусственное, чисто умственное, произвольное напряжение, с помощью которого я нечто различаю), которая уже внедрена, сформирована как некая особая способность, независимая от моих сознательных, волевых усилий, способность, с помощью которой я могу доставить себе – здесь возможна пространственная аналогия – я действительно «доставляю» себе некое впечатление от наблюдения, созерцания и реконструкции работ концептуального ряда. То есть я хочу сказать, что все-таки это позиция эстетическая.
М. Да, все это совершенно справедливо. Но мы тут коснулись очень интересной темы: автономия. В иерархии автономии быть не может. Если мы мыслим метафизическое пространство «над» эстетическим, тем самым мы заявляем, что эстетика неавтономна. Автономия возможна только как полевая, горизонтальная, она не может строиться вертикально.
Б. Но это же не натуральная характеристика, а установочная. Допустим, какая-нибудь политическая сила пытается свести, редуцировать все содержание искусства к каким-то своим собственным проблемам, сделать искусство подчиненным, функциональным по отношению к своей собственной сфере. Но ведь на самом деле эти попытки осуществляются в пространстве этой позиции. Допустим, идеолог или политик…
М. Он реагирует идеологически, а не эстетически.
Б. Это две разные вещи. Одно дело, например, Шифферс, который декларирует сводимость содержания художественного произведения к некоей религиозной метафизики. Фактически он строит свою интерпретацию наряду с некими возможными другими интерпретациями. Другая ситуация, уже реальная, которая стала обычной и даже тотальной по отношению к искусству в Советском Союзе, когда власть создала такие условия, при которых реально художник утратил свою автономию – и материально, и в образе жизни, и т.п. Я только что перечитал воспоминания Н.Я. Мандельштам, и там очень хорошо и конкретно описан механизм, когда люди их круга под воздействием невероятного страха утрачивали свою автономию. В семидесятые годы мы могли позволить себе некоторую свободу рассуждения на фоне нашего закрепощения в социальном плане. Люди до войны были лишены этого. Очень хорошо видно, как люди с помощью специального ментального самоувечения вызывали в себе совершенно новые эстетические чувства, которые принципиально отрицали эту автономию. Они действительно считали, что вся их литературная и художественная деятельность прямо завязана на политические, властные структуры, а главное, что если мы говорим про автономию, про ее судьбу, – главное, что они не были в состоянии мыслить себя автономными субъектами интерпретации того или иного ряда событий или предметов искусства, как бы делегируя эти права некоему обобщенному советскому начальству. В этом смысле в воспоминаниях Н. Мандельштам очень показателен эпизод с Сурковым, который сказал, что роман «Доктор Живаго» плох тем, что его герой не имеет права интерпретировать советскую действительность. Когда я сам в ранней молодости прочел этот роман, меня действительно поразила возможность свободной интерпретации любых событий, которые попадают в поле зрения персонажей. В «Живаго» это было.
М. Конечно, но это исторические времена. Давай теперь вернемся поближе. Если мы будем рассматривать эту работу «Палец» как своего рода камертон эстетической автономии, то природа этого камертона заключается в том, что пространство «внутри картины» оказывается пустым, тогда мы можем посмотреть на современные концептуальные работы с точки зрения того, насколько в них еще есть реликт этого пространства «внутри картины» как заполненного. Недавно я посмотрел последнюю работу Кабакова «Жизнь как оскорбление». Ты видел этот альбом?
Б. Нет.
М. Жаль. Мне кажется, что там произошла очень интересная вещь. Центр этого альбома прекрасно сделан с точки зрения эстетической автономии. Совершенно созерцательная вещь, где включается только механика эстетических оценок и удовольствий, без диффузных ассоциаций. Но по краям – экспозиция этого альбома, есть несколько листов с фрагментами плакатов, старые рисунки с портретами матери и т.п., и конец этого альбома, где он наклеил на листы оригиналы каких-то расписаний, списков, написанных от руки (не им), то есть когда я имел дело с этими краями, у меня возникло впечатление, что опять проявились какие-то реликты архаического сознания этой заполненности «внутри картины». То есть «внутри картины» по этим краям оказалось не пустым пространством, а чем-то наполненным, что и стало вылезать наружу.
Б. Из того, что ты сказал, видно, что речь идет об обычной семантике работ Кабакова. Почему ты считаешь, что нечто вылезает снова, а где он отошел от этого?
М. Дело в том, что… как, где он отошел от этого? Центр, основная часть этого альбома решена с совершенно пустым пространством «внутри картины»! Центр организован самодостаточно с эстетической точки зрения. Но по краям этих двух взаимосвязанных корпусов с наклейками и чистым текстом «воспоминаний» какие-то ошметки, указывающие на метафизические, непроработанные пространства, как будто там еще что-то есть, какие-то сакрально-родовые пещеры, как на острове Пасхи, наполненные каменными петухами, курами и т.п. То есть там представлены, другими словами, просто железобетонные конструкции, каркасы, особенно в этих заключительных списках, сметах, каких-то неизвестных спрятанных туземцами пещер, пространств, которые, очевидно, имеют отношение к пространству «внутри картины», но они не пустые, а явно наполненные каким-то говном, то есть потенциально вовлеченные в какое-то идеологическое строительство. Кстати, то же самое в рассказе «Обелиск» Сорокина.
Б. Да, я помню.
М. Там тоже есть какие-то реликты архаического, магического народного сознания, эстетически не очищенного, не опустошенного, которые завораживают автора, ослабляют, и он иногда не справляется с материалом, не дистанцируется от него.
Б. Но они же так заданы!
М. В том-то и дело, что нет. И тот и другой, когда я говорил с ними на эту тему, они тоже сомневаются в своих результатах, до конца не уверены, что именно так надо было решить эти места.
Б. Может быть, это просто обычные колебания художника, сомнение в точности совершенного жеста.
М. Так вот я и хочу сказать, что пространство «внутри картины» – оно и есть порождающее пространство. И чем оно наполнено? Оно наполнено реликтами магического сознания.
Б. А, понял. То есть вместо метафизики получается что?
М. Просто архаика какая-то.
Б. Архаика, да.
М. В то время, когда в концептуальном искусстве был уже задан камертон полной дистанцированности, отстраненности от всякого идеологического содержания, с чем, кстати, как с основной характеристикой московского концептуализма, согласен и Кабаков, мы недавно об этом с ним говорили. То есть с помощью этого камертона можно работать только на эстетическом горизонте, что и делал Кабаков практически во всех своих произведениях, и делал это замечательно, так же как и Сорокин. То есть они целиком охватывали реальные эстетические пространства – экспозиционные и демонстрационные, в то время как в этих последних работах опять возникли эти ошметки метафизической замутненности.
Б. То есть, если вернуться к Сорокину, к «Обелиску», то ты имеешь в виду, что в нем наблюдается какая-то ненужная или избыточная…
М. Плеоназм…
Б. Такой плеоназм семантических слоев, манер или стилей, заимствованных из обыденной речи, из официальной литературы и т.п.
М. Если ты хорошо помнишь сорокинский «Обелиск», то вот центральный эпизод, когда идет ругань в форме богородичного акафиста, но содержание там скорее былинного характера, то есть более энергетически глубинные переживания, с зачинами типа «А и пошел-то…», нет формального соответствия между планом содержания и выражения, содержание «гудит» через эти подразумевающиеся и наличествующие «А иии…», «А у…», фонетический вой, а выражение – назывное, а не предикативно-действующее, как в акафисте.
Б. А где ты здесь видишь покушение на эту пустоту метафизического горизонта? Ведь это какой-то один из возможных приемов, с помощью которого Сорокин пытается работать с известными ему стилями.
М. Мне кажется, что здесь он просто не сделал достаточно усилий, чтобы довести весь текст до уровня эстетической автономии. Он показал только плывущее по поверхности реки говно в пропорциональном ущербе к им же включенному на дне реки огромному насосу (былинность), сам факт наличия которого разжижает, ослабляет впечатление от этого плывущего по реке говна. Он не смог установить и зафиксировать взгляд на этот колоссальный подводный насос, сосущий, дрожащий, перекачивающий тонны этого глубинного говна. Просто как штангист поставил большой вес и не смог его взять. В «Мартине Алексеевиче» и во многих других своих произведениях он смог установить и зафиксировать эстетический взгляд на те явления, которые он обнаружил, а здесь нет. Вот и все. То есть я хочу сказать, что эстетическая автономия требует, чтобы постоянно звучал этот камертон, поскольку его пустой звук, неслышимый, перекрывает все возможные звуковые артикуляции и позволяет слушать их со стороны, не влипая в идеологическую содержательность.
Б. Да, камертон.
М. То есть всегда следует помнить, что пространство «внутри картины» или «внутри текста» на самом деле пусто. А если нет этого камертона, постоянно «звучащего», то опять возникает деавтономизация и зависимость от других пространств – идеологических, вроде бойсовской архаики, или более поверхностно-коммунальные, как у Кабакова, социально-политические диффузии, не важно, главное, что идет втягивание. В то время как в пустое пространство нельзя втянуться сознанием, в него можно только войти физически, как в инсталляцию. То, что заявляет и Кабаков: в инсталляцию человек входит физически, именно как человек, нормально, и оценивает себя со стороны как «зрителя-персонажа», поэтому он и свободен от всякой семиотики и идеологии. Если же он не делает этого жеста, усилия, то он ничего не понимает. Вот в чем состоит простота и чистота этой позиции. Если человек входит в это пространство «внутри картины», уже как в физически обжитое, через этот «Палец» как через модель, обвешанный какими-то туманными метафизическими ошметками, какими-то обволакивающими сознание идеологемами, то он ничего не может получить, он не может созерцать себя со стороны в той среде, которая дает ему определенную эстетическую настроенность как состояние сознания. В конце концов, мы знаем, и в этом я согласен с Эд. Дж. Муром, который говорил, что ценными являются только определенные состояния сознания. Но ведь определенные состояния сознания возникают лишь в каких-то ситуациях и в какой-то среде. Эстетический горизонт порождает одни состояния сознания, идеологический дает другие, политическая борьба дает третье, техника – четвертое и т.д. Если мы диффузируем все это, то эти определенные состояния сознания не будут ценными, потому что они становятся мутными, деструктивными.
Б. Да. Но тут все-таки заметь, что есть некая непроясненность статуса этого метафизического пространства по отношению ко всем остальным.
М. Но я говорил просто о комфорте.
Б. Я понимаю. Есть разница между возможной идеологической интерпретацией работы внешним наблюдателем и присутствием в самой эстетической позиции автора работы некоего метафизического компонента. Одно дело, например, интерпретация Шифферсом или Барабановым какой-то работы, допустим, твоей или Эдика Штейнберга, а другое дело сам Эдик Штейнберг как идеолог, другое дело – возможность усмотрения в работе Эдика Штейнберга идеологического пласта, который уже в свою очередь мы можем отрефлектировать и увидеть, в какой мере он разрушает эстетическую ткань, поскольку лишает ее этой автономии.
М. Да. Тем самым совершая ошибку и вводя нас в дискомфортное состояние.
Б. Да. И мы расцениваем такую работу как неудачную.
М. Здесь должна быть очень жесткая определенность и критерий. Последнее время, как ты сам, наверное, чувствуешь, разрушаются критерии эстетической автономии.
Б. Да. И второе. Очень важная мысль, мне кажется, состоит вот в чем. Мы говорили об этом в диалоге «Божественная англичанка», что есть некая ментальность, данность нашего сознания, мыслительная активность, но существует и наше социальное, психологическое тело, данности нашей судьбе, биографии, состояния жизни, все многообразие нашей включенности в окружающую действительность, по поводу которой мы можем рефлексировать и актом этой рефлексии нечто менять, а может быть, лишь ощущать нашу зависимость от этого. Хотим мы этого или не хотим, советское искусство связано с нашим жизненным горизонтом, мы не можем не отмечать нашей включенности в его идеологическое поле и необходимости как-то на это реагировать.
М. Это и есть, в сущности, экспозиционное поле.
Б. Да, да. Я хочу сказать, что в этом смысле все значение соц-арта состояло в том, что его создателям удалось отрефлектировать нашу идеологическую данность и сделать ее эстетической.
М. То есть поместить ее в демонстрационное поле.
Б. Совершенно верно. Но я хочу сказать о пустоте как о некоем самоценном результате некой цели целого ряда эстетических действий. Есть два варианта ее создания. В исходном пункте этого движения, эстетического самодвижения, как в филогенезе или в онтогенезе, когда мы просто наблюдаем в самой конструкции, семантике работы шаги, фазы, структуры и периоды. И видимо, это самое ценное, когда художник предъявляет нам не просто интересную, красивую вещь, тогда это вещь ограниченной эстетической ценности, а когда мы видим в «снятом», как сказал бы диалектик, виде все предшествующее развитие. Я хочу сказать, что в этом смысле метафизическая пустота может быть достигнута лишь в ходе неких усилий, в процессе снятия своей изначальной заполненности, в частности идеологической.
М. Да, конечно, здесь необходимо два мастерства.
Б. Либо – второе. И мы можем такие работы вспомнить, когда пустота бралась как некая данность. Это была простая пустота, не обогащенная предшествующим снятием.
М. Конечно. И поэтому мы можем теперь говорить о двух усилиях мастерства. Первое усилие – это художник или текстовик должен все время прислушиваться к камертону пустого пространства «внутри картины», и второе усилие мастерства, более банальное – техника. Вот, например, Кабаков и Булатов, они учились минимум лет пятнадцать, они прекрасно владеют механизмом рисунка, живописи, композиции, могут как угодно стилизовать. Чего, кстати, нельзя сказать, например, о Волкове, о Захарове, которые в основном владеют фактурой, у них такой дар, и некоторыми концептуальными спекуляциями. Поэтому можно предположить, что в плане мастерства исторические перспективы Кабакова, Булатова и Наховой, которые очень долго учились владеть этими механизмами, совершенно обеспечены. Что, между прочим, проблематично для Волкова, Захарова, которые так долго этому не учились, этой механике, и это дает о себе знать. В то время как мастерство сохранения пустоты «внутри картины», которым обладают и Волков, и Захаров, и Ануфриев, и т.д. наравне с Кабаковым, Булатовым, – не само дает знать о себе, а его нужно все время сознательно иметь в виду. Поэтому у последних все-таки нет такой сильной, проработанной достоверности на уровне материала, механики, которая есть у Кабакова и Булатова, хотя школьная позиция – одна.
Б. Среди художников, обладающих какой-то культурой, точнее, мастерством, ты назвал…
М. Техническим мастерством…
Б. Да, ты назвал Кабакова, Булатова и Нахову. Действительно, очень удобно их сопоставить, особенно Кабакова и Нахову, в связи с их подходом к созданию эстетических пространств, которые строятся так, что в них зритель попадает «внутрь». Мне кажется, что семантика и метафизическая интерпретация этих «вхождений» у них различная. На мой взгляд, традиция семидесятых годов состояла в том, что эстетическая автономия и тем самым «пустота» метафизического пространства «внутри картины» возникали как результат усилий по нейтрализации, снятии или опустошению…
М. Идеологических «внешних» пространств…
Б. Да. Этих слоев. В работах Кабакова, в его «комнатах» мы видим некоторую «сквозность». Это геодезический термин. С помощью этого термина в геодезии обозначают требования к застройке на пляжах. Оказывается, нельзя строить длинные сооружения с очень длинными фундаментами вдоль пляжа, потому что они разрушаются благодаря работе моря. Нужно обязательно застраивать с интервалами, с зазорами. И вот эту застройку они называют термином «сквозность». В твоей работе «Палец» очень наглядно представлена эта «сквозность». Я хочу сказать, что и эта работа, и комнаты Кабакова устроены таким образом, в них достигается некий баланс. Прежде всего экзистенциальный баланс, то есть заполненность демонстрационного пространства, благодаря включенности в которое мы понимаем исторические и идеологические контексты вещи. И дальше, с помощью особых приемов, достигается высвобождение из этого пространства. Потребность в этом высвобождении возникает постольку, поскольку оно дается как достаточно тягостное. Но авторы предоставляют средства для этого высвобождения, для выхода из этого пространства. Степень свободы выхода из этого пространства сбалансирована степенью экзистенциальной плотности предъявленной среды. Соблюдается «сквозность»: мы как бы «залипаем» туда, нечто переживаем, но нас все равно оттуда вытаскивают.
М. Да. Механизм этого «вытаскивания», что мне кажется очень важным, – тексты-объяснения.
Б. В том числе. И в этом смысле метафизическая «пустота» внутри картины, автономия является результатом эстетических усилий.
М. Причем отчетливо артикулированных в материале. В то время как у Иры трудно найти этот механизм, а следовательно, выход из ее пространств, «сквозность» – довольно проблематичны. Во всяком случае, текстовые объяснения как элемент эстетической структуры она не использует.
Б. Не использует, да. Но эта «пустота» и даже автономия у нее безусловно присутствует, хотя образуется довольно странным образом, скорее не эстетическим, а биографическим. Она может работать, когда становится сама по себе автономной как социальная или экзистенциальная единица.
М. Да, мы с тобой в каком-то смысле жертвы ее «эстетики», жест «высвобождения», о котором ты говорил, нам с тобой очень хорошо знаком, так сказать, на собственной шкуре (смеется).
Б. (Смеется.) Но как это ни парадоксально, она сумела достичь чистой семантики пространства, никак не заводя в эту семантику какого-нибудь социального или экзистенциального компонента. Хотя – и она сама это признает – ее наиболее эффектные работы – это работы «Разрушение», где представлен разрушенный собор.
М. Но это не инсталляция.
Б. Это картина. Но в данном случае я их объединяю по общей стилистике. У нее присутствует как бы заведомая очищенность.
М. Если понятие «очищенность» рассматривать абстрактно, то у нее эта очищенность в инсталляциях касается только самого объема внутреннего пространства, но не его «стен». А у Кабакова происходит очищение, деидеологизация и стен этого «внутреннего» пространства за счет использования механизма текстового объяснения. Ты указал на очень интересную вещь. Оказывается, что вот это «второе» мастерство или даже можно назвать его «первым» по степени важности в достижении эстетической автономии, то есть соблюдение камертона «пустоты внутри картины», этот механизм может включаться через очень конкретную вещь, а именно через внедрение в инсталляцию текстов – объяснений. Вносится как бы посторонний взгляд на то, что происходит внутри между зрителем и экзистенциальным нарративом инсталляции.
Б. Мне кажется, что наиболее в этом смысле интересные работы в восьмидесятые годы были постконцептуалистские, постсоц-артистские. У Иры же явно отсутствует соц-артистский момент, хотя очевидна свойственная концептуализму конструктивная и стилевая свобода. Но я боюсь, что в ее эстетике нет завоеванной концептуализмом совершенно новой системы эстетических позиций, которая работает, в частности, с помощью текстов или какой-то особой семантики. Ведь и в постконцептуализме, например, «Мухоморы», Волков, – всегда имели дело со всеми этими «советскими делами», там достигалась некая нормальная игра, баланс…
М. Да, отстранение, дистанция.
Б. Было, было. Они это сумели сделать. И в этом их явная принадлежность к традиции советского соц-арта и концептуализма. А у Наховой, наряду с конструктивной свободой, как-то не видно проработки включенности в сильные экзистенциальные поля…
М. Да, в эти культурные слои. Они, вероятно, не стали для нее археологическими, они еще актуальны для нее. Актуальны на уровне материала, а не на уровне археологии. Видимо, визуальному знаку труднее отлипнуть от идеологической стихии, труднее, чем тексту. Ведь Кабаков в своих инсталляциях – комнатах скорее исходит из литературы, а Нахова – из пластики, из изобразительного искусства. Именно на визуальном горизонте идеология актуальна как стихия, между художником и идеологией как стихией часто возникает тягостный, магический контакт каких-то глобальных борений, всполохов, вихрей. Вспомни ее экспрессионистский «Дворец съездов».
Б. Да, верно. Либо эти «культурные» слои для нее актуальны, либо она демонстрирует позицию художника в «башне из слоновой кости», который просто не хочет иметь дело со всем этим. Он считает, что существуют заведомо эстетические проблемы или темы. Допустим, есть вечная проблема пластики, есть вечная проблема тектоники, вечная проблема композиции, картины или картинности. В этом смысле в своих инсталляциях она просто по-своему интерпретирует ограничения картинного пространства, превращает, допустим, его в объемное. Но все-таки это достаточно формальный ход, как ты считаешь?
М. Идеологически формальный, но не технически формальный. Дело в том, что в этом выдвижении картины, в эволюции картины от непосредственно картины до инсталляции она не находится на стадии, скажем, кроманьонца, она где-то на стадии перехода неандертальца в какой-то другой вид, если, конечно, брать этот чисто дискурсивный эволюционный горизонт, который, конечно, не является единственным в общей парадигме эстетического дискурса о жанрах. Здесь я имею в виду только то, что сказал Булатов об «эволюционном выдвижении картины». Но на этом горизонте все просматривается достаточно просто. В этом варианте дискурса она «проигрывает» Кабакову в том смысле, что не знает, в отличие от Кабакова, как держать этот камертон «пустоты внутри картины». Она очень хорошо пользуется рисунком, композицией, живописью, великолепно организует пространство в его объемных формах, но вот мастерства удержания «пустоты внутри картины» у нее как бы нет. Она, может быть, даже и не подозревает о том, что это мастерство необходимо для того, чтобы успешно участвовать в этой эволюционной «борьбе видов», проще говоря, чтобы делать инсталляции с «выходом», хотя на саму инсталляцию как на жанр она выходит раньше Кабакова, опережая его в том смысле, что «обшивка» у нее, уже, скажем, как у «Боинга», а двигатель – в виде парового котла. Но не следует забывать, что у Кабакова и у Наховой совершенно разные основания: у него – литературное в большей степени, у нее – изобразительное.
Б. И конечно, нельзя сказать художнику, чтобы он использовал в своих работах социальную тематику, такого жесткого требования нет.
М. Но мы ничего и не требуем, мы разбираем типы инсталляций.
Ведь наша основная тема – это тема «внутри картины» и отношение к этому пространству «внутри картины» со стороны художников. То есть учитывает ли художник это пространство как эстетическое или не учитывает и оно остается для него неосознанным метафизическим реликтом. Если он учитывает его и включает механизмы для того, чтобы сохранить эту «пустоту внутри картины», тогда мы получаем один эффект, актуальный, живой эффект, поддерживающий нашу тему автономии; если он их не использует, мы получаем несколько замутненный, неопределенный эффект, где эстетическая автономия ставится под вопрос и где возникают реликтовые остатки магического сознания, связанные с идеологией, метафизикой и т.д.
Б. В дополнение к тому, что мы сказали про Нахову, я хочу добавить, что у нее есть только один, как мне кажется, удачный ход, который она не осознала как удачный.
М. Это какой?
Б. У нее есть работа, которая мне казалась ключевой, камертонной для понимания того нового и интересного, что она с собой принесла. Это были графические эскизы к ее «Плафону», четыре листа графики, на которых были изображены «земли», условные ландшафты, как бы парадигматика изображения земной поверхности.
М. Очень хорошо помню. Там была дана инвариантность топографии.
Б. Блестящие работы. Она в этом случае работала как постмодернист, обсуждая в своей работе условия пространственного опыта художника.
М. Да, рефлексия на пространственный опыт – это очень высокий эстетический уровень. Блестящий уровень.
Б. С такой ясностью этого тогда не делал никто. Никто не смог достичь такой прозрачности визуального знака, очень целостного, причем в нем была представлена вся развертка и конструкция.
М. Тот же эффект присутствует в картине, которую, помнишь, – мы как-то выделили с тобой, вот эти две картины…
Б. Да, белый диптих. Пожалуй, это ее самые удачные работы. Этот белый диптих и эскизы к «Плафону», а не сам «Плафон», в котором все уже было уплощено. Я бы еще присоединил сюда, правда, уже с другим, более салонным эффектом, «Руины» храма. Там тоже был соблюден некий баланс между идеологической провокационностью и мастерством выполнения. И может быть, еще одна работа, вероятно не самая важная, но она мне тоже кажется удачной. Забыл, как она называется, работа 78-го года, где на голубом фоне дерево, золотые, белые эмблемы.
М. А, да, да… как бы такая «итальянская» работа…
Б. Да, итальянские мотивы. Там возникло историческое пространство искусства, которое обогатило довольно сухую материю чистого пространства. В большинстве же других работ чистота и ясность вот этого жеста «обсуждения пространственного опыта художника в истории искусства» не достигалась. Либо были какие-то пластические накладки, в частности, работа с дверями мне не кажется очень удачной…
М. И почему же так происходит? Может быть, потому, что в данном случае возникает дефицит критического сознания?
Б. Одну минуту, прости. Ведь на самом деле те работы, которые мы назвали в положительном смысле, действительно являются концептуалистскими. В них решается основная задача концептуализма: обсуждение условий художественного опыта.
М. Верно. И точное фиксирование места художника и зрителя как места свободного от этого произведения.
Б. Да. Ведь на самом деле здесь очень простой пространственный эффект. Достаточно в ее эстетике, в ее стилистике представить два независимо изображенных объекта, сопоставимые и в то же время различимые, как это было с «Землями», чтобы наблюдатель смог по двум проекциям воссоздать всю систему координат, чтобы возникла возможность создания своей позиции наблюдателя. Тогда же, когда она, не осознавая до конца этого обстоятельства, завязывает два изображения в единую конструкцию, эта возможность утрачивается, «наблюдателя» не возникает. Как это и получилось с «Плафоном» или с работой «Кирпич», где она, несмотря на свои пластические удачи, не поднимается на даже минимальную концептуалистскую позиционную высоту.
М. Да. И в этом смысле мы не совсем правомерно рассматриваем ее творчество на заявленном здесь горизонте критического осознания той или иной эстетической традиции. Наш горизонт не «выше» или не «ниже» какой-либо традиции, он просто другой. Ведь дело не только во внешней схожести, не в «инсталляционности». В конце концов, как инсталляции можно рассматривать жертвоприношения, богослужения, оформление идеологических парадов, инсталляции были и у дадаистов, и у сюрреалистов. Речь шла о другом. О новом, совершенно деидеологизированном типе инсталляции, о замене метафизического пространства инсталляции физическим, о другом типе телесности зрителя, который попадает в пространство инсталляции.
Б. Да. Но все же отметим, что Нахова вписывается в ту общую живописную и общехудожественную культуру, которая была свойственна модернизму и постмодернизму. Как очень точно кто-то сказал по поводу колористического аспекта работ Брускина, что в нем есть некое сочетание цветов, колорит, который уже пройден и не является характерно модернистским. Оказывается, и для меня это было очень понятно, и это очень новый взгляд, модернизм выработал и свое отношение к цвету, к гамме, и это отношение видно. Совершенно особые обертона, по которым видна модернистская или постмодернистская работа. И у Иры это есть. Этой культурой она владеет достаточно свободно. Другое дело – в какой мере она осознает каждый раз свою задачу.
М. Как у художника-концептуалиста у нее существует дефицит критического сознания, который не всегда позволяет рассматривать ее в таком статусе.
Б. Любопытно, что ее серия «Комнат» не стала концептуальной серией до тех пор, пока все эти материалы не были обработаны и не помещены в книгу «Комнаты». Ведь эти работы по своей общехудожественной семантике не выстраивались в один ряд.
М. Если не учитывать четвертую комнату, которая была сделана специально для книги «Комнаты».
Б. Да, в объемно осуществленных комнатах используется лишь некий формальный прием пространственного освоения. И все. Видно, что она решает очень формальные задачи, не развивая некую метафизическую идею, не достигая каждый раз «очищения»…
М. «Очищения» от метафизики, поскольку у нее не работает камертон «пустоты внутри картины».
Б. Да.
М. И «очищения» этих «стен». А ты не помнишь, какое у тебя было впечатление, ты был, по-моему, на этой первой, насколько я помню, в московском концептуализме, инсталляции «Рай» Комара и Меламида?
Б. Помню, конечно. Это 73-й год.
М. Можно ли сказать, что там зритель был «зрителем-персонажем»?
Б. Во многом. Они же с самого начала стали работать в этой парадигме. Там были разные фокусы, за счет которых…
М. Но мне кажется, что в то время вот эта «внешность», «персонажность» зрителя, который находится внутри инсталляции, она обеспечивалась довольно простым, прежде всего идеологическим и политическим взглядом, но не эстетическим. Ведь Кабаков использует не только наглядное пособие по советской идеологии, но именно эстетические механизмы, через объяснения и т.п. В инсталляции «Рай», насколько я помню, эти механизмы не были включены.