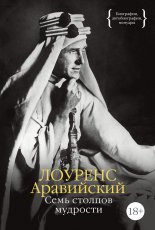Ирония идеала. Парадоксы русской литературы Эпштейн Михаил
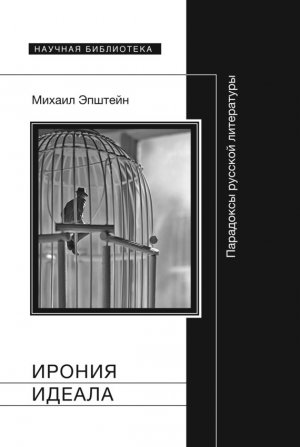
– зачехленное, сдержанное, как ы ушедшее в подтекст у Чехова;
– сумрачно-неподвижное, облеченное в рыцарские латы у Блока;
– осенне-ясное у Есенина;
– сигнально-призывное, маячащее у Маяковского…
- …Шипенье пенистых бокалов
- И пунша пламень голубой.
Часто восхищаются этой звукописью у Пушкина, но нельзя не заметить здесь и имяпись: имя «Пушкин», сочетание букв «п-ш-н» вписано и в «шипенье», и в «пунш», отдается и в других словах– «пенистый», «пламень», «голубой».
Чувство слова у писателя зарождается– быть может, в раннем детстве– со звука собственного имени, которое затем превращается в систему стилевых средств, охватывающих мироздание. Имя– сверхслово, которое находит отзвук во множестве других слов, ведет к переименованию вещей, чтобы они отдавались эхом, чтобы весь язык резонировал в лад с именем самого именователя. Именно потому что писатель– властелин имен, он пишет прежде всего «во имя свое», заклинает мир звуком своего волшебного имени. Цель– доказать, что этим именем может быть названа вселенная115.
Набоков ясно определил угол этого «бокового» видения в романе «Дар». Главный герой Федор Годунов-Чердынцев пишет биографию Н.Г. Чернышевского, где очерчивает его прямолинейный, плебейский ум, способный рассматривать вещи только в упор. Между тем настоящий художник всегда видит мир чуть наискосок, не прямо, в косвенных падежах: «Как и слова, вещи имеют свои падежи. Чернышевский все видел в именительном. Между тем всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало».
Я приведу несколько фраз из Набокова, с тем, чтобы в них могла обнаружиться эта скошенность и наклонность его взгляда, нечто неотвратимо набоковское.
Далеко, в бледном просвете, в неровной раме седоватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры… («Весна в Фиальте»).
Иногда, где-нибудь, среди общего разговора упоминалось ее имя и она сбегала по ступеням чьей-то фразы, не оборачиваясь (там же).
И как сквозь медузу проходит свет воды и каждое ее колебание, так все проникало через него, и ощущение этой текучести преображалось в подобие ясновидения: лежа плашмя на кушетке, относимой вбок течением тени, он вместе с тем сопутствовал далеким прохожим… («Тяжелый дым»).
Казалось бы, все это о разном– но читатель, любящий Набокова, шестым чувством постигает особый, всегда наклонный, на-бок-овский ракурс этого мира: сбегает ли женщина по ступенькам чужой фразы, или дома с трудом поднимаются с колен, или сквозит в стеклах прислон стула, или человека относит вбок течение чьих-то теней… Далеко не всегда этот наклон именно пространственный, он может быть световым, слуховым, психологическим, ситуативным. Да и вообще представлять частный случай такого смещения, когда вещь выводится в боковую плоскость– в чем-то отражается или отбрасывает свой отблеск– и незаметно ускользает, оставляя ощущение мимо проскользнувшего призрака. Набоков виртуозен и последователен именно в таком пересечении разных проекций предмета, которые постепенно перетасовывают и сводят на нет объем его существования.
Вчитаемся хотя бы в одну фразу из рассказа «Тяжелый дым»… Кстати, сама поэтика набоковских названий заслуживает отдельного изучения. «Тяжелый дым» или «Бледный огонь»– в этих названиях значение одного слова стирается значением другого. «Дым»– «тяжелый», и вот он уже оседает к земле, пока поднимается к небу, и два струящихся потока: вверх и вниз– держат его в колеблющейся середине, точнее, в движении куда-то вбок, словно его относит в сторону: у этого тяжелого дыма– ковыляющая походка. Подобные набоковские названия– прибавим к ним и «Смех в темноте», и «Камера обскура»– это не оксюмороны, типа «горячий снег», где в лоб сталкиваются противоположности. В них не сшибка, а смещение, наклон; исходный признак («огонь») снимается не противопоставлением, а переходом в полубытие, на грань небытия («бледный»). Предмет накреняется– и удерживается на самом краю, сгибе, сломе, точно наудачу брошенная монета– орел или решка?– вдруг встала бы, подрагивая, на самое ребро…
И этот же крен– в синтаксических сцеплениях, лексических звеньях:
Из глубины соседней гостиной, отделенной от его комнаты раздвижными дверьми (сквозь слепое, зыбкое стекло которых горел рассыпанный по зыби блеск тамошней лампы, а пониже сквозил, как в глубокой воде, расплывчато-темный прислон стула, ставимого так ввиду поползновения дверей медленно, с содроганиями, разъезжаться), слышался по временам невнятный, малословный разговор («Тяжелый дым»).
В одном этом предложении– едва ли не десяток приемов самостирания, и скобки, после которых фраза с трудом восстанавливается, есть графический эквивалент описанных в них разъезжающихся дверей, которым она посвящена (попробуй-ка поймать растопыренными руками сразу обе половины– фразы и двери). Такие скобки есть лишь один из приемов опрозрачнить фразу и свести ее предметность к минимуму, к совокупности мнимостей. Каждая вещь являет себя по мере исчезновения, как бы напоследок, на грани пропажи или гибели.
Гостиная (о которой речь) отделена от комнаты (откуда автор ведет наблюдение вместе с героем) стеклянными дверями.
Стекло в дверях– «слепое», «зыбкое», не пропускает, но отбрасывает свет.
Свет лампы также рассыпается, отсвечивает зыбью.
Пониже от этого размытого пятна сквозит отражение стула.
И не стула, а особого прислона его, особого поворота, набок, к чему-то другому.
И сам этот прислон– расплывчато-темный.
И отражен он как будто в текущей воде.
И стоит этот стул поперек дверей (что-то все время стоит поперек чему-то, искривляет линию движения или взгляда).
И сами эти двери имеют свойство куда-то в разные стороны разбегаться– ускользать от самих себя.
Да и разговор, который доносится из гостиной, слышится лишь по временам, так же «разъезжаясь», как двери.
И сам по себе разговор этот невнятный, с пропуском смысла и слов.
Я насчитал в одной фразе одиннадцать сбивов, наплывов, размывов– как неких единиц набоковского стилевого мышления; может быть, внимательный читатель обнаружит больше. Чего достигает подобная фраза в отношении к реальности? Ирреализует ее. Каждая вещь словесным наплывом куда-то отодвигается в сторону, сглаживается в другой вещи, и мир, оставаясь подробно описанным, магически исчезает по мере своего описания.
Приведу начало поэмы Джона Шейда из романа «Бледный огонь»:
- Я тень, я свиристель, убитый влет
- Подложной синью, взятой в переплет
- Окна; комочек пепла, легкий прах,
- Порхнувший в отраженных небесах116.
У набоковского героя-поэта в какой-то мере даже сгущаются стилевые особенности самого Набокова. «Я», самое достоверное, что у меня есть, определяется как тень, отброшеная уже не существующей птицей, которая была убита опять-таки мнимостью, подложной синью стекла. Реальность обнаруживает в себе двойную, тройную, бесконечно множимую иллюзию. Что может быть более невесомого и призрачного, чем прах, к тому же похожий на пепел,– но и здесь берется лишь комочек этого праха, тень тени, небытие небытия. И небо, в котором живет «я» после своей смерти,– само лишь стеклянное отражение. Можно было бы кристально ясными семиотическими минус-единицами– «ирреалиями»– исчислять меру набоковской призрачности. Подробности, по мере перечисления, не прибавляются к этому миру, а как будто вычитаются из него.
Что остается– отвечает сам Набоков: «мнимая перспектива, графический мираж, обольстительный своей призрачностью и пустынностью». Не страшный, как у Гоголя, своей мертвенностью, а «обольстительный своей призрачностью». Если гоолевская деталь подчеркнута и обведена в своей абсурдной, «торчащей» вещности (например, колесо в зачине «Мертвых душ»), то набоковская, напротив, перечеркнута– косым, стремительным жестом, вслед за которым отлетает в сторону, превращаясь в часть миража. Набоковский стиль– мягкий ластик, стирающий очертания предметов, чтобы определеннее выступила фактура отсутствующей реальности или чистого листа, на котором работает автор. Я бы сказал, что это стиль отслеживания, чреда тающих следов-отражений, и чем дальше движется фраза в своей самостирающейся логике, тем полнее объем исчезающей вещи, покинутое и отслеженное ею пространство.
Последний пример:
…Косо лоснились полотна широких картин, полные грозовых облаков, среди которых плавали в синих и розовых ризах нежные идолы религиозной живописи, и все это разрешалось внезапным волнением туманных завес… («Посещение музея»).
Полотна «косо лоснятся» (через это повторное «ос» смещается ось взгляда) и вместе с тем они полны грозовых облаков, то есть размыты одновременно изнутри и снаружи, переходя в свет изображаемой облачности и лоск отраженного от них света. Реальность самого полотна теряется в этих двух встречных отсвечиваниях, а дальше за ней обнаруживается нечто еще более расплывчатое даже по сравнению с облаками– нежные идолы, плавающие в облачении нежного же цвета риз. Причем «все это разрешалось внезапным волнением туманных завес». Может быть, это не лучшая набоковская фраза, но одна из самых набоковских: все четыре слова означают примерно одно и то же: «внезапный»– наплыв во времени, «волнение»– в пространстве, «туманный»– в освещении, «завесы»– вещная ткань наплыва, и все это разные способы обозначить расплывание и стирание самой вещности.
Л. Толстой говорил, что в искусстве самое главное– это «чуть-чуть». Не потому ли Набоков воспринимается как образец и наставник чистого художества? Его редкостное, единственное в русской литературе чутье распространяется до крайних пределов этого «чуть-чуть», которое призывает нас– волею самого слова, родственного «чутью»– вчувствоваться в то, чему предшествует, с чем сочетается: чуть-чуть запаха, чуть-чуть веяния, чуть-чуть присутствия в этом мире. Отсюда и подчеркнутая неприязнь Набокова не просто к идеологическим задачам, но вообще к крупноблочным конструкциям в искусстве: социальным, филантропическим, психоаналитическим, религиозно-миссионерским…
Литература, по Набокову, не должна брать на себя слишком много, ибо ее вечная любовь– малое и слабое, зыбкость мира, теряющего одну черту за другой по мере образного их воплощения и перечеркивания летящим, наклонным набоковским почерком. Всякая идея, как образец прямоты и однозначности, с высоты всеобщности озирает бытие– вот почему идеям не место в этом изнемогающем, клонящемся мире.
Набоков– гений исчезновений, не просто «гроссмейстер Набоков», как назвал его Джон Апдайк в своей известной статье, но великий мастер эндшпиля. В этом удивительная и незаменимая сопричастность Набокова русской культуре, которая есть по преимуществу культура конца, эсхатологии, прозрения в последнюю тайну и завершение всех вещей (из этой глубины всплывают темы: Набоков и Владимир Соловьев, Набоков и Бердяев, Набоков и Апокалипсис, Набоков и революция). Россия не часто удивляла мир открытиями, не часто полагала основание какой-то положительной новизне, на что сетовал в свое время Чаадаев. «…Ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды…»117 Однако этот недостаток «оригинальности» (в буквальном смысле– начала, происхождения) не есть ли предпосылка иного искусства– приводить к финалу? Не умея начинать, Россия словно бы находила свое призвание в завершении тех начал, которые так или иначе полагались ей извне, от «варяг» и «греков». Все иноземное, попадая в Россию, постепенно сводится на нет и клонится к небытию, становится призрачным и пустынным. Сама природа умиляет здесь своей увядающей, прощальной красой (пушкинской в набоковском смысле). Если взглянуть через набоковскую призму, то любая вещь в России– это прощание с вещью, цивилизация– прощание с цивилизацией, жизнь– прощание с жизнью. Это не означает: пустота, варварство или смерть, потому что противоположное имеет свою определенность, «идентичность», столь противную дару Набокова. Но остановимся на этом прощании, которое долго смотрит бытию вслед, не отворачиваясь даже тогда, когда оно исчезает в набоковской вечереющей дымке. Ответ тем, кто считает Набокова слишком западным, недостаточно русским: где еще вещи так рассеиваются необратимо и призрачно, как в России, как она сама?
Набоковское– это искусство прощания. Поэтому теперь, когда мы, так и не начиная ничего нового, вновь в который раз бесконечно долго прощаемся со своим прошлым, Набоков подсказывает нам необходимые слова, переводящие развоплощение реальности в поэтическое измерение. «Все было как полагается: серый цвет, сон вещества, обеспредметившаяся предметность». Так написано в рассказе «Посещение музея». А бесконечным этим музеем, собранием засыпающих и все более потусторонних вещей, для набоковского героя, как известно, оказалась Россия.
ТАЙНА БЫТИЯ И НЕБЫТИЯ У ВЛАДИМИРА НАБОКОВА
Согласно самым распространенным представлениям о природе бытия, Бог сотворил мир из ничего. Таково мировоззрение и Платона, и неоплатоников, и иудео-христианской, и мусульманской теологии. Но как именно нечто происходит из ничто– величайшая загадка. «Зачем и почему происходит эта эманация мира из единого Ничто, на это не может быть ответа, и не находим мы его и в учении Плотина…»– полагал философ С. Булгаков118.
Литература в своей творческой дерзости порой предлагает такие решения мировых загадок, на которые не отваживается ни теология, ограниченная догматами веры, ни философия, подчиненная верховенству разума.
«Ничто внутри всего»– один из метафизических лейтмотивов Владимира Набокова, вступающего тем самым в перекличку не только с западной философией и теологией, но и с традициями буддийской мысли, и с концепциями современной космологии.
Ближе всего Набоков подходит к этой теме в своем последнем произведении, созданном по-русски,– в рассказе «Ultima Thule»119. В античных представлениях «Ultima Thule», «Последняя Фула»– это край земли, полумифическая островная страна на самом севере Европы. В переносном смысле, это вообще предел мироздания, за который человеку не дано заглянуть.
Герой рассказа Фальтер, заурядный коммерсант, внезапно осенен разгадкой главной тайны мироздания. Открыв для себя нечто непостижимое, он издает душераздирающий крик– и как будто утрачивает все человеческие чувства, волю и интерес к существованию. Врач-психиатр, пришедший исцелить его от странного недуга, услышал суть открытия– и умер на месте от разрыва сердца.
О чем же догадался Фальтер? И можно ли, узнав его тайну, не только остаться в живых, но и сохранить чувства любви, веры, благоволения и даже еще больше утвердиться в них?
Если проследить логику нарочито запутанных объяснений, которые повествователь, художник Синеусов, выпытывает из Фальтера, то можно так сформулировать его открытие: мир состоит из множества конкретных вещей, и каждая из них может стать отправной точкой в понимании целого. Но в точке прибытия это Все превращается в Ничто. Мы живем в мире, которого нет, как нет и нас самих,– именно поэтому он и кажется нам существующим.
О том, что догадка Фальтера прямо относится к небытию, свидетельствует притча, которой он поясняет свое открытие:
…В стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший; но никто не знал, что он никому не принадлежит; мнимая же его принадлежность комуто делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел.
Здесь реальность– принадлежность ялика кому-то– выступает всего лишь как переходный момент между двумя отрицаниями: ялик никому не принадлежит, и на него никто не обращает внимания. Фальтер случайно сел в ялик небытия и разгадал загадку двойного отрицания.
Еще один намек Фальтера на открывшуюся ему тайну:
Если вы ищете под стулом или под тенью стула и предмета там быть не может, потому что он просто в другом месте, то вопрос существования стула или тени стула не имеет ни малейшего отношения к игре. Сказать же, что, может быть, стул-то существует, но предмет не там, то же, что сказать, что, может быть, предмет-то там, но стула не существует, то есть вы опять попадаетесь в излюбленный человеческой мыслью круг.
В обеих этих притчах, хотя и предназначенных скорее скрыть, чем раскрыть тайну, прослеживается единая логика. Предмет определяется через его отсутствие, через разнообразные формы его небытия, непринадлежности, невидимости, ненаходимости. Если же предмет обнаруживается, то ценой исчезновения другого предмета. Мы думаем, что его нет там, где мы искали, тогда как отсутствует само место, где он должен был бы находиться. И «ялик», и «предмет»– это ирреалии, которые определяются только отрицательно, через то, что они «не». Важно даже не то, что говорит Фальтер, а как он пустословит, создавая картину мироздания, состоящую из переливающихся пустот, из «других мест», куда якобы перемещаются нужные вещи– и где их тоже невозможно найти.
Такие пустоты, не-явления, образованные негацией других явлений, можно назвать набоковским словечком «нетки». В «Приглашении на казнь» мать Цинцинната, Цецилия Ц., описывает не-вещи, которые в не-зеркале приобретали вид настоящих вещей:
…такие штуки, назывались «нетки»,– и к ним полагалось, значит, особое зеркало, мало что кривое– абсолютно искаженное, ничего нельзя понять, провалы, путаница, все скользит в глазах, но его кривизна была неспроста, а как раз так пригнана… <…> [Б]ыло такое вот дикое зеркало и целая коллекция разных неток, то есть абсолютно нелепых предметов: всякие такие бесформенные, пестрые, в дырках, в пятнах, рябые, шишковатые штуки, вроде каких-то ископаемых,– но зеркало, которое обыкновенные предметы абсолютно искажало, теперь, значит, получало настоящую пищу, то есть, когда вы такой непонятный и уродливый предмет ставили так, что он отражался в непонятном и уродливом зеркале, получалось замечательно; нет на нет давало да, все восстанавливалось, все было хорошо,– и вот из бесформенной пестряди получался в зеркале чудный стройный образ: цветы, корабль, фигура, какой-нибудь пейзаж.
Нетка в зеркале-коверкале выглядит как полноценная вещь, но это лишь взаимоналожение двух отрицаний, которые дают плюс. «Нет на нет давало да». И, однако, трудно за каждым из таких «да» не увидеть составляющих его «нет», т.е. бесконечно множащихся «неток», из которых создаются все воспринимаемые нами предметы– и мы сами. Во всем сущем есть только совокупность взаимных отрицаний: именно множество «нетостей», отрицаний и скрепляет всё вместе. Каждая вещь есть лишь способ отношения одного «не» к другому. Таков бесконечно множимый мир призраков, которые реальны друг для друга, но в своей общемировой сумме образуют ноль.
Не удивительно, если наш всемир, эта расширяющаяся вселенная, внутри которой много планет, звезд, галактик, метагалактик, тоже окажется не существующей как целое. В физике известна теория академика М.А. Маркова, согласно которой «из-за большого гравитационного дефекта масс полная масса замкнутой вселенной равна нулю»120. Дефект массы образуется гравитационными взаимодействиями внутри вселенной, силами притяжения и отталкивания, которые расширяют вселенную изнутри и одновременно сводят ее совокупную массу к нулю для стороннего наблюдателя. Наша вселенная, если она замкнута, в целом представляет собой ничто, а если полузамкнута, то имеет размер элементарной частицы. И наоборот, известные нам элементарные частицы могут внутри себя представлять целые вселенные, со скоплениями галактик, звездами, черными дырами и т.д. Вселенная представляется несуществующей или ничтожно малой внешнему наблюдателю, каким и становится герой набоковского рассказа в момент своего прозрения: посторонним и даже как будто потусторонним всему сущему.
Послушаем Фальтера:
Логические рассуждения очень удобны при небольших расстояниях, как пути мысленного сообщения, но круглота земли, увы, отражена и в логике: при идеально последовательном продвижении мысли вы вернетесь к отправной точке… с сознанием гениальной простоты, с приятнейшим чувством, что обняли истину, между тем как обняли лишь самого себя. Зачем же пускаться в путь?
Некое положительное движение, приобретение знания, смысла, цели, осуществимо лишь на ограниченном участке бытия (цивилизации, языка), но когда совершишь полный круг и вернешься в исходную точку, то полнота объятой истины обращается в ничто.
Прозрение Фальтера простирается абсолютно на все сущее, и даже такое понятие, как Бог, не имеет никаких привилегий в открывшейся ему картине мира. Причем Фальтеру безразлично, откуда начинать рассуждение, какие пути ведут к открытию тайны:
Что же вы скажете об истине, которая заключает в себе объяснение и доказательство всех возможных мысленных утверждений? <…> Как я могу вам ответить, есть ли Бог, когда речь, может быть, идет о сладком горошке или футбольных флажках? Вы не там и не так ищете, шер мосье, вот все, что я могу вам ответить. <…> Посредством цветистости слога и грамматического трюка вы просто гримируете ожидаемое вами отрицание под ожидаемое «да». Я сейчас только отрицаю.
Поскольку речь идет об отрицаниях, их цепь может начинаться с чего угодно. Начнем, как предлагает Фальтер, не с Бога, а со сладкого горошка, пусть это будет первосутью, первоначалом вселенной. Если существует сладкое, то, очевидно, по контрасту с ним должно быть и горькое, иначе понятие сладкого будет лишено определенности. В свою очередь, горькому кладется предел (и придается дальнейшая определенность) соленым, а соленому– кислым. Но вкус– лишь одно из чувств, и предел ему очерчивается соотнесенностью с запахами, звуками, цветами. Так во вселенную привносится все богатство чувственно воспринимаемого мира.
Второй элемент первосути– горошек. Он определяется отношением к другим растениям семейства бобовых: фасоли, сое, клеверу, акации… В свою очередь семейство бобовых определяется своими отличиями от других семейств: злаков, зонтичных, гиацинтовых, лавровых, ореховых… Далее, растения определяются в отношении минералов и животных, животные– в отношении человека… По отношению к человеку таким «не» выступают духи, ангелы и наконец Бог, как самое чистое из апофатических представлений, не имеющих облика и проявления, «сверх-НЕ».
Конечно, можно начать построение вселенной и с Бога– и далее определяющим его отрицанием положить начало всему, что не Он, следуя при этом уже не по восходящей, а по ниспадающей: вселенная, земля, человек, животные… дойдя в конце концов и до сладкого горошка. Для Фальтера все равно, чем начать и чем закончить, потому что Целое, которое мы таким образом получаем, состоит только из отрицаний. НЕ правит миром. Чтобы сладкий горошек мог быть тем, что он есть, во вселенной должно быть и все то, что НЕ есть сладкий горошек, т.е. несладкое и негороховое во всем разнообразии своих множащихся «не», отрицаний, отличий, инополаганий. Вселенная есть не что иное, как эта совокупность негаций, причем на каждый позитив приходится неисчислимое множество негативов. «Не» всегда бесконечно преобладает в структуре мироздания. На один горошек приходится неисчислимое множество не-горошков, и сам горошек определяется как бесконечная совокупность отрицаний того, чемон не является.
Кажется, что единственно положительным моментом во всем этом мирообразовании является первая точка выхода из небытия. От нее идет цепная реакция: не-А, не-не-А и т.д. По-видимому, так и произошло в начале нашего мира, которое физика описывает как «Большой взрыв», а Библия– «В начале сотворил Бог небо и землю». Отсюда пошло разделение всех форм и разновидностей бытия: света и тьмы, дня и ночи, воды и суши, растений и животных, мужчины и женщины, древа жизни и древа познания добра и зла и т.д. Это А, первое не-ничто, от которого начало быть все, именуется «Высшим Началом», «Первопричиной», «Сверхпричиной», «Творцом», «Логосом», «Первословом», «Альфой», «Абсолютом» и т.д. Согласно Библии, первая трещина в небытии прошла между небом и землею. Первоначалом в мифах разных народов являются вода, гора, огонь, вулкан, землетрясение… В этой же роли может выступать различие между горошком и фасолью, между сладким и горьким, круглым и продолговатым, углом и прямой. Как только положено начало цепной реакции «нетостей» (земля– не небо, вода– не суша, круг– не квадрат), эта реакция может сразу или постепенно, но с той же неизбежностью, охватить все бытие в целом. Когда костяшки домино стоят друг за другом и образуют сколь угодно большую, но при этом замкнутую, круговую систему, то, какую бы из них мы ни толкнули первой, падают все остальные. Всё есть Ничто, и, находясь внутри Всего, как его малая часть, мы тем не менее не можем не чувствовать его тревожную небытийность, которая распространяется на нас самих. «Я» есть не-ты, не-он, не-они… Но и все они суть не-я. Такова «серия откидываемых крышек», как называл Фальтер свою разгадку «Всего».
Фальтеровская «безумная» теория перекликается с представлением современной физики о вакууме, лежащем в основании всего мира материальных явлений. «Своеобразные и неожиданные свойства квантового вакуума определили его ведущую роль в фундаментальной физике середины 1970-х гг. С тех пор его значение все более возрастало и расширялось»,– отмечает Джон Бэрроу в книге с характерным названием «Книга Ничто: Вакуумы, пустоты и новейшие идеи о происхождении вселенной»121.
Важнейшее свойство вакуума– его неустойчивость, которая и делает возможным возникновение субстанции «из ничего». Хотя само по себе пространство вакуума лишено материи, но в нем постоянно рождаются и исчезают виртуальные, т.е. принципиально ненаблюдаемые частицы. Неустойчивый вакуум (unstable vacuum) способен даже порождать целые вселенные– по известной концепции, так произошел «Большой взрыв». Если Бог сотворил Вселенную из ничего, то этот «материал» все еще ощутим в ее основе. Говорят еще о флуктуации вакуума, т.е. случайных и временных отклонениях от нулевого значения всех содержащихся в нем физических величин. Отсюда физическое понятие «вакуумной пены», т.е. множества пузырей, как бы вскипающих (флуктуирующих) на поверхности вакуума. Из этих квантовых вздутий, по мере их растяжения, «инфляции», непрерывно рождаются вселенные, и одна из них– наша122. По словам американского физика Эдварда Трайона, «Наша вселенная есть флуктуация вакуума… Спонтанное, темпоральное возникновение частиц из вакуума называется “вакуумной флуктуацией”– это стандартное понятие в квантовой теории поля»123. «Это вакуумные флуктуации в конечном счете ведут к собиранию вещества в галактики и звезды, вокруг которых могут формироваться планеты и зарождаться жизнь»,– поясняет Джон Бэрроу, парадоксально заключая: «Без вакуума книга жизни состояла бы из пустых страниц»124.
Но как нестабильность вакуума соотносится с его природой– пустотой, небытием? Если вакуум есть отсутствие частиц, то неустойчивость вакуума есть врменное отсутствие самого отсутствия. Значит, в основе и вакуума, и его неустойчивости лежит некое общее «не», которое и объясняет возникновение чего-то из ничего, частиц из вакуума. Вакуум как бы вакуумит себя, пустота самоопустошается, ничто себя ничтожит, образуя нечто от себя отличное, а в конечном итоге и целую расширяющуюся вселенную. Поскольку в вакууме нет ничего, кроме ничего, то «не» обращается на себя, а тем самым и производит нечто, как минус на минус дает плюс. Здесь уместно процитировать Семена Франка: «…это ‘не’ направлено здесь на само ‹не›. В этом и заключается поистине безграничная сила отрицания, что оно сохраняет силу, даже направляясь на само себя, на начало, его конституирующее»125.
Из этого самоотрицания «не» возникают все конкретные предметы и отношения, бытие которых можно определить как двойное небытие, не-небытие. Интересная параллель– математическое отношение ноля к самому себе. По правилам арифметики деление на ноль запрещено, но исключение делается для деления на ноль самого ноля. Значение операции 0:0 считается «неопределенным», и такая задача имеет бесконечное множество решений, т.е. результатом являются все действительные числа126. Точно так же результатом отношения ничто к самому себе может считаться все множество существующих вещей.
Ничто бесконечно делимо и может образовывать внутри себя сложнейшие структуры, оставаясь при этом ничем. Именно такое бытийно расслабленное состояние мира мы наблюдаем и вокруг себя, и в самих себе. Вместо красоты– не-некрасота. Вместо добра– не-недобро. Вместо любви– не-нелюбовь. Ничто не обладает полнотой реальности, скорее, это «неустойчивая нереальность». По словам С.Н. Булгакова, «все одновременно есть и не есть, начинается и кончается, возникает в небытии и погружается в него же, бывает»127. Эта онтологическая расслабленность, неопределенность, «ни то ни се», «шаткость-валкость» мирoздания является признаком его возникновения из ничего.
Это хорошо согласуется с картиной мира в буддизме. По словам выдающегося буддолога Ф.И. Щербатского,
Элементы бытия… исчезают, как только появляются, для того, чтобы за ними последовало в следующий момент другое моментальное существование. <…> Исчезновение– сама сущность существования; то, что не исчезает, и не существует. <…> Картина мира, которая явилась духовному взору Будды, представляла, таким образом, бесконечное число отдельных мимолетных сущностей, находящихся в состоянии безначального волнения, но постепенно направляющихся к успокоению и к абсолютному уничтожению всего живого, когда его элементы приведены один за другим к полному покою. Этот идеал получил множество наименований, среди которых нирвана было наиболее подходящим для выражения (понятия) уничтожения128.
Тут есть обо что споткнуться, как внезапно спотыкается Фальтер на своем ровном жизненном пути. «Falter» по-английски, собственно, и означает «споткнуться, заколебаться, пошатнуться»129. Если Будда– пробудившийся, то Фальтер– споткнувшийся. Будда постиг иллюзорность мира и путь освобождения от привязанностей и страданий, путь к нирване. Фальтер не идет так далеко, он только спотыкается об иллюзорность мира и открывает тайну «не». Или можно сказать, что уже в этом мире он постиг вульгарно-эзотерическую, абортированную форму нирваны, из которой выпал обратно в бытие. Вот почему из него как будто изъяли скелет и душу, и «никаких человеческих чувств, практикуемых в земном быту, от него не дождешься».
Mы, преходящие существа, подсознательно догадываемся о своей «нетости». Когда же это смутное сознание вдруг полностью проясняется, тогда-то и раздается тот душераздирающий крик, который потряс ночную тишину маленького отеля, где остановился Фальтер. Заметим, что пишел он туда, «проведя гигиенический вечер в небольшом женском общежитии на Бульваре Взаимности», «с ясной головой и легкими чреслами». Такое опустошение физического бытия, прекращение «воли к размножению» очистило его ум и вдруг ясно представило ему ту истину, что бытие есть мнимость, что его, Фальтера, нет в том смысле, в каком он раньше воспринимал себя сущим. К этому, вероятно, добавилось и недавно полученное «известие о смерти единоутробной сестры, образ которой давно увял в памяти».
Неудивительно, что и первого, кому Фальтер доверил эту тайну, жизнерадостного и любознательного врача, постигает та же участь– мгновенная смерть. Поэтому Фальтер отказывается прямо отвечать на вопросы Синеусова и играет с ним в кошки-мышки, то слегка приоткрывая, то пряча свою тайну.
Фальтер подчеркивает, что вопрос о существовании или несуществовании Бога не имеет отношения к его открытию, но оно таково, что «заключает в себе объяснение и доказательство всех возможных мысленных утверждений» и «всякая мысль о его прикладном значении уже сама по себе переходит во всю серию откидываемых крышек». Речь идет о некоем универсальном отношении, которое связывает и здешний мир с загробным. Об этом расспрашивает его художник Синеусов, желающий узнать о судьбе своей умершей жены: есть ли там хоть «что-то» или там «ничего нет»? Есть две противоположные позиции в отношении загробного мира. Либо он существует– и мы сможем вновь обрести в нем любимых и близких. Либо не существует– и тогда любимые и близкие, ушедшие из этой жизни, обретаются только в нас, в нашей памяти. Синеусов мечется между этими двумя предположениями, ему хочется верить в инобытие своей умершей жены, но он готов допустить, что он сам– ее последнее бытие в этом мире. Истина же, которую приоткрывает ему Фальтер, но которую Синеусов не способен постичь, состоит в том, что между этими двумя гипотезами нет никакой разницы. Смерть ничего не меняет. Но вовсе не потому, что там, за гробом, есть вечное бытие. А потому, что и здесь, в этом мире, бытие исполнено мнимости. Есть только небытие, населенное призраками бытия, и если эти призраки переходят из одного мира в другой, то это не меняет их сущности, а, напротив, подтверждает их призрачность.
То, что эти миры проницаемы друг для друга, подтверждается тем, что Фальтер повторяет художнику те слова, которые перед смертью, наедине, говорила ему жена и которые не могли быть известны никому другому:
…(ты уже не вставала с постели и не могла говорить, но писала мне цветным мелком на грифельной дощечке смешные вещи вроде того, что больше всего в жизни ты любишь «стихи, полевые цветы и иностранные деньги»)…
Это Синеусов, обращаясь мысленно к жене, вспоминает последние дни, проведенные с нею; скобки подчеркивают неважность, случайность этого осколка памяти, который Фальтер впоследствии вставляет в оправу своего всезнания, открытия «всего». Он говорит Синеусову:
Можно верить в поэзию полевого цветка или в силу денег, но ни то, ни другое не предопределяет веры в гомеопатию или в необходимость истреблять антилоп на островках озера Виктория Ньянджи…
Тоже мимоходом, как бы в уступительном придаточном предложении, Фальтер приоткрывает свое знание того, что говорила Синеусову жена перед смертью. «Стихи, полевые цветы и иностранные деньги»– «поэзия полевого цветка или сила денег».
Но откуда он это знает? Побывал ли он в ином мире и «выведал» это от обитательницы загробья? Или все эти три предмета входят в «серию откидываемых крышек», т.е. открываются тем же самым ключом, который подходит ко всему? В самом деле, стихи и полевые цветы связаны банальной «поэтической» ассоциацией, а иностранные деньги дважды им обоим противопоставлены, потому что деньги сами по себе– антипоэзия, а иностранность делает их менее практическими и сближает с поэзией, вносит признак незаинтересованности как кантовского критерия красоты. Тут выстраивается ряд тройных отрицаний: не– не– не. Культура высокая (поэзия)– природа (полевые цветы)– культура низкая (деньги)– культура высокая (иностранность). Или: поэзия знаков (стихи)– поэзия природы (полевые цветы)– проза знаков (деньги)– поэзия этой прозы (иностранность).
Синеусов не понял Фальтера, не уловил даже прямой подсказки– повторения слов жены. Поэтому он представляет отношения двух миров с банальностью агностика или атеиста– пока он жив, в нем и через него жива его умершая жена:
Страшнее всего мысль, что, поскольку ты отныне сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь. Мой бренный состав единственный, быть может, залог твоего идеального бытия: когда я скончаюсь, оно окончится тоже. Увы, я обречен с нищей страстью пользоваться земной природой, чтобы себе самому договорить тебя и затем положиться на свое же многоточие…
Фальтер же, видимо, полагает, что потустороннее бытие не менее реально, чем здешнее, но лишь потому, что здешнее столь же ирреально, как и загробное; и потому два эти не-бытия сообщаются, как два сосуда.
…Узнав то, что я узнал,– если можно это назвать узнаванием,– я получил ключ решительно ко всем дверям и шкатулкам в мире, только незачем мне употреблять его, раз всякая мысль об его прикладном значении уже сама по себе переходит во всю серию откидываемых крышек.
«Откидывающиеся крышки» в рассказе Набокова– это серия отрицаний, обнажающих тайну бытия как множественного небытия. Пока шкатулки закрыты, нам представляется, что именно в них бытие сохраняет свою тайну. Но вот крышки откидываются, и выясняется, что в этих шкатулках ничего нет, точнее, есть наиболее загадочное из всего: само ничто.
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ
МЕЖДУ НЕБЫТИЕМ И ВОСКРЕСЕНИЕМ
Художественная философия Андрея Платонова здесь рассматривается на фоне его сопоставления с двумя мыслителями: соотечественником Н.Ф. Федоровым и современником М. Хайдеггером. Вопреки распространенному мнению, что А. Платонов был «федоровцем», продолжателем воскресительного проекта «Общего дела», есть более глубокие основания сблизить его с хайдеггеровской экзистенциальной онтологией бытия и ничто. Дело, конечно, не в том, что Платонов был «хайдеггерианцем»; с таким же правом можно было бы охарактеризовать Хайдеггера как «платоновца». Главные их труды– «Чевенгур» (1927—1928) и «Бытие и время» (1927)– создавались практически одновременно, при том, что и писатель, и мыслитель до конца жизни оставались в полном неведении друг о друге. Именно отсутствие каких бы то ни было взаимовлияний делает особенно знаменательной их встречу в пространстве художественно-философского двуязычия и русско-немецкого культурного диалога.
Разумеется, задача не в том, чтобы перевести А. Платонова на язык хайдеггеровской философии или перевести М. Хайдеггера на язык платоновской прозы, а в том, чтобы обнаружить общность их творческих интуиций, созревших в европейской культуре второй половины 1920-х гг. Такая постановка вопроса тем более уместна, что из всех русских писателей ХХ века Платонов наиболее метафизичен по своим художественным устремлениям, и точно так же из всех немецких мыслителей ХХ века М. Хайдеггер наиболее поэтичен и лингвоцентричен по смыслу своего философского творчества.
Взаимное притяжение между немецкой философией и русской литературой установилось еще в XIX веке. Это обусловлено тем, что две нации, открывающие друг для друга пути в неведомый и запредельный мир (немцы для русских– в Европу, русские для немцев– в Азию), по-разному выразили себя: немцы преимущественно в философии, русские– в литературе. Двухсотлетие немецкой философии от Канта до Хайдеггера– столь же решающее в судьбах и самоопределении немецкой культуры, как столетие от Пушкина до Платонова– для русской. Воздействие умозрительного мышления на всю немецкую культуру сказалось в том, что там даже литература– от Гете до Т. Манна и Г. Гессе– насквозь философична, тогда как в России даже философия насквозь литературна и выступала чаще всего в форме эссеистики и критики (от славянофилов до Розанова и Шестова). Обобщенно-понятийное и стихийно-образное начала, преобладающие в сознании этих народов, определили их преимущественный вклад в разные области творчества.
Как же воздействовали друг на друга немецкая философия и русская литература в XIX веке? Где их основные точки притяжения и отталкивания? Для немецкой философии, от Канта и до Хайдеггера, решающим является вопрос о соотношении бытия и мышления. Кант четко разделил эти сферы, упразднил их наивную, докритическую слиянность и очертил срединную область теории познания, эпистемологии, посредничающей между онтологией– наукой о бытии, и психологией– наукой о душе. Послекантовская философия, исходя из этого разделения, пыталась всячески его преодолеть, сводя кантовскую дуалистическую систему к монизму определенного типа– единству бытия или единству мышления. Две крайние точки в этом процессе представляют Гегель и Ницше: для первого все бытие в своем развертывании есть не что иное, как воплощение саморазвивающейся Абсолютной Идеи, тогда как для Ницше, напротив, все мышление, как логическое, так и моральное, включено в сферу жизненного самоутверждения, как орудие бытийной воли к господству.
Есть и в русской литературе XIX века свой главный вопрос, над которым бьется мысль от Пушкина до Толстого. Это– вопрос о личности и народе, или о «себе и других». Впервые этот вопрос поставлен Пушкиным, который в русской литературе сыграл едва ли не ту же основополагающую роль, что и Кант– в немецкой философии. Пушкин разграничил две правды– личности и истории, человека и государства, утверждая неоспоримость каждой из них в ее собственной сфере. Весь пафос «Медного всадника» и «Капитанской дочки»– в сосуществовании и несводимости этих двух правд: Петра и Евгения, Пугачева и Гринева. До Пушкина вся русская литература носила как бы докритический, дорефлективный характер, с просветительской наивностью отождествляя задачи личности и законы общества. Вместо личности и народа у Ломоносова, Державина, Фонвизина действуют гражданин и государство, естественно совпадающие в своих разумно-просвещенных посылках и целях. Правда, у Радищева уже выдвигается категория народа, а у Карамзина– категория личности, но они все еще явно не разделены и не противопоставлены, в их соотнесенности нет проблемы, они существуют каждая в себе и для себя.
Пушкин так же лишил русскую литературу ее докритической невинности и просветительского благодушия, как Кант– немецкую философию. Показательно, что и Кант, и Пушкин вышли из традиций французского Просвещения (Кант более из Руссо, Пушкин– из Вольтера), преодолевая оптимистические иллюзии и рационалистический догматизм этого наследия и становясь благодаря этому духовными зачинателями культуры XIX века. Оба глубоко пережили опыт французской революции, воплотившей философско-литературные заветы Просвещения и тем самым навсегда разоблачившей и отвергнувшей их. Именно французская революция раскрыла роковое несовпадение и несовместимость запросов личности и целей общества, причем двойным образом: принеся личность в кровавую жертву обществу (Робеспьер) и небывало возвысив личность над обществом (Наполеон). Робеспьер– отрицательный урок революционного Просвещения, Наполеон– краеугольный камень новой романтической и империалистической доктрины. Можно сказать, что французская революция, в лице Робеспьера и Наполеона, нанесла такой же удар по дорефлективной, догматически-наивной политике, как Кант– по догматической философии в Германии, а Пушкин– по догматической литературе в России. Там, где раньше мыслилась Гармония, предстала Антиномия. Знаменитые кантовские антиномии (например, всеобщей причинности и неустранимой свободы)– лишь философская разновидность того антиномизма, который выявился и в политике (наибольшая «революционная» свобода ведет к наибольшему деспотизму).
Французская политика, немецкая философия, русская литература– каждая нация, сообразно со своими склонностями и пристрастиями, при вступлении в XIX веке перешла рубеж, отделяющий критическую эпоху от докритической, рефлексию от наивности. Нерефлективное, саморазумеющееся тождество индивида и социума, мышления и бытия, личности и народа было расколото, и из точки раскола, для уже сознательного его преодоления, и произошли величайшие усилия русской литературы и немецкой философии.
Далее мы коснемся важнейшего для двух национальных традиций этапа, когда, испытав свою расколотость с бытием, мысль ищет возврата в лоно бытия, полагая себе способом его самораскрытия. Здесь вырастают перед нами две фигуры, М. Хайдеггера и А. Платонова, столь же конгениальные и соотносимые в своих национально-культурных контекстах, как Кант и Пушкин.
Мышление Хайдеггера открывает небытие человеческому вопрошанию. Ничто есть просвет, который позволяет приоткрыться сущему.
Только потому, что в основании человеческого бытия приоткрывается ничто, отчуждающая странность сущего способна захватить нас в полной мере. Только когда нас теснит отчуждающая странность сущего, она пробуждает в нас и привлекает к себе удивление. Только на основе удивления– т.е. открытости Ничто– возникает вопрос «почему?» Только благодаря возможности этого «почему?» как такового мы способны спрашивать целенаправленным образом об основаниях и обосновывать. <…> Вопрос о Ничто нас самих– спрашивающих– ставит под вопрос. Он– метафизический. <…> Выход за пределы сущего совершается в самой основе нашего бытия. Но такой выход и есть метафизика в собственном смысле слова130.
Проза Андрея Платонова глубоко метафизична именно в этом хайдеггеровском смысле слова. Томящая странность сущего, вызывающая удивление и вопрошание, покоится у него на чувстве Ничто. Вот один из главных платоновских метафизиков– простонародный любомудр Вощев в «Котловане»:
До самого вечера молча ходил Вощев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начинаться. Как заочно живущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума…
Каждый мыслящий человек у Платонова бережно несет внутри себя это «тихое место, где ничего не было», но из которого исходит удивление миру и вопрошание обо всем, что есть. Только в случае утраты этого драгоценного Ничто мир становится «общеизвестным», а человек– усредненным, «одним из», частью «всемства», безликого и безымянного людского множества (хайдеггеровское Man). Но Вощеву, в отличие от Man, по-прежнему остается «неясно на свете», он «живет заочно», как бы со стороны наблюдая свою жизнь, и гуляет «мимо» людей, не становясь одним из них. У Платонова есть даже особый художественный термин для этого «заочно живущего» наблюдателя в человеке– «евнух души».
Но в человеке еще живет маленький зритель– он не участвует ни в поступках, ни в страдании– он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба– это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. <…> Он существовал как бы мертвым братом человека <…> Это евнух души человека («Чевенгур»).
Внутри человека Ничто существует как его «мертвый брат», а вовне– прежде всего как смерть. У Платонова она ощутима даже там, где о ней не идет речь,– в виде какой-то безнадежности и тоски, пронизывающей всю живую тварь, обреченную на умирание. Именно благодаря эому всеобъемлющему чувству смертности проза Платонова и становится метафизической, в том смысле, в каком метафизика означает выход за пределы сущего, в его физической данности.
Следовательно, отношение Платонова к смерти, к Ничто нельзя толковать как целиком отрицательное. Ничто нельзя преодолеть и уничтожить, ибо оно, по выражению Хайдеггера, само есть «ничтожащее»; но его и не следует уничтожать, поскольку оно заключает в себе возможность удивленного и благодарственного отношения к сущему. По Хайдеггеру, Ничто есть та «разверзтость» и «просквоженность» бытия, из которой оно выступает и как философское вопрошание, и как художественное творение, и как всякое смысловое человеческое отношение к сущему. Без Ничто мы не знали бы и не созерцали бы сущего, а лишь пребывали бы в нем.
В этом внимании к смыслопорождению сущего из тайны Ничто А. Платонов ближе к М. Хайдеггеру, чем к Н. Федорову, сознательным последователем которого его иногда представляют. Было бы неверно сводить платоновское размышление о смерти, точнее из смерти (ибо Ничто есть не предмет, а исток такого мышления) к тому пафосу всеобщего воскрешения, которым проникнута философия Н. Федорова.
В своих исследованиях о Платонове философ Светлана Семенова, главный современный истолкователь и продолжатель федоровских идей, ищет доказательств зависимости и даже ученичества Платонова у Федорова. Будто природный мир у Платонова скучен и тосклив оттого, что его неумолимо пожирает смерть– и только высвобождение из лап этого хищника, которое несет грядущая техника, спасительно для человечества, ибо раскрывает перспективу всеобщего воскрешения.
Только эта будущая победа может искупить все. Иначе для чего вся техническая мощь, все чудеса покорения звездных бездн? <…> Неприятие ситуации «сиротства», порождаемой смертью, чаяние будущей встречи, работа над преображением страждущего природного мира в новый, бессмертный статус бытия– главные раскрытия его (Платонова.– М.Э.) «идеи жизни»131.
Отчасти это верно рисует Платонова, особенно в его ранних и публицистических вещах, где техника, действительно, выступает, в противоположность органике, как «прекрасный новый мир», призывающий человека овладеть силами смертной и мертвящей природы. Но это гораздо более верно по отношению, скажем, к В. Маяковскому, для которого природа– «неусовершенствованная вещь», а человек по своему призванию– инженер и конструктор, борец и созидатель. Поэтому и видится Маяковскому в конце поэмы «Про это»: «рассиявшись, высится веками мастерская человечьих воскрешений», в которой будущий химик воскрешает самого Маяковского. Можно сказать, что Маяковский огрубил и сузил Федорова, сведя его метафизическую и этическую задачу– победы над смерью– к научно-технической задаче достижения земного бессмертия. Но дело в том, что победа над смертью и у самого Федорова означает именно возвращение к этой жизни: воскресшие отцы становятся в ряды воскресителей-сынов, пополняя всеобщую трудовую армию человечества в его битве со смертной природой. Религиозная надежда на воскресение Федорова лишается своей глубины, проецируясь в плоскость физического делания. Ничто, или смерть, перестает быть истоком и превращается в предмет, поддающийся техническим операциям. Можно саркастически представить себе отлетевшую душу, которой вольно гуляется в райских садах под пение ангелов,– и вдруг рвением благонравного потомка она выдергивается из этого благолепия, чтобы воскреснуть бородатым предком, возделывающим землю в поте лица своего.
Лишенная своей смертной глубины, жизнь лишается и своего творческого начала, превращаясь в хранилище, склад, грандиозный музей, где сберегаются останки мертвецов вплоть до их полного воскрешения руками потомков. Глубина и непредсказуемость творчества возможна только там, где есть глубина и необратимость исчезновения. Благородная по нравственному порыву, но леденящая по практическим последствиям федоровская утопия, проповедуя воскрешение мертвых, показывает нам мир живых превращенным в кладбище-музей. Мысль увековечить человека в его собственной плоти по сути столь же одномерна (хотя и фантастически-утопична), как и атеистическое представление о бессмертии человека в его делах («…чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, строчки и другие долгие дела»– В. Маяковский, «Товарищу Нетте– пароходу и человеку»).
Федоровский проект в совершенном своем исполнении не допускает инобытия, независимого от воли человека. «Когда все изменения в мире будут определяться разумной волею, когда все условия, от коих зависит человек, сделаются его орудиями, органами, тогда он будет свободен, т.е. проект воскрешения есть и проект освобождения»132. Это «освобождение», однако, достигается у Федорова очень дорогой ценой– прикреплением человека к земле, отказом от миров иных, связь с которыми только и делает человека свободным от этого мира. К утопии Федорова можно применить слова О. Мандельштама о русской революции: «десяти небес нам стоила земля» («Сумерки свободы», 1918). Овладение землей, ее трудовое и социальное завоевание стоило нам отказа от десяти небес, т.е. духовных исканий и обретений. Мир земли общественно активен и технически вооружен, но лишен тайны и чувства запредельного.
Уместно привести здесь слова старца Зосимы у Достоевского: «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. <…> Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным…» Если вспомнить евангельский эпиграф к «Братьям Карамазовым», ключ ко всему роману, то становится ясным, что сад этот может взойти только из семян, падших и умирающих в земле. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин, 12: 24). Только умершее семя может приносить плоды. Именно поэтому корни наших мыслей чувств в мирах иных: страдание и умирание в одном дает всходы в другом. Таков, в простейшей своей сути, ответ романа «Братья Карамазовы» на вопрос бунтаря Ивана: почему страдают и гибнут невинные? Вопрос этот останется безответен, если не допустить существования иных миров, где всходит посеянное в этом мире. В признании глубинного значения смерти и тайны Иного нехристиане Платонов и Хайдеггер ближе христианину Достоевскому, чем христианин Федоров.
У Платонова, безусловно, есть ряд типично федоровских чаяний, но загадка смерти остается у него неразрешенной и неразрешимой. Смерть для Платонова– это и то, что должно преодолеть (в этом он– федоровский последователь, техницист, пролеткультовец), и то, что в непреодолимости своей образует терпкий, таинственный, терпеливый мир неизвестно куда уходящей человеческой жизни.
Где бы она (Афродита.– М.Э.) ни была сейчас, живая или мертвая, все равно здесь, в этом обезлюдевшем городе до сих пор еще таились следы ее ног на земле и в виде золы хранились вещи, которые она когда-то держала в руках, запечатлев в них тепло своих пальцев. Здесь повсюду существовали незаметные признаки ее жизни, которые целиком никогда не уничтожаются, как бы глубоко мир ни изменился. Чувство Фомина к Афродите удовлетворялось в своей скромности даже тем, что здесь когда-то она дышала, и воздух родины еще содержит рассеянное тепло ее уст и слабый запах ее исчезнувшего тела– ведь в мире нет бесследного уничтожения.
– До свидания, Афродита! Я тебя сейчас только чувствую в своем воспоминании, но я хочу видеть тебя всю, живой и целой!..
<…> Сердце его [Фомина], наученное терпению, было способно снести все, может быть, даже вечную разлуку, и оно способно было сохранить верность и чувство привязанности до окочания своего существования («Афродита»).
Это, бесспорно, одно из самых «федоровских» мест у Платонова, но оно же обнаруживает, и существенную разницу двух миропониманий. «Следы ее ног на земле», «зола», в которую превратились вещи Афродиты, «рассеянное тепло ее уст», «слабый запах ее исчезнувшего тела»– все это есть самозначимый мир, в котором обретается Фомин с его любовью, верностью и терпением. Если бы не смертность, как бы сердце Фомина «научилось терпению» и как бы оно «хранило верность» утраченной подруге? Жизнь лишилась бы своих драгоценнейших свойств, рождаемых именно бытием-к-смерти: печали и надежды, веры и терпения, страдания и преодоления… И таинственности, присущей лучшим произведениям Платонова.
По Хайдеггеру, истина всегда пребывает между открытостью и сокрытостью, она отчасти принадлежит тайне.
Сущностью истины, то есть несокрытости, правит отвергающая неприступность. Такая отвергающая неприступность не есть какой-либо недостаток или порок, как было бы, будь истина несокрытостью без всякого остатка, несокрытостью, опроставшейся от всего затворенного. Если бы истина могла стать такой, она не была бы сама собой. Сущности истины, то есть несокрытости, принадлежит отвергающая неприступность двойного сокрытия133.
Федоровский мир, как и мир Маяковского, не знает этой «отвергающей неприступности» бытия, не знает тайн– только секреты, которыми рано или поздно люди овладеют сполна. Мир состоит как бы из двух отсеков– живые и мертвые; между ними– дверь, к которой еще не подобраны ключи. Но в принципе возможно (а в будущем и осуществимо)– открыть эту дверь, найти за ней тех самых умерших, какими они были при жизни (неизменными, словно бы застывшими в холодильной камере),– и перевести в другой отсек, где бодрствуют и трудятся. Примерно таково воскрешение по Федорову: оно исходит из технических возможностей и общественных задач здешнего мира и не предполагает иной жизни и воли иноживущих, способной противиться действиям воскресителей или, напротив, чудесно опережать их.
Мир Платонова исполнен тайны именно потому, что он принимает коренную и непревосходимую временность человеческого существования. Это и сближает Платонова с Хайдеггером, для которого, начиная с книги «Бытие и время», смерть есть не то, что можно преодолеть некими техническими усилиями или благодаря вековечным сущностям. Существование «временится во времени», и смерть, как неуничтожимое Ничто, придает осмысленность и тайну существованию. Человек и у Хайдеггера, и у Платонова– не созидатель и борец, каким он выступает у Федорова и Маяковского, но вслушивающийся и претерпевающий, чуткий «пастырь бытия». Он внутри бытия, а не вовне его, и потому не переустраивает его, а лишь просветляет и осмысливает изнутри. Он идет одним путем с бытием, как и пастырь идет одним путем со своим стадом. Это бытие внутри бытия, существование внутри мирового сущего и есть то особое, что привнесено Хайдеггером в философскую мысль, а Платоновым– в склад художественной речи.
Известно, что именно язык Платонова являет нам тайну его художественного своеобразия. Этим Платонов тоже перекликается с Хайдеггером, для которого язык есть дом бытия, место раскрытия истины. Восхождение к бытию проявляется в том, что язык восходит к своим собственным корням, раскрывает свои первозначения. Для Хайдеггера важны исконные значения слов, отсюда непрерывное этимологизирование как средство удержать бытийное в потоке речи.
Стиль Платонова в целом чужд этимологизации, ибо, как язык художника, он должен соотноситься с разнообразием предметного мира. Как же осуществляется верность бытию, вслушиванье в него, если язык не выводится из своих бытийных, корневых глубин? Это достигается у Платонова особым смещением лексико-грамматических структур, благодаря которым слово не столько называет вещь, сколько участвует в ее «веществовании», т.е. ее собственном способе существования. Отсюда своеобразная неправильность платоновского языка, благодаря которой он укореняется в бытии. Приведем несколько таких «неправильностей» и попробуем определить, в каком направлении они «переправляют» привычную, удаленную от бытия мысль. Ни одна из этих фраз сама по себе не несет никакого обобщения, они чисто повествовательны, и мысль здесь заключена в самом способе ее словесного выражения.
«…Мать не вытерпела жить долго» («Третий сын»). Обычно глагол «вытерпеть» сооотносится с каким-то конкретным явлением, отрицательно воздействующим на человека: «не вытерпел разлуки, боли, насилия». Этот глагол, как правило, сочетается с существительным, т.е. частью речи, обозначающей предметы (не вытерпеть чего?). У Платонова же берется не конкретное явление, а целая жизнь, да еще и обозначается она не существительным, а глаголом, т.е. берется как процесс, длительность: «не вытерпела жить долго». В результате «терпение» теряет свою объектность– становится свойством самой жизни в ее долготе и самопретерпевании.
Сравним это платоновское словоупотребление с тем, какое находим у его современника Н. Островского: «Жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее надо так, чтобы… умирая, мог сказать: все силы были отданы самому прекрасному на свете– борьбе за освобождение человечества». Мы не вдаемся сейчас в идейный смысл этой фразы, нас интересует ее грамматический смысл, употребление слова «жизнь». Жизнь «дается» человеку– уже этим глаголом предполагается предметность жизни. «Прожить ее надо так»– предметность заостряется, ибо говорится о том, как лучше употребить жизнь. Наконец, в заключение говорится примерно то же, что у Маяковского в стихотворении «Товарищу Нетте– пароходу и человеку»: цель жизни– в том, что остается после нее, в земных делах («жить надо так, чтобы, умирая, мог сказать»). Бытие у Островского берется как нечто подвластное человеку– созидателю и борцу, нечто, что он может и должен употребить по собственной воле. Не так у Платонова: бытие не опредмечивается субъектом, который может употреблять ее так, как считает нужным («прожить так, чтобы»). Бытие объемлет человека и претерпевается им. Не человек распоряжается жизнью как орудием, а жизнь вовлекает и «бытийствует» в себе человека.
Подобным же образом употреблется глагол «жить» и в другой «странной» фразе: «Фрося пробудилась: еще светло на свете, надо было вставать жить» («Фро»). Можно было бы здесь ожидать конкретного глагола: «идти на работу», «готовить обед» и т.п. Обычно «жить» не употребляется как глагол цели, ибо подразумевается, что жизнь есть самоочевидная данность, на основе которой ставятся всякие цели. Здесь же сама жизнь образует цель, и восхождение к ней как к истоку, «вставать жить»,– вот какой смысловой оборот принимает платоновская фраза.
«Существовать» у Платонова– это не формально-абстрактное понятие, не условно-общая предпосылка всего (кто ест или ходит, тот, естественно, существует). Существование– это особое действие, вброшенное во время и пространство и требующее, как и любое другое действие, постоянных усилий и смыслополагания. «Ты зачем здесь ходишь и существуешь?– спросил один, у которого от измождения слабо росла борода» («Котлован»). «Существовать» здесь означает не просто «быть» (в отличие от «не быть»), но: занимать какое-то место, простираться в пространстве и «времениться» во времени, оттеснять другие существования или плотно срастаться с ними. Поэтому и Вощев не просто идет по дороге, но идет, «окруженный всеобщим терпеливым существованием» (камней, трав, ветра и т.д.). Он переживает «вещество существования» (одно из самых характерных и цитируемых платоновских словосочетаний в том же «Котловане»).
«Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви…» («Фро»). И здесь есть особенная платоновская неправильность: «тратить время… на чувство любви». «Тратить время» обращено обычно к чему-то предметному, какому-то делу, занятию, но не к чувству, которое предполагается как бы изъятым из времени. В результате смещения «чувство любви» овремняется, выходит из отвлеченной психичности или идеальности в длительность бытия.
«Нет,– сказала Фрося,– я не пойду. Я по мужу буду скучать». «Скучать» здесь употреблено в каком-то почти древнем, исконном значении, как действие «кукования», «плача» («скука» этимологически образована от звукоподражательного «ку», того же, что в слове «кукушка»; древнее «кукати»– «горевать, плакать»). Оно означает у Платонова не внутреннее состояние, субъективное чувство, но самостоятельное занятие, которому человек заведомо отдает часть своего времени. Если в первых двух примерах (с глаголом «жить») мы видели, как снимается объектность понятия «жизнь», как она превращается в целое и самоцель, то здесь мы видим снятие привычной нам субъектности с таких понятий, как «чувство любви» и «скучать». Они выводятся из сферы психического или идеального и обретают плотность и определенность занятий, свершений, протекающих во времени.
…Устало длилось терпенье на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось лишь направление. И Вощев ушел в одну открытую дорогу («Котлован»).
Это и есть всеохватная экзистенциальная временность– необеспеченность каждой последующей секунды, отсутствие устойчивых, «вечных» сущностей, которые определяли бы заведомую прочность и осмысленность существования.
Особенность платоновских словоупотреблений в том, что они упраздняют двойственность субъекта-объекта, свойственную и обычному, и научному языку. Эти причудливые обороты размыкают и предметы, и чувства в длительность «временящегося» бытия, лишая их материальной и идеальной законченности, погружая во что-то тягучее и тянущееся. «У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко мать, отец и я». Эта фраза Платонова из рассказа «Корова» приписана им ребенку и тем самым как бы с удвоенной, помноженной на персонажа яркостью выражает авторский сдвиг привычного восприятия. Здесь, во-первых, прибавлено как будто совершенно лишнее придаточное предложение: «когда она жила»– ведь ясно, что из мертвой коровы нельзя брать молоко. Без этого предложения текст сохраняет всю свою информативность, но теряется главное: жизнь коровы в ее длительности, к которой причастны и люди. И вторая «негладкая» особенность речи: «из нее ели молоко», вместо «пили ее молоко». Платонов создает образ «разверзтого бытия» коровы, в самом что ни на есть хайдеггеровском смысле: «из нее» едят. «Ели» вместо более очевидного здесь «пили» тоже подразумевает плотскость, плотность этого молока, как продолжения-изливания коровьей плоти. Так что «лишнее» придаточное предложение и причудливый оборот «из нее ели» оказываются платоновским образом самовозрастающей основы бытия, которое не присваивается извне субъектом, но как бы само исходит «из» себя. Так воспринимает мир мальчик, не утративший укорененность в бытии, не превратившийся в «субъекта»,– и так же воспринимает мир сам писатель.
Почти всеми платоновскими персонажами владеет одно чувство, в описании которого как бы сразу сгущаются все особенности и «чудачества» платоновского стиля. Это странное, тягучее чувство мировой пустоты, в которую заброшен одинокий человек. Можно сказать, что «евнух души» есть не только внутри человека, но и в окружающей его природе, которая становится как бы «мертвым братом» человеку. Этого мертвого брата нельзя воскресить, потому что пустота неустранима из природы пространства и держит его открытым и обитаемым для человека. Самые разные персонажи– от коровы до ученого, от офицера фашистской армии до деревенского мальчика Баси, от кочевницы Джемаль из туркменской пустыни до немецкого инженера Бертрана Перри,– все живoe, иногда даже неодушевленнoе у Платонова (дерево, камень, песок…), проникнутo общим чувством томительного, пустотного дления жизни. О том же пишет Хайдеггер– о «странной отчужденности сущего», истоком которой является погруженность в Ничто.
…Она (Заррин-Тадж) с любопытством глядела в пустой свет туркменистанской равнины, скучной, как детская смерть, и не понимала, зачем тут живут. («Такыр»).
Вокруг дома путевого сторожа простирались ровные, пустые поля, отрожавшие и отшумевшие за лето и теперь выкошенные, заглохшие и скучные («Корова»).
Фомин поглядел в тот грустный час своей жизни на небо; поверху шли темные облака осени, гонимые угрюмой непогодой; там было скучно и не было сочувствия человеку, потому что вся природа, хоть она и большая, она вся одинокая, не знающая ничего, кроме себя («Афродита»).
Ничто у Платонова всегда ощутимо как скука и пустота, которая разверзается из глубины сущего– но тем самым и позволяет ему проявиться. Давно замечено, что мир у Платонова поразительно беден, прорежен, в нем оставлено только то, чем держится существование как таковое, в его тягучей безысходности и непонятной предназначенности. Самые «платоновские» персонажи– не знающие и не имеющие. Один из них (бобыль из «Происхождения мастера») так и умер, «не повредив природы». Эта пустотность, «котлованность» бытия заполняется постоянными рассуждениями о будущем, о разумной организации людей для совместного обретения смысла жизни: к этому устремляются платоновские герои именно потому, что они всего этого лишены.
Однако вопреки распространенному мнению о «массовости», «коллективности» платоновского человека, этот человек, даже принадлежащий коммуне (герои «Чевенгура» и «Котлована»– Александр Дванов, Копенкин, Вощев, Прушевский), обычно изображен в состоянии одиночества, «бобыльства», «сиротства». Его бытие протекает в пустоте мира, где отсутствует прочный имущественный, технический или интеллектуальный уклад, который обеспечивал бы смысл существования. Оно требует от героев Платонова огромных сил, потому что не гарантировано никаким порядком, каждый миг исходит из глубины своего ничто и рискует оборваться: не просто умереть, но войти в смерть, «осмертиться». Сам этот обрыв не столько прекращает его, сколько уводит обратно в ничто, в ту же самую пустоту дления. Подобно тому, как платоновские персонажи не просто живут, но бытийствуют, исполняют огромный и длительный труд существования,– точно так же они входят в состояние смерти, смертствуют.
Так погружается в смерть Александр Дванов на последней странице «Чевенгура»– вступая в озеро, в глубину родины, где, думается ему, покоится его отец.
И там есть тесное, неразлучное место Александру, где ожидают возвращения вечной дружбой той крови, которая однажды была разделена в теле отца для сына. Дванов понудил [лошадь] Пролетарскую Силу войти в воду по грудь и, не прощаясь с ней, продолжая свою жизнь, сам сошел с седла в воду– в поисках той дороги, по которой когда-то прошел отец в любопытстве смерти…
Александр не умирает, а скорее «продолжает свою жизнь» в смерти, возвращается кровью в отцовскую кровь, идет дорогой отца, все более приближаясь к нему, «потому что Александр был одно и то же с тем еще не уничтоженным, теплящимся следом существования отца».
«Смертствовать»– не то же самое, что «умереть», т.е. дойти до конца жизни, исчезнуть. «Умереть»– поддаться действию смерти, «убить»– стать ее причиной или виновником, тогда как «смертствовать»– значит выйти из этого субъектно-объектного дуализма, это существовать-через-смерть. Человек– существо смертное, значит, ему надлежит человечествовать и смертствовать. Так, собственно, и любая вещь в платоновском мире по сути «веществует» сама из себя. Живое живет, растение растет, трава травствует, земля земствует, смертный смертствует, т.е. распредмечивает себя в действии, как бы превращает свое название в глагол, в способ бытия. Хайдеггеровское «корнесловие», склонность к извлечению из глубин данного корня все новых проясняющих его производных, существенно и для Платонова– не в лексике, но в стиле мышления. «Смертствовать»– превратить смерть из объекта («он нашел свою смерть…») или субъекта («смерть астигла его…») в предикат существования того, кто смертен. Платоновский человек не разрывает «вещества существования»: он так же полно «смертствует» в смерти, как и бытийствует в бытии.
Николая Федорова и Мартина Хайдеггера можно рассматривать как два философских полюса в творческих исканиях Андрея Платонова. Его становление как художника-мыслителя– это движение от Федорова к Хайдеггеру. Ранний Платонов воспевает техническую мощь человечества, которое, вооружившись коммунистической верой, должно одержать победу над смертью в планетарном масштабе. Воскрешение умерших– вот общая цель социальной и научной революции. Зрелый Платонов приходит к пониманию, что смерть залегает глубже, в самих источниках бытия, и потому неподвластна возможностям техники и социальным преобразованиям. «Евнух души» неотделим от бытия человека человеком, пребывает внутри каждого, как само Ничто пребывает в сердцевине бытия. Представлять это Ничто в духе Николая Федорова, как силу только враждебную человеку, подлежащую техническому преодолению,– значит не понимать глубокой укорененности человека в этом Ничто, откуда произрастает открытость бытия и человеческая способность его созерцать, осмысливать и выговаривать. Вне отношения к Ничто нельзя объяснить ни экзистенциальной тоски, ни повседневного героизма личности, которая совершает труд бытия каждым своим вздохом и движением, упорством и терпением жить. Смерть– это тоже труд, который не дается человеку легко, «даром», но требует мужества, решимости и смирения. Смертствование– это жизнь, которая постоянно испытывается смертью, исхождением и возвращением в Ничто. Нельзя победить Ничто или вытеснить его из бытия. Можно только проходить через жизнь вместе со своей смертью, неся ее в себе как «мертвого человека», стороннего всему и именно поэтому обреченного на сознательное и терпеливое участие в бытии.
В. Набоков и А. Платонов– писатели-одногодки (1899 г. р.)– представляют как бы два полюса русской литературы ХХ века. Их принято противопоставлять по самым разным критериям: элитарность– народность, аристократия– пролетариат, индивидуализм– коллективизм, консерватизм– революционность, утонченный идеализм– стихийный материализм, рефлексия– органика, эстетизм– реализм, созерцательность– труд, природа– техника, воздушное– земное… Однако между Набоковым и Платоновым есть глубокая метафизическая перекличка в понимании жизни и смерти, яви и сновидения.
Тема небытия внутри бытия оказывается глубоко значима для обоих, но они подходят к ней с разных сторон. Для Платонова– это начальное условие бытия человека в пустом, тоскливом мире, где приходится длить свое необеспеченное смыслом существование. Это «евнух души» и «мертвый брат» внутри каждого существа. У Набокова интуиция небытия является таким поэтическим натурам, как Цинциннат из «Приглашения ка казнь», на вершинах существования, в минуты исключительного прозрения, в самой утонченной рефлексии. Жизнь сквозит чем-то нездешним– и в конце концов распадается, как картонная декорация, или разбивается как зеркало-коверкало. Это ощущение мира как миража у Набокова– остаток интуиции двоемирия у символистов. У Платонова, напротив, пустота разверзается внутри мира и составляет реальнейшее его свойство. Отсюда труд существования, упорного, тягостного и не имеющего заведомого смысла. У Набокова– гностическое восприятие небытия, у Платонова– экзистенциальное. Гностик постигает окружающий мир как ложный, как тюрьму, в которую он посажен злокозненным демиургом,– и томится по настоящему миру. В основе же этого мира он, как Цинциннат, чувствует неподлинность, небытийственность.
Кругом было странное замешательство. Сквозь поясницу еще вращавшегося палача начали просвечивать перила… Зрители были совсем, совсем прозрачны, и уже никуда не годились, и все подавались куда-то, шарахаясь,– только задние нарисованные ряды оставались на месте.
Есть у Набокова и параллель патоновскому «евнуху души» или «мертвому брату»– это духовный двойник, живущий в Цинциннате и все менее причастный окружающему миру. За Цинцинната говорит «какой-то добавочный Цинциннат», за ним следует его «призрак», «настоящий» Цинциннат пытается сохранить самообладание, тогда как слабый Цинциннат всего боится. К концу романа, уже во время казни, «один Цинциннат» занят счетом до десяти, а «другой Цинциннат» уходит туда, где находятся существа, подобные ему. Показательна сцена, где Цинциннат снимает с себя сначала одежду, потом голову, вынимает ключицы, грудную клетку, бросает руки, как рукавицы, в угол. «То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух». Так обнаруживается глубинное ничто внутри человека, которое и позволяет ему воспринимать окружающий мир как плотный, материальный и одновременно перерастать его и открывать вход в иной мир, таинственное потусторонье. Недаром Вера Набокова в предисловии к посмертному изданию рассказов мужа (1979) указала, что главная тема писателя– «потустороннее», дав толчок появлению многих исследований «иномирности» («otherworld») у Набокова.
Вряд ли, однако, понятие «потустороннего» приложимо к Платонову. Именно там, где два писателя ближе всего подходят друг к другу, наглядно обнаруживается их различие. В самом деле, если у Набокова проступают порой едва уловимые черточки иного мира, который несет в себе освобождение, то Платонов целиком сосредоточен на этом мире, только он выступает как царство мертвых. Не загробное или замогильное, а именно могильное и гробовое– не случайно сам «котлован» превращается у Платонова в огромную могилу, куда из соседних деревень приходят крестьяне с самодельными гробами, чтобы себя похоронить в основании будущего здания коммунизма, которому так и суждено остаться недостроенным. И «мертвый брат» у Платонова– это совсем не то, что внутренний двойник Цинцинната, который может освободиться от телесной оболочки и пойти в мир своих собратьев («пошел среди пыли и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему»). Платоновскому «мертвому брату» некуда идти, он обречен оставаться в этом мире и созерцать его томительную пустоту. Поэтому у Платонова нет столь характерных для Набокова гностических терминов и образов: призрак, мнимость, иллюзия, ирреальность, фантом, просвечивать, прозрачность. Это не его мировосприятие и не его словарь. У Платонова: тоска, скука, пустота, глухота, томление, терпение, длительность, неизбывное время. Это экзистенциальный словарь.
Оба писателя сходятся в теме сновидчества– и вместе с тем расходятся в ее трактовке. По Платонову, «не существует перехода от ясного сознания к сновидению– во сне продолжается та же жизнь, но в обнаженном виде» («Чевенгур»). Сон не мешает действиям персонажей: это спящие воины, которые не осознают реальности мира, но упорно действуют в нем, сражаются, трудятся, строят новую жизнь. «У бобыля только передвигалось удивление с одной вещи на другую, но в сознание ничего не превращалось». Это сон быстрый, активный, порой героический, хотя и неспособный изменить природу бытия. Сон не отличается от яви, и нет начальной презумции реальности, как нет и последующей ее демистификации.
Набоков, наоборот, старается зафиксировать момент, когда его персонажи осознают себя или мир вокруг «снящимся»: «“В хорошем сне мы живем,– сказал он ей тихо.– Я ведь все понял”. Он посмотрел вокруг себя, увидел стол и лица сидящих, отражение их в самоваре– в особой самоварной перспективе– и с большим облегчением добавил: “Значит, и это тоже сон? эти господа– сон? Ну-ну…”» («Защита Лужина»). Набоковские персонажи вдруг ощущают, что перенесены в состояние сна какой-то чуждой, колдовской силой, что бытие, воспринятое ими как явь, на самом деле соткано из сновидений. Это сон пассивный, гипнотический, завораживающий– но отсюда и возможность проснуться, которой лишены герои Платонова: для них есть только один мир, в котором сон не отличим от яви. Они живут почти бессознательно, как во сне, огда как набоковские персонажи способны осознать свое бытие как сновидение, а тем самым и пробудиться. Для Набокова существенны душевные усилия героя, пытающегося проснуться и даже способного увидеть себя, спящего, со стороны, осознать свою призрачность.
Герой расказа «Посещение музея» попадает в музей, где находится разыскиваемый им портрет петербургского дедушки его приятеля. Магия этой далекой жизни, внесенной сюда, в провинциальный французский городок, вдруг притягивает его и уводит обратно, на родину портрета, но уже не в Петербург, а в современный Ленинград.
«Нет, я сейчас проснусь»,– произнес я вслух и, дрожа, с колотящимся сердцем, повернулся, пошел, остановился опять… и я уже непоправимо знал, где нахожусь. Увы! это была не Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная. Полупризрак в легком заграничном костюме стоял на равнодушном снегу, октябрьской ночью, где-то на Мойке или на Фонтанке, а может быть и на Обводном канале… О, как часто во сне мне уже приходилось испытывать нечто подобное, но теперь это была действительность…
Мы видим излюбленное Набоковым слово «полупризрак» и противопоставление сна и действительности. Окружающий мир воспринимается как сон– и одновременно осознается, что выступает как знак пробуждения.
Подведем итог. То, что сближает Платонова с Хайдеггером, отделяет его не только от Федорова, но и от Набокова. Платонов и Хайдеггер воспринимают Ничто экзистенциально, Федоров– теургически, Набоков– гностически. Для Федорова задача– преодоление смерти и уничтожение самого Ничто, решаемая технически и теургически. Человек своими силами решат задачу, поставленную перед ним Богом, и при этом сам становится как Бог, приобретает власть воскрешать своих предков и обретает практическое бессмертие. Платонов и Хайдеггер видят неизбывность этого Ничто, вброшенного в мир, осветляющего его изнутри и побуждающего вопрошать и мыслить о бытии. Для Набокова же сам мир может постигаться как ничто, как мнимость, которая, при озарении или чудесном стечении обстоятельств, развеивается усилием сознания и воли. «Ничто» при этом выступает не как последняя реальность, а как «откидывание крышки», разоблачение призрачности этого мира, за которой открывается реальность другого порядка, для нас не постижимая.
СОН И БОЙ:
ОБЛОМОВ– КОРЧАГИН– КОПЕНКИН
В этой книге уже неоднократно говорилось о дуализме русской литературы, о том, как взрывчато взаимодействуют ее метафизические крайности. Обломов у И.А. Гончарова и Корчагин у Н.А. Островского… Кажется, эти два образа удалены друг от друга еще больше, чем Башмачкин и Мышкин. Что общего между прекраснодушным барином-лежебокой и несгибаемым бойцом революции? Но, как ни парадоксально, Обломов и Корчагин представляют собой две грани одного российского (архе)типа, который в своей полноте выведен у А.П. Платонова. Этому излюбленному платоновскому типу, воину-сновидцу, подошло бы сдвоенное производное от имен этих героев– Обломагин. Вот оно, имя-оксюморон, ключ к разгадке напряженной двуполярности русской культуры.
Среди выдающихся черт российского характера всегда странным образом уживались «обломовщина» и «корчагинщина», гражданская и трудовая сонливость– с воинской решимостью и напором. Как понять страну в единстве двух ее лиц– мечтательного сибарита и безжалостного к себе и к другим энтузиаста? Обломовское мы давно уже научились опознавать в себе– это неощущение реальности, отмашку от практических дел, попущение любой инерции и застоя. Но ведь и Корчагина, с его жестким прищуром и пальцем на взведенном курке, из России не выкинешь. Даже сбитый с ног, поваленный болезнью, он способен выпрямиться, «ухватиться за руль обеими руками», «разорвать железное кольцо», «с новым оружием вернуться в строй», чтобы «в штурмующих колоннах появился и [его] штык» («Как закалялась сталь»).
Тайна этого родства вскрыта народнейшим из народных писателей– Андреем Платоновым. Голодные и решительные герои его «Чевенгура», строящие коммуну, в которой главным работником было бы солнце, а они– его равными и праздными нахлебниками,– ведь это удивительная помесь корчагинского энтузиазма и обломовского сибаритства. Они готовы совершить неслыханные ратные подвиги, дабы простой человек, скинув иго принуждающих его к труду хозяев, мог ничего не делать и беспечно прозябать под солнцем. Сколько сил тратится– ради революционной отмены всяких усилий! В итоге– всеобщее безделье, хождение друг к другу за поваленные плетни и собирание травок в пищу Божию. Чевенгурская коммуна с растениями и солнышком в качестве главных действующих лиц, при полной незаметности и неодушевленности людей, еле шевелящихся от лени и голода,– да ведь это больше всего напоминает не кампанелловский город Солнца, а сонное царство Обломовки. Обилие природного простора с затерянными в нем людьми– чисто и гладко тянется пространство от прозрачных небес в прорву земли, почти не прерываемое суетной, плесенной пленкой «цивилизации». Разница только та, что в Обломовке покой и беспамятство сытости, а в Чевенгуре– голода. Но как пресыщение и истощение одинаково ведут к погашению жизненных энергий– так, позитивом и негативом, совпадают в своих очертаниях две идиллии: помещичья и коммунарская. Будто негатив, отснятый в середине ХIХ века, проявился восемьдесят лет спустя:
Тихо и сонно все в деревне: безмолвные избы отворены настежь; не видно ни души… Войдя в избу, напрасно станешь кликать громко: мертвое молчание будет ответом… Это был какой-то всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады.
Изредка кто-нибудь вдруг поднимет со сна голову, посмотрит бессмысленно, с удивлением, на обе стороны и перевернется на другой бок или, не открывая глаз, плюнет спросонья и, почавкав губами или проворчав что-то под нос себе, опять заснет (Гончаров, «Обломов»).
Как тут не узнать Чевенгура!
…Коммунизма в Чевенгуре не было снаружи, он, наверно, скрылся в людях– Дванов нигде его не видел,– в степи было безлюдно и одиноко, а близ домов изредка сидели сонные прочие… Прочие рано ложились спать… они желали поскорее истощать время во сне.
Чевенгур просыпался поздно; его жители отдыхали от веков угнетения и не могли отдохнуть… Дома стояли потухшими– их навсегда покинули не только полубуржуи, но и мелкие животные; даже коров нигде не было– жизнь отрешилась от этого места и ушла умирать в степной бурьян… Все большевики-чевенгурцы уже лежали на соломе на полу, бормоча и улыбаясь в беспамятных сновидениях (Платонов, «Чевенгур»).
Ради чего кипели бои, лилась кровь, развевались знамена? Чтобы на полном скаку въехать в царство сновидений, еще более беспробудных, чем обломовские. «Революция завоевала Чевенгурскому уезду сны…» В Обломовке жители хоть трудились, чтобы иметь вдосталь потрохов и кулебяки,– а впрочем, труда не любили: «они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить его не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным». Чевенгурцы нашли более решительный выход– скинув хозяев, вовсе порешили с вредной привычкой трудиться, ограничив потребности степными злаками и цветами, зато уже обеспечив себе неограниченное удовлетворение:
…В Чевенгуре за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное в Чевенгуре всемирным пролетарием… труд раз и навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество– угнетению; но само солнце отпускает людям на жизнь вполне достаточные нормальные пайки, и всякое их увеличение за счет нарочной людской работы– идет в костер классовой войны, ибо создаются лишние вредные предметы… Заросшая степь… есть интернационал злаков и цветов, отчго всем беднякам обеспечено обильное питание без вмешательства труда и эксплуатации.
Наверно, стоило повоевать, чтобы на всю оставшуюся жизнь и для грядущих поколений обеспечить себе такое «обильное питание», а главное, осуществить тот коммунистический идеал, к которому тщетно стремились обломовцы, не умея покончить с господами и обстоятельствами, принуждавшими к труду. Такая жизнь, переустроенная на правильных началах, имеет все достаточные и необходимые свойства смерти и кладет конец всякому антагонизму. «Добрые люди понимали ее (жизнь) не иначе как идеалом покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и между прочим трудом» («Обломов»). В обществе будущего, какое строят чевенгурцы, этот идеал воплотится без помех, потому что главное препятствие, труд, отпадет в результате борьбы. А с ним прекратятся и ссоры– не из-за чего ссориться, убытки– нечему убывать, да и болезни– все уже отболели. Сон и еда, еда и сон– таков образ счастья у обломовцев и чевенгурцев, с той только разницей, что последние меньше едят и больше спят.
Вот как мечтают у Платонова: «Бараньего жиру наешься и лежи себе спи!.. А в обеде борщом распаришься, потом как почнешь мясо глотать, потом кашу, потом блинцы… А потом сразу спать хочешь. Добро!» Вот эта самая мечта и есть «вождь попутчикам голодным», но для нее и руками надо поработать, как добрым людям из Обломовки, где «забота о пище была первая и главная жизненная забота». Забот много, зато и пища была подобрее: «Какие телята утучнялись там к годовым праздникам! Какая птица воспитывалась! Сколько тонких соображений, сколько занятий и забот в ухаживанье за нею! …И так до полудня все суетилось и заботилось, все жило такою полною, муравьиною, такою заметною жизнью».
Но зато уже после полудня суета прекращалась и жизнь становилась незаметною и неслышною. «И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна». Чевенгурцы устранили этот лишний хлопотный промежуток между сновиденьями: нет у них тучных телят и даже мелкие животные их покинули, зато ничего не отвлекает от пользованья даровой милостью природы. Едят они не так хорошо, как мечтают, зато спят даже лучше, чем мечтают обломовцы. «Пролетариат <…> еле шевелился ослабевшими силами», чтобы вполне уже достичь обломовского «идеала покоя и бездействия». Таким образом, исторический прогресс идет по линии возрастания сновидений, чтобы в них перенеслась вся бедная явь.
Заодно и нравственный прогресс обеспечивается материальными условиями. В Обломовке не водилось воров, но могли бы развестись, потому что при сонливости жителей легко было их обчистить– а в Чевенгуре они и так чистые. «Легко было обокрасть все кругом… если б только водились воры в том краю»,– сказано про Обломовку. Заменив «воры» на «вещи», получим еще один переход из века в век.
Одни только субботники остаются у чевенгурцев праздниками труда– но именно для того, чтобы труд весь без остатка перешел в праздность, чтобы в нем соблюдался особый обряд, лишенный прямой производительной цели. «Так это не труд– это субботники!– объявил Чепурный…– А в субботниках никакого производства имущества нету– разве я допущу?– просто себе идет добровольная порча мелкобуржуазного наследства». У чевенгурцев, вся неделя– «не-деля», как по воле празднолюбивого русского языка вслед за воскресным днем, «неделей», стала называться вся «седмица», превращенная в дни сплошного отдыха, чтобы зато в день субботы, или «покоя», устроить «праздник труда».
Теперь понятно, почему еще от самого «великого почина» субботник– это «переносить бревна», «грузить дрова», «убирать школьный двор». Таков архетип этой работы, переносящей предмет с места на место безо всякой вредной «прибавочной стоимости». С детства запечатлелся в нас образ: вождь мирового пролетариата несет на плече бревно, сознательно не возвышаясь над трудовым муравейником. Вот и чевенгурцы, за неделю отоспавшись, перетаскивают по субботам плетни от дома к дому, чтобы с удовольствием порастрясти по дороге часть угнетательского наследия.
Значит, итог великих сражений– сжечь «в костре классовой войны» самих угнетателей и их накопления, чтобы вслед за субботой праздного труда настала нескончаемая неделя, чтобы перевелись прибытки и убытки, «чтобы спать и не чуять опасности». «Ничем не победимый сон, истинное подобие смерти» (Гончаров) становится у Платонова еще «истиннее», переходя из подобия в тождество со смертью: «…Внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся…, изо всех темных сил останавливал внутреннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться» («Котлован»). Вот до какого покоя доводит народ его социально беспокойная часть: классовый бой– пролог к вечному сну.
Да и не только по итогам, но и по началам своим деятельность чевенгурцев похожа на быстрый сон, когда у спящего нервически подергиваются лицо и руки от внутренних усилий. Так живет чевенгурский комрыцарь Копенкин, для которого даже коммуна– отблеск более возвышенной цели. Ищет он прах Розы Люксембург– приникнуть, и поклониться, и отомстить мировому капиталу за гибель пламенной женщины, воплотившей соблазн мятежа, величайшую роскошь и разгул мировых пролетарских сил. Эта платоническая революционная эротика и влечет его по всей России на тяжелом Росинанте, Пролетарской Силе. И в лесах, и в степях, и в долинах, и на взгорьях– всюду он ищет следы своей Дамы-Розы, своей Дульсинеи. По жанру «Чевенгур»– это рыцарский роман, со всеми положенными ему грезами и подвигами.
Вообще воинственность и грезовидчество, как показывают эпопеи всех времен, отнюдь не исключают друг друга (Роланд у Ариосто, Ринальдо у Торквато Тассо). Истинный воин, суровый и беспощадный, легко подвластен чарам сна. Кто страшнее всех для мусульман, как Копенкин для буржуев?– бледный и сумрачный рыцарь, весь поглощенный видением Пресвятой Девы. «Он имел одно виденье, непостижное уму» (Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный…»). «Роза!– вздыхал Копенкин и завидовал облакам, утекающим в сторону Германии». Воин– человек рока, и сон– дело рока. Посланное свыше: удача, знаменье, предначертанье– все в снах является воину. Так Ахилл и прочие ахейские мужи постигают в сновидениях промысел богов. Все гражданское и промышленное, в миру трудом добываемое,– это истинный воин презирает не меньше, чем Обломов. Что кольчуга, что халат– лишь бы не уродливый штатский костюм, где телу нет ни богатырского размаха, ни домашнего приволья.
Труд– вот главное звено, выпавшее между сновидчеством и воительством, благодаря чему они и связались в российской жизни напрямую. И если окончена война, то найти себя в повседневных трудах бывает непосильно недавнему воину. Своя трагедия была у тех, кто не в поле мертвыми полегли, а мирно уселись за канцелярские столы. Вспомним хотя бы «Гадюку» А. Толстого и ее гадливость к штатской жизни: пример амазонки даже нагляднее, чем рыцаря, потому что прирожденная женская радость мирного быта– и та навсегда отравлена адреналиновым упоением боя.
«…Ему скучно становилось жить без войны, лишь с одним завоеванием»,– раскрывает Платонов душу чевенгурца Кирея. Правда, нет ничего завоеванного, с чем и дальше нельзя было бы воевать,– не в том ли причина обязательного усиления классовой борьбы после уже достигнутой классовой победы? Сначала уничтожают прямого врага, потом косвенного; сначала встречного-поперечного, потом попутчика; а уж кончают на себе и с собой. А чтобы сократить всю эту тягомотину долгого боя, можно сразу воспарить к конечному счастью– «поскорее истощить свое время во сне» (Платонов).
«И вечный бой– покой нам только снится»– угадал Александр Блок это сновидческое начало самого боя («На поле Куликовом»). Можно было бы добавить: «И вечный сон, а бой нам только снится». Во сне все невероятно и ошеломительно, как в бою, и душа сразу получает все, чего просит.
То, что обломовская праздность вовсе не исключает корчагинской воинственности, наоборот, предполагает ее,– сказалось уже вобразе Ильи Муромца, первого нашего Обломова и первого нашего Корчагина. Тридцать лет просидел Илья сиднем на печи, чтобы потом уж вволю поскакать-порезвиться в чистом поле. Быть может, не случайно Обломов и назван Ильей, да и в батюшки Муромец годится Илье Ильичу– тянется за этим именем из былинного прошлого какой-то лениво-засыпающий след.
Вот они где сцепились корешками эти столь далекие разветвления русской словесности– Обломов и Корчагин. А вновь срослись у Андрея Платонова, где два эти мотива: лежание на печи и смертельный бой– уже не представлены разными персонажами, но сливаются в странном, зачарованном состоянии рыцаря, грезящего в сам момент сражения, словно застывшего на скаку и притом скачущего во сне. Та же самая некапитальность, ненакопительность народа, которая сказалась в его охочести ко сну, рассеянию, забытью,– она же сделала его и бесстрашным воином, всегда готовым оторваться от скопидомских забот и встать под простреленное знамя. Копенкин и подобные ему копьеносцы не знают страха, не жаль им и собственной плоти– в конце концов, это все тот же «буржуазный достаток», сколоченный на белках, жирах и прочей «прибавочной стоимости» организма. Вот отчего не любят жирных, чуя, что они носят свой капитал в боках и выпуклостях, а пролетарский человек должен расходовать свое тело на общественную пользу вплоть до полного исчезновения. Нечего жалеть, нечего терять, ничего не накопили мы в этой копеечной жизни и потому всегда готовы к иной. Сон– в охоту, гибель– в забаву.
Эта заблудшесть души в пограничных областях между жизнью и смертью хорошо передана у Бориса Пастернака в стихотворении «Сказка»– о чудо-богатыре, который вызволяет красавицу из драконова плена. Вспоминая бродячий сюжет о Георгии Победоносце, поэт вносит в него странный поворот– чтобы сказать правду о своем времени. Воин, как и положено, побеждает дракона– но сам, вместе с освобожденной красавицей-душой, впадает в оцепенение. Такого неожиданного развития сюжета нет в фольклорных песнопениях о храбром Егории. Что это за невероятная победа и какою ценой она дается, если побежденная смерть все еще держит и воина, и деву в плену победительного сна?
- Конь и труп дракона… Но сердца их бьются.
- Рядом на песке. То она, то он
- В обмороке конный, Силятся очнуться
- Дева в столбняке. И впадают в сон.
Это уже не только сказка, это история. Дата под стихотворением– 1953 год: дракон умирал, а спасенная краса и сам воин-спаситель впадали в забытье и встречались душами в царстве сновидений134.
- Сомкнутые веки.
- Выси. Облака.
- Воды. Броды. Реки.
- Годы и века.
Так начинается и так заканчивается последняя часть стихотворения. Кому так царственно дремлется, за чьими смеженными веками проносятся целые миры и столетья? Это душа самого народа тоскует «во власти сна и забытья». И не разобрать в этой «Сказке»: то ли освободитель заснул «от потери крови и упадка сил»– то ли сама спящая дева видит в снах своего освободителя. То ли сон после битвы, то ли битва во сне. 1953-й. А до того: восемь лет забытья после четырех лет битвы. И сотни лет перемежающихся битв и сновидений.
На протяжении веков российское общество страдало биполярным расстройством, не в узко-психологическом, но в культурно-историческом смысле. При этом маниакальное начало преобладало среди господствующих сословий, на вершинах политики и культуры, тогда как народные массы были погружены в депрессивное состояние, отразившееся в унылых, тягучих народных песнях, в тоске и жалобах, а пуще всего– в бесконечном равнодушии ко всему.
Маниакальный склад личности ярче всего обнаруживался у выдающихся людей; собственно, сила маний и фобий и выдвигала их на передний край– деспотов и революционеров разных поколений. Упорные и неистовые однодумы, знавшие «одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». У всех этих людей, даже при величии натуры и гениальной одаренности, есть «предрассудок любимой мысли», навязчивая идея, оттесняющая все остальные. Как будто сама действительность так зыбка, податлива, безразлична, что лишь предельным сужением всех усилий– однодумием, одночувствием– можно внести в нее смысл и цель.
В любом обществе есть определенная пропорция социально активных личностей, пытающихся навязать свою идею фикс всем соотечественникам и миру в целом. Но российское общество оказалось менее всего защищено от этих экстремальных типов. Обычно они вытесняются в маргинальные группы, в мелкое подполье, вроде «красных бригад» или эзотерических тоталитарных сект; в России же такое подполье приходит к власти и начинает определять политическую и интеллектуальную жизнь страны. Одна из таких «бригад» и «сект», как известно, ухитрилась захватить страну и решать судьбы человечества на протяжении почти всего ХХ века. Возможно, это связано с самим типом российской государственности, с необходимостью освоения столь огромного полиэтнического пространства. Умеренные идеи и акции здесь не проходят, нужен очень сильный нажим, энергия исступления и неистовства, чтобы идея утвердилась и привилась. Что тут первично, а что вторично: исступленность личности или уступчивость пространства, его готовность расступаться и вбирать? Трудно решить. Мания захватывает всего человека, обращая всю полноту его духовных и физических сил на служение одной частной и ограниченной цели. Такой человек страшно широк своим основанием, куда притекает неимоверная энергия, и крайне узок в точке их приложения. Эта маниакальность соединяет два понятия, противоположные по смыслу: партийность (от латинского «pars»– часть) и тоталитарность (от латинского «totus»– целое). Мания тотальна по объему притязаний и партийна по точке приложения, в ней частичное и целое подменяют друг друга. «Pars pro toto», «часть вместо целого»– формула мании. Насколько человек становится в мании больше себя, перерастает масштаб человеческого– настолько же он становится меньше себя как целостной личности. Потому так поражает в нем сочетание сердечной шири с умственной ленью. Широко разверстые зрачки, неподвижно устремленные в одну точку: воронка взгляда, эмблема мании.
Этот тип, взятый как целое, депрессивен и маникален одновременно, и Обломов и Корчагин суть две стадии единого общественного психоза, переходящего от маникальной возбудимости к депрессивной подавленности, и наоборот. Человека этого склада, с его сонливо-воинственной душой, и можно обозначить как ОБЛОМАГИНА. Такого персонажа нет в произведениях русской литературы, и тем не менее дух его витает не только над словесностью, но и над всей исторической судьбой страны. Изредка его можно обнаружить и как цельный образ– у таких писателей, как Н. Лесков и А. Платонов, раскрывших в своих героях великую силу свершения, действующую, однако, словно бы во сне, а не наяву. «Очарованный странник»– Иван Северьянович Флягин; все те же персонажи «Чевенгура» и «Котлована»– Александр и Прокофий Двановы, Копенкин, Чепурный, Чиклин, Вощев… Они и воюют, и бесчинствуют, и неистовствуют, но все в какой-то заколдованной дреме, вроде бы и не шевеля руками, скованные, обвороженные, оцепенные собственной силой. Эта связь богатырства и неподвижности предначертана, как уже говорилось, в образах русских былин– не только Ильи Муромца, но и Святогора. Мощно ступая по родной земле, он врастал в нее всею тяжестью и уже не мог сдвинуться с места: сама сила его обессиливала. Потянулся он за сумочкой переметной– а она не скрянется, не сворохнется, не колыхнется.
- И по колена Святогор в землю увяз,
- А по белу лицу не слезы, а кровь течет.
- Где Святогор увяз, тут и встать не смог,
- Тут ему было и кончение…
Конечно, между Корчагиным, стоящим на посту, и Облмовым, валяющимся на диване,– целая пропасть. Однако национальное сознание и словесность всегда ищут опосредования крайностей. И вот нарождается такой персонаж-посредник, как Копенкин, который по-корчагински стоит и по-обломовски лежит, неистово выкорчевывает прошлое и непробудно спит на его обломках. Копенкин одинаково легко вписывается в два казалось бы несовместимых ряда: Чапаев-Нагульнов-Корчагин– и Манилов-Обломов-Сатин. В нем переглядываются и вдруг узнают друг друга: унтер Пришибеев и Платон Каратаев, Хлестаков и Рахметов, мужик, прокормивший двух генералов, и генерал, неспособный себя прокормить, коняга и пустопляс. «На вкус хлеба Копенкин не обратил внимания– он ел, не смакуя, спал, не боясь снов, и жил по ближнему направлению, не отдаваясь своему телу. <…> Он воевал точно, но поспешно, на ходу и на коне, бессознательно храня свои чувства для дальнейшей надежды и движения». Как очарованный странник, он сам себе чужд, не ощущает своего тела и действий, которые совершаются сами за него, пока ум его занят тоской «однообразных воспоминаний о Розе Люксембург».
Копенкин– одна из разновидностей этого вездесущего, хотя и трудноуловимого Обломагина. Он всюду мелькает, а как целое ускользает. Обломагин– обобщенный характер-миф, в котором писатели чаще всего схватывают отдельные черты. Причем если классическая русская литература любила по преимуществу депрессивный тип из верхов («лишнего человека», от Онегина до Обломова), то советская– маниакальный тип из низов (от Чапаева до Корчагина). В действительности распределение типов чаще обратное: верхи активны, низы пассивны,– но литература любит играть на контрастах, изображать сонного барина и озорного мужика. Не потому ли именно у Платонова, на рубеже 1920—30-х годов, и обрисовался столь выпукло этот целостный тип? Низы заняли место свергнутых верхов и привнесли боевой задор в свой вековой покой: воюют– как спят, а сны видят такие– о даровом и всеобщем– что душа просится в последний и решительный бой.
Но целостность этого типа была заготовлена и проверена историей задолго до советского времени– в самом взаимодействии двух его составляющих. Черты Обломагина можно найти в характере самых выдающихся личностей, как лихорадочную смену маниакально-депрессивных состояний. Беспросветная хандра чередуется с несусветными мечтами, чем и определяется удивительный, «скачкообразный» взгляд русских писателей на себя и свое отечество. В первом «Философическом письме» (опубликовано в 1836 году) Чаадаев жалуется, что «мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли…, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага людей». А в «Апологии сумасшедшего» (1837) определяет высшее предназначение России по сравнению с другими народами: «созерцать и судить мир со всей высоты мысли». Или вот гоголевское видение России: «…Те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел»135. Созерцая одно и то же пространство, душа «вдруг» преображается, впадает то в тоску, то в восторг.
Однако чертам Обломова и Корчагина не обязательно уживаться в одном человеке– они прекрасно уживаются в характере самого общества. Одни захвачены манией, другие страдают депрессией, и чем маниакальнее одни, тем депрессивнее другие. Одного такого маниакального типа, как Иван Грозный, достаточно, чтобы надолго вогнать в депрессию целый народ. С другой стороны, и сонливость масс порождает плеяду неистовых будителей, готовых душу вытрясти из народа, лишь бы перевернуть его с одного бока на другой, чаще– с правого на левый (Бакунин, Нечаев, Ткачев, Ленин…). Революционеры и тираны различаются только тем, что маниакальность первых является следствием долгой народной депрессии, а маниакальность вторых– ее причиной. Впрочем, нелепо было бы ставить перед психиатром вопрос, что первично, а что вторично: биполярность предполагает совместность обоих полюсов. Точно также вряд ли историк объяснит, инертность народа ведет к одержимости лидеров или бушевание верхов заставляет притаиться и застыть низы.
Так же надвое расслаиваются не только социально-психологические пласты, но и периоды истории. В иные периоды преобладают маниакальные порывы: стремительные реформы, революции, перевороты, почины, скачки, когда прошлое одним богатырским ударом опрокидывается назад– и нетерпеливо закусывают удила «вихри-кони», зачуявшие призыв будущего. Выпишем некоторые симптомы из медицинского справочника– разве не точно накладываются они на картину общественной жизни 1920—1930-х годов?
Повышенное настроение… чрезмерное стремление к деятельности… Поверхностность суждений, оптимистическое отношение к своему настоящему и будущему. Больные находятся в превосходном расположении духа, ощущают необычайную бодрость, прилив сил, им чуждо утомление… То принимаются за массу дел, не доводя ни одного из них до конца, то тратят деньги бездумно и беспорядочно, делают ненужные покупки, на работе вмешиваются в дела сослуживцев и начальства. Больные крайне многоречивы, говорят без умолку, отчего их голос становится хриплым, поют, читают стихи. Часто развивается скачка идей… Интонации, как правило, патетические, театральные. Больным свойственна переоценка собственной личности… Сверхценные идеи величия136.
Это не только характеристика маниакальных периодов жизни общества, но и устойчивый стиль мышления руководящих его слоев, по роду службы пребывающих в состоянии «административного восторга» (М. Салтыков-Щедрин). Браться сразу за всё, вмешиваться в чужие дела, безудержно произносить патетические речи, приписывать историческое значение своим поступкам– вряд ли здесь нужно указывать персоналии, таков собирательный портрет «активиста».
Но затем наступает эпоха застоя, упадка, безвременья, когда в судьбе народа остается только уныло тянущийся из прошлого след и ветшающая телега на обочине.
Отмечается гнетущая безысходная тоска… Все окружающее воспринимается в мрачном свете; впечатления, доставлявшие раньше удовольствие, представляются не имеющими никакого смысла, утратившими актуальность. Прошлое рассматривается как цепь ошибок. В памяти всплывают и переоцениваются былые обиды, несчастья, неправильные поступки. Настоящее и будущее видятся мрачными и безысходными. Больные обездвижены, целые дни проводят в однообразной позе, сидят, низко опустив голову, или лежат в постели; движения их крайне замедлены, выражение лица скорбное. Стремление к деятельности отсутствует137.
Таковы депрессивные периоды, которые, по общему правилу течения болезни, наблюдаются и в русской истории гораздо чаще, чем маниакальные. Но вместе с тем это и характеристика определенных общественных слоев и устойчивого уклада их существования– тоскливо-однообразного, без внутреннего позыва к деятельности.
Эти пульсации бывают в истории каждой страны, но мало где они достигают такой амплитуды и резкости перепадов. Конечно, коль скоро речь идет об обществе, такая биполярность– это проблема не медицины, а метафизики, это бинарность самой культурно-исторической модели в ее болезненном и порой саморазрушительном выражении.
В.О. Ключевский объяснял эту социокультурную особенность чередованием в России краткой летней страды, когда в несколько недель вершится судьба урожая и сгорает вся рассчитанная на год энергия труда,– и долгой зимней спячки, когда время словно останавливается в натопленном доме, за пьяным столом, на мягкой перине.
Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному туду, как в той же Великороссии138.