Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках Уваров Павел
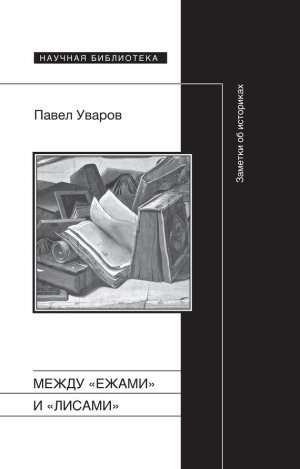
К.К. Насколько советская историография была связана с тем, что происходило на Западе? Можно ли говорить о некоем «отставании» либо о своего рода «особом пути»?
П.У. Можно сразу возмутиться словом «отставание», выдающим колониальный дискурс в духе Саида. Однако советские историки сами часто использовали этот термин, особенно в последние годы, когда одним из аргументов было: «Мы не можем допустить отставания советской науки». Это обычно писалось в заявках на получение какой-нибудь техники179– арифмометра типа «железный Феликс», печатной машинки с латинским шрифтом и, наконец, компьютера (в девичестве– ЭВМ). «Феликса» не давали, ЭВМ– тоже, но и отставать от Запада не разрешали.
Если оставить в стороне официальные лозунги, то трудно не увидеть некоей синхронизации историографических процессов, тем более удивительных, чем более отличались институциональные формы советской науки от западных.
Советские историки (например, Бессмертный, Гуревич, Каждан, Кобрин), еще не превратившиеся в «несоветских», до многих выводов «новой исторической науки» дошли вполне самостоятельно, хотя, конечно, работы западных историков читали с неподдельным интересом. Повторю еще раз, что и западные коллеги много брали из нашей науки. На Постана180 сильно повлиял Чаянов, русская аграрная школа некогда была в чести, а советская археология средневекового города на десятилетия обгоняла западных коллег.
Но и на официальном уровне было понимание того, что знакомство с «западными достижениями» необходимо для избранного круга ученых. Отсюда– знаменитые ИНИОНовские реферативные журналы и реферативные сборники181.
Ну а существование «особого пути», думаю, не требует комментариев.
К.К. Что– прежде всего, в теоретическом отношении– представляет собой «постсоветская историография»? Можем ли мы говорить о «постсоветской историографии» как о чем-то едином? Можно ли выделить некие периоды развития этой историографии? Насколько идеологически зависима нынешняя российская историография?
П.У. Термин «постсоветский» относится ведь не только к российской историографии. Вне России вполне очевиден курс на «суверенизацию истории». Меня особенно веселят разговоры о «смерти больших нарративов истории», таких как «нации» или «классы». Насчет классов не знаю, а вот нации вовсе не собираются сходить с подмостков историографической сцены, скорее наоборот. Не говоря уже о государствах и конфессиях. Бурное строительство новых национальных версий истории отягощено не лучшими из генов «советскости». Здесь и сервилизм, и специфическое отношение к источнику, и манера полемизировать. При этом, за исключением России, никто из новых стран не претендует на роль «великих историографических держав». Сказанное относится к историкам не только СНГ, но отчасти и к балтийским членам Евросоюза. В российской историографии, конечно, это также проявлялось (достаточно почитать талантливое исследование Шнирельмана182), но до поры до времени «суверенизация» истории или ее «национализация» проявлялась, в основном, на периферии, под которой следует понимать как удаленные от центра регионы, так и периферию профессионального сообщества. Теперь ситуация меняется. Посмотрим, как отразится на отечественной историографии обретение долгожданного репера «суверенной демократии»183.
Что же касается преемственности, то я уже говорил об унаследованной с советских времен институциональной слабости исторической науки. Эта слабость прогрессирует, и судорожные попытки ученых наладить контроль, например, за качеством защищаемых диссертаций не приводят к ощутимым результатам. Самый свежий пример– судьба «ваковского списка»184.
Периодизацией постсоветской историографии заниматься надо особо, с учетом и особенностей финансирования, и дискурсивных практик, и наследия научных школ. В целом 1990-е– период реального полицентризма, бурной эклектики, ускоренных поисков очередного единоспасающего учения. Здесь и форсированное знакомство с западной русистикой, и попытка реконструировать национальный пантеон ученых, и охота за новыми парадигмами. А помните, как, узнав, что Сорос– ученик Поппера, мы все начали козырять «принципом фальсифицируемости»185? Завидую будущим социологам и историкам науки, которые будут анализировать комплексы заявок российских историков на гранты. Какое разнотравье аргументов, легитимирующих их занятия. Какие неожиданные повороты биографических нарративов на пути от автобиографии ученого к CV или к «резюме» благополучателя!
2000-е годы– время «консолидации», стремительная перемена правил игры, попытки придать понятию «историческая память» прикадное значение. Поле «боев за историю», боев за ее национализацию смещается с периферии в центр российской историографии. Достаточно вспомнить эпопею с праздником 4 ноября186 или страсти вокруг «Бронзового солдата»187.
Нынешняя российская историография188, может, и не против «идеологической зависимости» и вполне готова «колебаться вместе с линией», но сама эта линия не всегда прощупывается. Понятно, что есть директива отстроить то прошлое, которым можно гордиться. Но чем именно гордиться– конкретных указаний до времени поступало немного, да и были они противоречивы. Здесь и оступиться недолго: начнешь Минина и Пожарского за установление гражданского общества почитать, так выясняется, что другим они милее истреблением басурман. А потом разъяснят, что надо было акцент ставить на их добрых делах во славу Отечества. Вроде бы детали, но в деталях-то лукавый и скрывается.
А свобода у историков пока есть. Во всяком случае– есть от чего бежать.
Впервые опубликовано: Уваров П.Ю. Свобода у историков пока есть. Во всяком случае– есть от чего бежать. Ответы на вопросы К. Кобрина // Неприкосновенный запас. 2007. № 5. С. 54—72.
Статья была заказана летом 2007 года для «Неприкосновенного запаса» Кириллом Кобриным. Отказать ему было невозможно– Кирилл не только блестящий стилист, наделенный тонким чутьем и фантастической работоспособностью, но еще по своей «гражданской профессии» историк-медиевист, специалист по средневековому Уэльсу. То есть– «из наших». А своим не отказывают.
Но статья никак не получалась; к тому же сказывался шок, вызванный неожиданной силы афронтом со стороны коллег после недавнего выступления о Гуревиче. Наконец догадался придать тексту вид интервью. Форма ответа на вопросы снимала проблему композиционной целостности и последовательности изложения.
Оставил бы я прежнее название, случись мне писать эту статью сегодня? Пожалуй, что да, хотя расширительный заголовок, навеянный «Бегством от свободы» Эриха Фромма, сегодня вызывает больше вопросов, чем раньше. Действительно, мы пережили страсти по созданию «Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России», составленной по большей части из людей, не обремененных достижениями на историческом поприще (история– слишком серьезное дело, чтобы доверять его историкам). Затем нахлынули эсхатологические ожидания, порожденные «Единым учебником по истории». И все же ситуация пока не слишком изменилась. Уточняю: на сегодняшний день не слишком изменилась. Но ждать можно всего, мы к этому привыкли.
ВОТ ТУТ ВСЕ И КОНЧИЛОСЬ…,
ИЛИ ФРАКТАЛЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Везде историки в первую очередь ориентированы на изучение прошлого своей страны. И лишь в некоторых государствах история всемирная не только преподается в обзорных курсах, но и служит предметом оригинальных исследований. Российская империя и Советский Союз относились,а Российская Федерация пока продолжает относитьсяк числу именно таких государств. Поэтому вопрос о вкладе России в изучение всемирной истории189 и о признании значимости этого вклада международным сообществом историков в принципе может быть поставлен. Однако предварительно стоит оговорить некоторые необходимые допущения.
1. Для простоты разговора мы будем считать историю наукой. На самом деле вопрос о научной природе исторического знания и о научном характере ремесла историка является спорным. Однако продолжение этих споров займет слишком много времени.
2. По той же причине мы будем исходить из того, что история является кумулятивной наукой. С этим тезисом многие не согласятся, приведя серьезные возражения. Но иначе трудно говорить о вкладе трудов наших историков в мировую науку. К тому же мало кто станет отрицать, что история обычно сама любит «играть» в кумулятивный характер своего знания: принято считать, что добытое одним историком может быть использовано другим и все это вместе складывается в некоторую копилку знаний. Отсюда и столь любимые историками слова о «введении в научный оборот».
3. Если определять историю как науку, то трудно не заметить, что она существует в двух ипостасях: интернациональной и национальной. В своем интернациональном обличье наука вообще не имеет границ, и потому термины: «Академия российских наук» или «Академия польских наук» звучали бы смешно. Но при этом слова о размывании национальных школ пока остаются лишь словами, и история как институт знания по-прежнему не существует вне национальной оболочки. Да и выражения «Российская академия наук» или «Польская академия наук» сами по себе смеха не вызывают.
4. Следующее допущение связано с национальной ипостасью истории. В качестве национальной институции история включает в себя национальное сообщество ученых, обладающее определенной организационной структурой, определенными правилами игры и, главное, элементами деонтологии. Это– самовоспроизводящееся сообщество ученых (зачастую обладающее субъектностью, которая помимо прочего дает ему возможность солидарно выступать на международной арене). Историки национальной школы, по идее, должны выработать некую общую и желательно социально признанную форму легитимации своего знания. Иными словами, если у каждого историка могут быть сугубо личные причины заниматься своим делом, то статистически все исследователи, образующие совокупность представителей «национальной историографии», склонны схожим образом отвечать на вопросы, чем они занимаются и какая от этого польза.
5. И, наконец, последнее допущение относится к использованию термина «великая историографическая держава». В самом термине нет ничего оценочного, просто в одних странах не занимаются ничем, кроме истории своей страны, а в других на занятия «чужой» историей затрачивают деньги налогоплательщиков (иногда даже немалые), и это ни у кого не вызывает удивления. К числу последних относятся, в частности, США, Франция, Германия, Россия. А, например, страны Ирландия или Испания долгое время тратили средства в основном на изучение истории своей страны или регионов, так или иначе с этими странами связанных190.
Теперь обратимся к трем периодам изучения всемирной истории в нашей стране.
В Российской империи была неплохая школа по изучению всеобщей истории191. Оставим в стороне вопрос, как и почему она сложилась, нам достаточно констатировать, что она существовала. Изучение всемирной истории со второй половины XIX века прочно укоренилось и в университетах, и в Академии наук. Увлеченность российской историей не снижала интереса к истории всеобщей, которой стремились обучить не только студентов, но и гимназистов. Своеобразным доказательством от противного может служить «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”»192– талантливая пародия на гимназические учебники по всемирной истории, популярность которой предполагала хорошее знание исторического материала достаточно широкими кругами российской публики.
Некоторые достижения российских историков были весьма востребованы на Западе. Высоко ценилось российское византиноведение, в особенности– работы В.Г. Васильевского, В.Н. Бенешевича, Ф.И. Успенского. В этом нет ничего удивительного– к истории Византии имелся большой интерес, основанный на особой роли византийского наследия для судеб России. Недостатка в источниках не было, в науку приходили специалисты с прекрасной филологической подготовкой, византиноведение неплохо финансировалось– помимо бюджета Министерства народного просвещения активно помогали русское Палестинское общество, Русская православная церковь. Византинисты могли ездить в командировки, работали в архивах, участвовали в международных симпозиумах.
Обратим внимание на болезненный для нас вопрос о языке, столь же непонятном для западных коллег сегодня, как и в начале прошлоо века. Так, в достаточно ехидной рецензии немецких византинистов Юлиха и Тэрнера на труд В.Н. Бенешевича говорилось, что российские коллеги намеренно скрывают некоторые свои важные находки, публикуясь исключительно по-русски193. Поэтому иностранные византинисты вынуждены были учить русский– жаловались, но учили. Кроме того, немало публиковалось на иностранных языках, и в том числена языках древних, понятных специалистам. Столь не любимое российскими гимназистами и сатириками классическое образование делало такие издания возможными.
Высоко ценилась русская аграрная школа, изучающая западноевропейское общество. Ведь Россия оставалась страной, где крестьянский вопрос стоял куда острее, чем в странах Западной Европы. Неудивительно, что русские историки, руководствуясь ретроспективным методом, могли усмотреть в поземельных отношениях Средневековья и Старого порядка то, о чем их западные коллеги давно забыли. С интересом и уважением французы встречали труды И.В. Лучицкого по французскому крестьянству Старого порядка. А П.Г. Виноградов стал основателем классической теории манора и учителем целого поколения английских историков.
В начале XX века на мировую арену начала выходить петербургская школа изучения Средневековья, во многом связанная с именами талантливых учеников И.М. Гревса. Хорошо была встречена французская публикация О.А. Добиаш-Рождественской («Церковное общество во Франции»), тесно сотрудничавшей со знаменитыми медиевистами Шарлем Ланглуа и Фердинандом Лотом194. Выступления представителей российской делегации (А.С. Лаппо-Данилевского, Б.А. Тураева и других) на IV конгрессе исторических наук, проходившем в 1913 году в Лондоне, произвели настолько благоприятное впечатление, что следующий конгресс решено было провести в Санкт-Петербурге в 1918 году.
Но тут все кончилось.
Все же старая система после революции умерла далеко не сразу; вопреки многим ламентациям тогдашних ученых она довольно долго жила по инерции. Университеты были разгромлены, но Академия наук продолжала действовать. С.Ф. Ольденбург, ее непременный секретарь, метался, пытаясь то выпустить из тюрьмы арестованных ученых, то добывать дрова и продовольствие195. Однако сохранялись еще связи с западными коллегами, к которым добавились историки теперь уже независимых государств. Так, можно сказать, что определенное влияние на польскую медиевистику оказал Д.М. Петрушевский, ранее преподававший в Варшавском университете196. Более того, ученые продолжали ездить в командировки. Например, самый талантливый из учеников П.Г. Виноградова, А.Н. Савин, был отправлен в Англию (где, к сожалению, умер от «испанки»– страшной пандемии гриппа 1923 года). Когда в 1923 году в Брюсселе был наконец проведен IV Конгресс исторических наук (который по техническим причинам не состоялся пятью годами раньше в Петербурге), Россию на нем представляла делегация не СССР, а Российской академии наук. Характерно, что до конца 1920-х годов членами РАН продолжали считаться эмигрировавшие ученые– М.И. Ростовцев, П.С. Струве и другие.
Как и для всей страны, 1928—1929 годов были для исторической науки временем «великого перелома». Произошла «советизация Академии». Как ни пытался маневрировать С.Ф. Ольденбург, старая корпорация была сломлена в результате «академического дела», ареста десятков видных ученых, в особенности– историков. На следующем Конгрессе исторических наук (Осло, 1928 год) СССР был уже представлен совсем иной делегацией во главе с воинствующим марксистом М.Н. Покровским, который, занимая высокий пост в Наркомпросе, настаивал на отмене преподавания истории. Европейские ученые были тогда шокированы новым обликом российской исторической науки. Впрочем, и советские историки постарались поскорее забыть об этом первом контакте, поскольку вскоре Покровский впадет в немилость, а его ученики будут физически уничтожены. Методологические эскапады следующей делегации историков-марксистов на Варшавском МКИН (1933 год) привели к не менее конфронтационному эффекту, и традиция участия русских ученых в этих конгрессах надолго прервалась.
С конца 1920-х годов можно говорить о том, что существуют два отряда русских историков. Одни преуспели в эмиграции, хорошо интегрировавшись в новую академическую среду. Помимо П.Г. Виноградова, возведенного английским королем Георгом V в рыцарское достоинство за его заслуги перед их страной (впрочем, эмигрировавшего в Англию еще до революции), в этом ряду надо назвать М.Н. Ростовцева и Н.И. Оттокара. Этим двум ученым удалось сохранить свои академические интересы и быть принятыми новыми университетскими коллегами. Успех Ростовцева на ниве американского антиковедения, которое изначально не находилось в каком-то более привилегированном положении по сравнению с антиковедением российским, вполне объясним197. Достижения же Оттокара198, ставшего лучшим знатоком истории итальянских средневековых городов, особенно после того, как он возглавил кафедру во Флоренции,– более удивительны199. Были и другие историки, которым удалось продолжить преподавательскую работу вне России. В Риге всеобщую историю преподавал Р.Ю. Виппер, в Каунасе– Л.П. Карсавин (сумевший освоить литовский язык). Однако чаще специалисты по всеобщей истории становились славяноведами или русистами– такие как Г.П. Федотов или П.М. Бицилли.
Положение исторической науки в СССР выглядело к началу 30-х годов, мягко говоря, драматичным. К разгрому университетов добавилась «советизация» Академии. Несмотря на протесты ученых, продолжалась продажа за границу музейных экспонатов и редких книг. Аресты историков все множились, систематические курсы истории были изъяты из школьного преподавания. Впрочем, продолжали работать некоторые исследовательские институты; отдельные новые учебные заведения давали очень неплохое гуманитарное образование– например, ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории) или ИКП (Институт красной профессуры).
В конце концов сформировалась новая, уже советская система исторического знания. Начальной датой функционирования этой системы можно назвать 1934 год– Постановление Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) «О преподавании в школах СССР гражданской истории и географии». С этого момента история в виде систематического курса возвращается в школы и в высшие учебные заведения (вместе с кадрами «старых» преподавателей); появляются системы школьных и вузовских учебников. Это было лишь началом процесса, а конечной его датой можно считать 1948—1949 годы. До этих годов еще хотя бы гипотетически возможна была деятельность историков не-марксистов или «недостаточных» марксистов. Определенные послабления делались для старой профессуры (И.М. Гревса, Д.М. Петрушевского, репатриированного из Риги Р.Ю. Виппера), но с конца 1940-х годов такое было уже немыслимо.
Весь этот период можно назвать «эпохой героев». Ни идеологический контроль, ни репрессии не ослабевали, а даже усиливались; позже к ним прибавились тяготы войны, затем– борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. В этих условиях ученые с дореволюционной подготовкой освоили марксизм (вопрос об искренности их чувств, питаемых к всепобеждающему методу, можно оставить за скобками). Им удалось создать относительно непротиворечивую систему знаний, сохранившую при этом черты академической респектабельности. Соотносясь с источниками по правилам, разработанным историками-позитивистами, они строили свои интерпретационные модели, следуя марксистскому методу. Не всегда это получалось, этот процесс был неравномерен: некоторые отрасли исторической науки так и не были восстановлены (в особенности это касалось источниковедческих дисциплин). Одни области знания (например, византиноведение) после учиненного разгрома так и не вернулись на дореволюционный уровень; другие (например, то, что сегодня называется историей раннего Нового времени) этот уровнь явно превзошли. Но в целом можно сказать, что была создана вполне работающая система, годная для внутреннего употребления и обладавшая полным набором характеристик национальной историографии.
Мне бы не хотелось, чтобы создалось впечатление попытки нормализовать советскую историческую науку. Она походила на «нормальную» науку не в большей мере, чем СССР походил на «нормальное» общество. Поэтому оценивать советских историков, сравнивая их с историками дореволюционными или с какой-нибудь школой «Анналов», было бы не очень продуктивно. Прежде всего, иной была система легитимации своего ремесла. Советские специалисты по всеобщей истории научились отвечать на вопрос, зачем в условиях враждебного империалистического окружения (либофорсированной индустриализации, войны, восстановления хозяйства, подготовки к Третьей мировой войне, освоения целины и т.д.) надо изучать историю Древнего Рима, крестовых походов или войны за независимость американских колоний. Ссылки на общую гуманистическую традицию здесь уже не работали, а приверженность «объективизму» служила одним из тяжких обвинений. В зависимости от «текущего момента» ответ мог быть разным. Например, в духе пролетарского интернационализма: изучение «революции рабов и колонов» (на наличие которой указал тов. Сталин на съезде колхозников) позволяет лучше вскрыть особенности классовой борьбы трудящихся; или в духе патриотизма– изучать образование Тевтонского ордена важно для того, чтобы продемонстрировать агрессивную сущность германского милитаризма и героическую борьбу с ним славянских народов. Но главными и наиболее эффективными были аргументы борьбы с буржуазной историографией и демонстрация превосходства марксистско-ленинского учения. Не удивительно, что советская историческая наука плохо согласовывалась с «традиционными» представлениями о научности. Удивляет, что хотя бы в чем-то она им соответствовала.
Возвращение русской исторической науки в советском обличье на международную арену началось с середины 1950-х годов. В 1955 году состоялся X Международный конгресс исторических наук в Риме, где СССР, по сути, впервые принял полноценное участие. Советская делегация во главе с академиком Е.А. Косминским произвела хорошее впечатление. Интеллектуал дореволюционной формации, свободно владевший основными европейскими языками, автор вполне убедительных эмпирических исследований по аграрной истории и вместе с тем вполне последовательно развивающий марксистскую версию истории,– все это было внове и вызывало большой интерес. С тех пор СССР год от года увеличивал свое присутствие на международных конгрессах. Венцом этого движения можно считать проведение XIII МКИН в Москве в 1970 году.
Но насколько влиятельна была советская историческая наука за рубежом среди тех, кто не занимался специально историей России?
Западные историки склонны были цитировать советских авторов, которые, впрочем, не являлись историками. Большое влияние на исследователей оказали концепции экономиста А.В. Чаянова, о «циклах Кондратьева» заговорили историки 1950—1960-х годов, обратившие внимание на изучение экономических конъюнктур. Чуть позже пришло увлечение М.М. Бахтиным, М.В. Проппом и русскими формалистами. Но склонен ли был Запад прислушиваться к советским историкам?
Ответ будет скорее положительным. Да и как он мог не прислушиваться, когда СССР обладал водородной бомбой, запускал ракеты в космос и его танковые армады были в двух суточных переходах от Рейна, стройные ряды историков «стран народной демократии» демонстрировали успешное освоение марксистского метода, а сам марксизм находился на пике популярности среди западных интеллектуалов 1950—1960-х годов?
Иногда это был вполне заинтересованный диалог на равных или почти на равных. Достаточно любопытна переписка академика Н.И. Конрада с Арнольдом Тойнби или полемика последнего с тем же Е.А. Косминским. К советским историкам, изучавшим Французскую революцию (таким как В.М. Далин, А.З. Манфред, А.В. Адо и другие), прислушивались их французские коллеги, к тому же по большей части сами состоявшие в местной компартии или симпатизировавшие ей. Византинистика восстала из пепла, она мало походила на свою дореволюционную предшественницу (скрупулезное источниковедение уступило место смелым социально-экономическим полотнам), но это была наука, с которой вновь считались западные коллеги. Удачными были контакты в сфере того, что называлось вспомогательными историческими дисциплинами, не говоря уже об археологии. Были историки, известные на Западе в силу своей специализации: например, работы Н.Н. Болховитинова, посвященные Русской Америке, были хорошо знакомы американским историкам.
Труды советских историков, основанные на источниках, особенно неопубликованных, часто становились известны западным коллегам и если не встречали восторженного приема, то, во всяком случае, принимались к сведению и включались в общие библиографии, а иногда и переводились на европейское языки– например, книга А.Д. Люблинской о Франции эпохи Ришелье200 или исследование Л.А. Котельниковой о сельской округе итальянских городов Средневековья201. И таких примеров не так уж мало.
Наряду с этим в известности советских работ присутствовал и элемент славы ярмарочного монстра. Попробуем проследить это на примере книги Б.Ф. Поршнева, посвященной народным восстаниям во Франции накануне Фронды, удостоенной Сталинской премии в 1949 году Она была основана на донесениях королевских интендантов; эти документы, попавшие после Французской революции в российские архивы и потому были не слишком известны французским коллегам. Но интерес вызвало не столько это обстоятельство, сколько лобовая марксистская интерпретация французского абсолютизма как порождения феодальной реакции на усиление классовой борьбы. Особо поражал воинственный тон изложения: автор громил буржуазных фальсификаторов, пытавшихся замолчать массовые народные движения, едва не приведшие к революции в XVII веке. Эта работа стала известна на Западе уже в 1953 году (после того как была опубликована в ГДР). Затем по инициативе Робера Мандру в 1963 году она была издана и во Франции202. Разрушение привычных для французов стереотипов, соблазнительная простота концепции, железная логика, подкрепленная обильным цитированием источников, завоевали Поршневу немало сторонников на Западе. Язвительной критике подверг книгу Поршнева Ролан Мунье, за которым закрепилась слава консерватора. В результате французское историческое сообщество поделилось, как тогда говорили, на «поршневистов» и «антипоршневистов». Несмотря на то что в СССР концепция Поршнева встретила ожесточенное сопротивление коллег, сумевших вытеснить ее на периферию марксистской концепции абсолютизма, во Франции по сей день многие уверены, что именно Поршнев воплощал в своих работах «советский» подход к этой проблеме.
Нечто подобное происходило на крупных международных конгрессах, когда представители советской делегации выступали с программными докладами, неизменно вызывавшими критику одних и поддержку других. Перед отправкой на коллоквиум такие доклады надо было обязательно согласовывать, а членам советской делегации предписывалось сообща «давать отпор реакционным вылазкам». При том что на тех же конгрессах советские доклады, опиравшиеся на эмпирический материал, воспринимались по большей части вполне спокойно и даже благожелательно, репутация советских историков в целом оставалась весьма специфической. В представлении западного исследователя, его «обобщенный» советский коллега действовал следующим образом: «Если данные источника не укладываются в систему марксистской методологии, то тем хуже для источника». Как писал А. Момильяно: в разговоре с советскими историками создается «впечатление, что они имеют в кармане философский камень и поэтому могут лишь снисходительно смотреть на западных коллег…»203
Решению больной для отечественной историографии языковой проблемы способствовали историки стран социалистического лагеря, переводившие труды совтских ученых (как в случае с Б.Ф. Поршневым). Но в большей степени этому содействовала целенаправленная государственная политика. Доклады советских историков старательно переводились на иностранные языки, специальное книжное издательство занималось публикацией работ советских авторов для зарубежных читателей. Так, например, в 1978 году была переведена на французский язык трехтомная советская «История Франции». Она встретила весьма холодный прием в Париже; причем совершенно незаслуженно критика досталась добросовестным историкам– Ю.Л. Бессмертному, А.Д. Люблинской, С.Д. Сказкину. Рецензенты возмущались, почему их том, обнимающий все богатство многовековой французской истории от галлов до Французской революции, имеет вдвое меньший объем, чем второй том, посвященный, по сути, «большому XIX веку», не говоря уже о третьем томе, где речь шла лишь о шести десятилетиях XX века? Упрек был явно не по адресу.
Наконец, надо сказать о достаточно щекотливой проблеме, характерной для последних двух десятилетий существования советской историографии. Как следует классифицировать труды С.С. Аверинцева, А.Я. Гуревича, А.П. Каждана и некоторых других ученых, о которых сегодня говорят как о «несоветской советской историографии»? И содержательно, и– что самое главное– стилистически они начинают явно выбиваться из рамок, в которых существовала национальная историография в СССР. На Западе они были известны достаточно хорошо, причем их известность выходила уже за пределы научной специализации (для советских историков это было, пожалуй, впервые). Но считались ли они историками советскими как в глазах властей, так и в глазах мирового сообщества? Ответить на этот вопрос так же сложно, как ответить на аналогичный вопрос о фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» или о музыке Альфреда Шнитке. Думаю, что советское происхождение все же придавало в глазах западных коллег некую особую привлекательность этим сочинениям. Одни ценили в них усилие преодоления, действия вопреки системе, другие видели залог будущей трансформации исторической науки в духе «теории конвергенции». Впрочем, ситуация усложнялась еще и появлением третьей волны эмиграции.
Как бы то ни было, известный французский медиевист Ален Герро в 1990 году публикует статью в журнале «Анналы», где помимо прочего критикует французскую историографию за слабое знание работ историков из социалистических стран, в особенности исследований Ю. Бессмертного, А. Гуревича, Б. Поршнева, С. Сказкина в СССР, В. Кулы, А. Вычански, Г. Самсоновича, Б. Геремека– в Польше, Е. Вернера, Б. Тёпфера, Е. Мюллер-Мертенс, Й. Херманна в ГДР204. В 1989 году с большой помпой в Москве прошел коллоквиум, посвященный юбилею школы «Анналов». В речах иностранных коллег звучали непременные здравицы в часть возвращения советской науки в мировую историографию. На очередной, XVII Конгресс исторических наук в Мадрид советские ученые приезжают, непривычно омолодив состав делегации. Все были уверены, что от нашей науки, освободившейся от пут тоталитаризма, следует ждать блестящих свершений.
Но тут все кончилось.
И снова старая система умерла далеко не сразу. Вопреки многим ламентациям тогдашних ученых она довольно долго жила по инерции.
Каких-то авторов– того же А.Я. Гуревича или Л.М. Баткина– по-прежнему активно издавали на Западе. Продолжался обмен делегациями. Многие историки словно не замечали, что СССР прекратил свое существование. Некоторые школьные учебники, именуясь по-новому: «История России с древнейших времен до наших дней», все-таки в качестве древнейшей цивилизации на территории нашей страны называли государство Урарту, чем повергали в недоумение коллег из суверенной Армении.
Но Советский Союз кончился, а с ним парадоксальным образом закончился и интерес к историографии российской. Даже там, где он по традиции был достаточно велик. Иностранные византинисты, например, очень быстро начали забывать не только русский язык, но и необходимость ссылаться на труды русских коллег.
В этой связи хочется вспомнить слова г-на Брежере из «Современной истории» Анатоля Франса, относящиеся к влиянию военных неудач на международный престиж французской науки:
«Из письма моего уважаемого друга Вильяма Гаррисона я узнал, что с 1871 года французская наука перестала пользоваться почетом в Англии и что в университетах Оксфорда, Кембриджа, Дублина намеренно игнорируется руководство по археологии Мориса Ренуара, хотя из всех подобных трудов– это лучшее пособие для студентов. Но там не желают учиться у побежденных. Если верить его словам, то профессор, читающий о происхождении греческой керамики, должен принадлежать к нации, которая славится искусством лить пушки, иначе его не будут слушать. Из-за того что маршал Мак-Магон в 1870 году был разбит под Седаном, его собрата Мориса Ренуара не признают в Оксфорде в 1897 году»205.
Можно, конечно, счесть это очередным парадоксом галльского ума, но разве перед нами не стоит удивительный пример угасания славы немецкого антиковедения после поражения во Второй мировой войне? И сегодня выросло уже второе поколение антиковедов, не знающих немецкого языка,– ситуация, ранее немыслимая.
С некоторым удивлением обнаружив себя в статусе проигравших в холодной войне, российские историки были неприятно удивлены тем, что они теперь неинтересны Западу в качестве представителей особой национальной историографии.
Правда, в Россию зачастили миссионеры, пропагандирующие то или иное исследовательское направление, надеясь завоевать в нашей стране новых приверженцев. Их слушали внимательно, и не только чаемая грантовая поддержка западных фондов была тому причиной, но еще и метафизическая тоска по утраченному единоспасающему марксистскому методу и страстное желание обрести ему достойную замену. Но ни «историческая антропология», ни гендерные исследования, ни психоистория, ни микроистория, ни лингвоповорот не могли занять эту опустевшую нишу в кумирне. Да и было все это улицей с односторонним движением.
Не способствовали налаживанию диалога нашего национального сообщества историков с иностранными коллегами и попытки опереться на новые авторитеты отечественного происхождения: идеи Л.Н. Гумилева оказались больше востребованы в Казахстане и Монголии, русские религиозные мыслители (Карсавин, Лосев, Лосский) также не очень впечатляли западных исследователей.
Но это совершенно не мешало эффективным контактам на индивидуальном уровне. Мир открылся, историки получили возможность работать в архивах изучаемых стран, кому-то удалось хорошо интегрироваться в европейскую или американскую академическую среду. Но если Ростовцев мог все же рассматриваться и как представитель русской науки в изгнании, то о моих сегодняшних коллегах, успешно преподающих в западных университетах, этого сказать нельзя.
Список локальных достижений современных российских историков может оказаться неожиданно длинным. У нас есть немало молодых ученых, хорошо читающих клинопись и прекрасно знающих коптские и сирийские памятники; наших археологов и кочевниковедов хорошо принимают на Западе; а число знатоков древнеисландского, да и древнеирландского языков превосходит все ожидания. Существует немало вполне эффективных проектов международного сотрудничества. Российская делегация продолжает участвовать в международных конгрессах историков– правда, численность ее раз от раза снижается206. Но все же, если речь идет о солидарном авторитете российской национальной историографии, о ее вкладе в мировую историографию (напомню, что для нас важен критерий известности историка за пределами его узкой специализации), здесь ситуацию трудно назвать отрадной.
Присутствие России на рынке мировой историографии продолжается в качестве «сырьевой державы»– у нас есть много источников, относящихся ко всемирной истории, при этом недостаточно известных западным исследователям– архивы III Интернационала, документы по Второй мировой войне и многочисленные трофейные коллекции (последние, впрочем, по большей части уже возвращены прежним владельцам).
И все же России пока удается поддерживать статус «великой историографической державы». На этот статус мало кто может претендовать из бывших советских республик. В молодых государствах (даже тех, которые успешно интегрированы в ЕЭС) историки сконцентрировали свои усилия на форсированном строительстве национальных версий исторической памяти, то возводя «музеи российской оккупации», то изучая прошлое своей страны в «колониальный период».
Если же говорить о существовании российской национальной историографии, то ее формирование пока еще не завершилось, и никакой когерентной системы наши историки и представляемые ими институции не образуют. Для доказательства этого достаточно взглянуть на то, как рецензируются вышедшие у нас работы по всемирной истории.
Соблазнительно усмотреть в этом действие общей тенденции «конца больших нарративов», порождающей пресловутое «измельчание истории». Но для доказательства противного достаточно взглянуть на национальную историографию экс-советских республик, да и не только их.
Можно уповать на грядущее признание заслуг национальной историографии мировым сообществом историков. Можно рассчитывать на признание на Западе какого-нибудь историка, действующего вопреки своей национальной историографии (назовем это «эффектом Орхана Памука», обвиненного у себя на родине в оскорблении Турецкой Республики). Но и в том и в другом случае существование национальной историографии необходимо.
Почему Россия здесь отстала от своих бывших коллег по соцлагерю– особый вопрос. Нас интересует сейчас другое: вернут ли себе российские историки известность в мировом масштабе?
Вновь прибегну к литературной цитате, на сей раз из С. Довлатова. В последней своей повести, «Филиал», он описывал советских эмигрантов, съехавшихся в Калифорнию на конгресс славистов. Эмигранты делились на почвенников и либералов. «Почвенники уверены, что Россия еще заявит о себе. Либералы находят, что, к величайшему сожалению, уже заявила»207.
Сейчас, когда поиски национальной идеи в нашей стране перешли в практическую плоскость, когда авторитет российских историков вновь несколько подкреплен нефтедолларами, запусками ракет «Булава» и металлическими нотками во властном дискурсе, шансы российских ученых на особую партию в мировом оркестре историков повышаются. Логично ожидать, что первой обретет некую гомогенность именно история России (хотя что такое для России, например, история Украины– вопрос пока нерешенный). Но мы– непредсказуемая страна, и поэтому вполне возможно, что роль локомотива в этом может сыграть именно история всемирная. Эффект «вненаходимости», о котором писал в свое время М.М. Бахтин и на который так любил ссылаться в своих работах А.Я. Гуревич, или, попросту говоря,– особое, наше, то ли евразийское, то ли «азиопское» положение в качестве созерцателей всемирно-исторического процесса может дать нам в руки некоторые преимущества. Поэтому с большой долей вероятности вновь можно ждать клича: «Русские идут!» Но вернемся ли мы в мировую историографию в обличье очередного ярмарочного монстра или на правах равных собеседников– зависит от рационального выбора нынешнего поколения российских историков.
В мае 2008 года в Институте гуманитарных историко-теоретических исследований Высшей школы экономики совместно с Центром изучения классической традиции в Польше и Центральной и Восточной Европе Варшавского университета была проведена конференция «Присутствие и отсутствие Польши и России в мировом гуманитарном научном пространстве». Организаторами с российской стороны были Ирина Савельева и Андрей Полетаев, с польской– Еже Асер и Ян Кеневич. Мне было предложено выступить, опираясь на опыт российской исторической науки. Точнее– речь шла о содокладе, поскольку оценивать вклад в копилку мирового знания российских историков, занимающихся отечественной историей, было поручено А.Б. Каменскому.
Я выступал без текста, но сотрудники ИГИТИ представили мне стенограмму моего выступления, которую волей-неволей пришлось перерабатывать в статью. Она была опубликована сначала по-русски: Уваров П.Ю. «Но тут все и кончилось… Россия в роли «великой историографической державы» // Национальные гуманитарные науки в мировом контексте. Опыт России и Польши. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010. С. 121—139.
А затем по-польски: Uwarow P. I na tym wszystko si skoczyo… Rosja w roli “wielkiego mocarstwa historiograficznego” // Humanistyka krajowa w kontekcie swiatowym. Dowiadczenie Polski i Rosji / Pod red. J. Axera i I. Sawieliewej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011. S. 125—140.
Изначально в подзаголовке статьи стояло «или Фракталы российской истории», но редакторы сочли, что слово «фрактал» непонятно гуманитарной публике и совсем неясно, как оно будет звучать для польской аудитории. Я-то с фракталами сталкивался, пытаясь разобраться в трудах клиометристов, клиодинамиков и историков, упирающих на перспективы синергетики. И если определение фракталов, принятое в точных науках (фрактал– самоподобное множество нецелой размерности), мало что мне говорит, то «математизирующие» историки и экономисты, употребляя это слово, обозначают цикличность, повторяемость наблюдаемых процессов. А повторяемости или даже «дурной бесконечности» в российской– да и в польской– истории было много, даже слишком много. Поэтому я решил вернуть изначальное название.
ИНТЕРВЬЮ Л.Р. ХУТ
С ПАВЛОМ ЮРЬЕВИЧЕМ УВАРОВЫМ
от 14 апреля 2009 года
Л.Р. Хут. Сегодня, 14 апреля 2009 года, мой собеседник– член-корреспондент РАН, заведующий Отделом западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН, директор российско-французского учебно-научного Центра исторической антропологии им. Марка Блока РГГУ, член Международной комиссии по истории университетов, ответственный редактор журнала «Средние века. Исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени», член редколлегий изданий «Одиссей. Человек в истории» и «Французский ежегодник», доктор исторических наук профессор Павел Юрьевич Уваров.
Павел Юрьевич, простое перечисление ваших должностных обязанностей впечатляет. Скажите, пожалуйста, с этой искомой высоты «птичьего полета», что видите вы, какие процессы в современной отечественной исторической науке? Что вас радует, а что настораживает? Можно ли говорить о существовании в нашей стране профессионального сообщества историков?
П.Ю.Уваров. Во-первых, какой отечественной исторической науке? Иногда все-таки полезно разделить всемирную (всеобщую) историю и историю отечественную. Не всегда это надо делать, но иногда это полезно; и, во всяком случае, надо понимать, о чем идет речь.
Л.Х. Давайте будем говорить о всемирной истории.
П.У. Да, но и в связи с отечественной историей также. Хорошего, конечно, мало. Я думаю, что большинство интервьюируемых вами лиц тоже были далеки от оптимизма. С моей точки зрения, проблема вполне очевидная: сообщество не сложилось. Вернее, не сложилось оно как в масштабах всего государства (сообщество историков, видимо, все-таки скорее существует на бумаге или в умах очень оптимистически настроенных людей), так и в рамках какой-то одной субдисциплины, что более странно. Как это можно доказать? Да тем, что в принципе у нас можно все. Во Франции, знакомой мне лучше, при всей свободе историков есть вещи, которые делать нельзя. Сообщество это хорошо знает: есть правила игры, за нарушение которых следует определенная реакция коллег. У нас этого почти нет, что очень грустно, я попробую объяснить почему. Хоть и можно спорить о существовании объективной истины и о критериях верификации, но в социальной практике (если рассматривать науку как социальную практику) иных критериев, кроме экспертной оценки сообщества, у нас пока нет. А для этого нужно, чтобы сообщество функционировало. Если человек скажет глупость, допустим что данный народ живет на данной территории начиная с нижнегопалеолита, а все остальные являются пришлыми и подлежат выдворению, то в идеале именно его коллеги должны сказать, что он глубоко заблуждается. Но у нас коллеги этого могут и не сказать– не прочтут; не захотят связываться; подумают, что они выше этого; просто руки у них не дойдут и т.д. Не стоит идеализировать сообщество: оно может быть консервативным, оно может тормозить инновации, оно может создавать дутые авторитеты. Все это везде есть, это было и у нас, и будет, наверное; но при этом сообщество должно функционировать как важнейшая референтная группа.
Л.Х. Павел Юрьевич, о наличии или отсутствии сообщества должно свидетельствовать наличие или отсутствие каких-то организационных форм? Несколько лет назад, насколько я помню, вынашивалась идея, впоследствии благополучно забытая, о создании Российской исторической ассоциации208. Почему эта идея была похоронена? Если бы ассоциация сегодня существовала, это означало бы, что у нас есть сообщество?
П.У. Не думаю, что ассоциация непременно была бы тождественна сообществу. Здесь, наверное, нужны категории анализа П. Бурдьё, может быть, других французских социологов– Л. Болтански, Л. Тевено, если речь идет о французах, или категории каких-нибудь англосаксонских интеракционистов. Сообщество– это поле взаимных связей. Поле не создается приказом, не создается в виде какой-то формальной ассоциации. Хотя сама по себе тяга к созданию ассоциации является проявлением уже какого-то важного процесса складывания сообщества или тенденций, которые ведут к складыванию этого сообщества. Почему же его нет? Потому что плохо работают какие-то отдельные учреждения? Да, конечно, они работают плохо. Нет ни структуры, ни, что гораздо важнее, нет конкретного влиятельного человека, который был бы заинтересован в существовании и поддержании такого сообщества или таких сообществ в целом209. Тем не менее есть удачные примеры. Я обещал не называть здесь фамилий, но все-таки назову: Лорина Петровна Репина, которая вместе со своим коллективом создала общество «интеллектуальных историков», как у нас называют ее ассоциацию210. Сообщество очень специальное, оно не охватывает большинства или даже значительной части историков, статусные позиции его членов, как правило, не слишком высоки и т.д. На местах это скорее прибежище для людей, обделенных официальными полномочиями, чем лидеров локальных исторических сообществ. Но тем не менее это сообщество существует не первый год, есть издания, есть организационная структура.
Л.Х. Не является ли Российское общество интеллектуальной истории счастливым исключением? Не погружаемся ли мы в ситуацию, когда «всяк сам себе историк», и не есть ли она одно из проявлений кризиса современного отечественного историознания?
П.У. У нас не «всяк сам себе историк», хотя и такая тенденция есть. Антуан Про в книге «Двенадцать уроков по истории», анализируя свою, французскую, ситуацию, пишет, что вот у нас, похоже, существуют скорее кружки для самовосхваления, чем единое сообщество. Это вполне применимо к российским историкам, складывание таких кружков для самовосхваления вполне заметно. Это не совсем «историк сам по себе». Вокруг одного или нескольких человек складывается определенное маленькое поле. Это могут быть неформальные связи, это может быть кружок, семинар или даже отдел или кафедра. Здесь все друг друга знают, здесь создаются авторитеты. Но они действуют только в рамках этой мини-группы. Между собой такие группы могут быть никак не связанны или связанны очень мало. Мне часто приходилось слышать, что мы, медиевисты, такие хорошие, сплоченные и т.д. Но, на мой взгляд, будет более справедливым отнести это к тем, кто занимается древнерусской историей или, как сейчас стали говорить, средневековой историей России. Вот они гораздо ближе к тому, что можно назвать профессиональным сообществом. Это понятно, поскольку здесь не так много источников, не так много сюжетов. Люди сталкиваются при изучении одного и того же документа, одного и того же текста, а интерпретируют его по-разному. Поэтому это сообщество часто конфликтно. Идут взаимные обвинения, едкие рецензии, потом едкие ответы на эти рецензии. Это, конечно, грустно, что они ругаются, но это значит, что все-таки сообщество функционирует. Какие бы личные амбиции и обиды ни таились под покровом дискуссий, но все же историки выясняют отношения при помощи научных аргументов. Оставаясь в рамках науки, они ставят друг другу какие-то баллы по шкале «гамбургского счета». Есть ли такое сейчас у медиевистов или «новистов»? Не знаю211.
Л.Х. Насколько я вас понимаю, насколько могу судить по некоторым вашим публикациям, вы в принципе поборник идеи сообщества, корпорации. И этот корпоративный дух вы стремитесь поддерживать, по крайней мере в среде медиевистов, так? Эта среда, эта корпорация медиевистов– не тот ли самый уже упомянутый вами кружок…
П.У. …по самовосхвалению?
Л.Х. Да.
П.У. Давайте разделим понятия. Есть корпорация в средневековом смысле этого слова, сообщество равных, основанное на взаимной присяге, существующее для поддержки друг друга, для сохранения памяти друг о друге– очень важная функция, о которой мне доводилось писать. Можно говорить о корпорации в широком смысле слова, или о корпоративном духе. И есть сообщество, точнее– дисциплинарное сообщество. Эторазные вещи. Если мы их разведем, то все станет на свои места. Корпорация желательна, но не обязательна. Без нее можно существовать. А без сообщества– нельзя. Историк, творящий в вакууме, остается гениальным писателем в стол, писателем гениальных текстов, духовидцем, кем угодно. Для нормального функционирования историку нужны ученики, нужны читатели, как восхищенные, так и критики, оппоненты, иногда враги– это нужно историку. Это нужно сообществу историков, структуре этого сообщества. Видите, во мне жив дух структурализма, столь критикуемого сейчас. Все-таки я так воспитан, что ж тут скрывать. Поэтому мне кажется, если это прекратить, прервется существование сообщества, а затем умрет и корпорация.
Л.Х. А вам хотелось бы как представителю определенной структуры общаться с такими же «структурированными» представителями других сообществ историков? Допустим, вы представитель структуры медиевистов, а если речь пойдет о каких-то научных контактах, дискуссиях, сотрудничестве с историками Нового времени? Вам важно наличие этой структурированности или же это не принципиально?
П.У. Вообще-то, конечно, можно и без формальной структуры. «Главное, чтобы человек был хороший», это понятно.
Л.Х. А что значит «главное, чтобы человек был хороший»?
П.У. Главное, чтобы был человек, который был бы настроен на это взаимодействие. Нельзя вообще увлекаться корпоративизмом. Он ведь имеет оборотную сторону. Это замыкание в себе, это неприятие каких-то новых лиц, иногда настороженное, враждебное отношение к каким-то новациям, к людям, которые приходят извне. Все как в средневековой корпорации.
Л.Х. А если такие контакты случатся в будущем, как выглядел бы по крайней мере ваш, лидера структуры, настрой? Это вражда– соперничество, это желание обязательно одержать победу в споре или это искренний поиск истины?
П.У. Сейчас не на вопрос отвечаю, но иначе я забуду. Могут возникнуть разночтения с пониманием термина «корпорация». Во время проведения прошлогодней читательской конференции нашего журнала «Средние века» выяснилось, что для многих значение слова «корпорация»– сугубо негативное. «Ну какой же это корпоративный орган, наоборот, очень хороший журнал, вы же публикуете не только своих»,– говорили они. Это смешно, ведь говоря, что мы– корпорация, ы считали, что очень хвалим себя, а оказалось– ругаем. Для меня корпоративный дух еще вот в чем. Корпорация, по определению, сообщество равных. В отличие, скажем, от иерархии или от такого понятия, как «школа», где есть мэтр и есть его ученики, которые между собой тоже находятся в иерархическом соподчинении. Как только я пришел в ИВИ РАН212, не будучи учеником кого-нибудь из видных медиевистов, работавших здесь, я, совершенно не испытывая никаких угрызений совести, обращался к Е.В. Гутновой, Ю.Л. Бессмертному, А.Я. Гуревичу, А.Н. Чистозвонову, кому угодно, с любым вопросом. И ни разу не почувствовал в ответе настороженного отношения: «Кто ты вообще такой, что ты задаешь мне вопросы?» Как это иногда бывает сейчас, не знаю, почувствовали ли вы это на себе. Мэтры были людьми, уж совсем разными, но их объединяло унаследованное, возможно, от их учителей, помнящих еще старые университетские традиции, понимание того, что «даже кошка имеет право смотреть на императора». Мы здесь все равные. Ты имеешь право задать вопрос, я имею право показать, что вопрос мне не нравится, но я обязан на него ответить. Это принцип нормальной научной корпорации– сообщества формально равных личностей.
Теперь– насчет того, с кем лучше иметь дело в плане диалога, с отдельными людьми или с группами. Наверное, естественнее, если есть какие-то группы, которые проявляют интерес к сотрудничеству с другими группами. Но я такого пока не видел, потому что группы у нас, вероятно, и создаются, чтобы не сотрудничать с другими, а прославлять себя. Контакты происходят в отдельных случаях, как правило, при помощи некоторых любопытствующих людей, любящих задавать вопросы. Вот они-то и могут связывать между собой разные группы. Сотрудничества можно ожидать при организации больших конференций или при выработке важного решения, когда собрали представителей разных школ, разных групп, категорий– и вот решают какую-то проблему. Но я что-то не припоминаю таких примеров.
Л.Х. Но в любом случае это не соревнование?
П.У. О, агональный дух не исчез. Он существует. Мне кажется это не очень связано со школами, не очень связано с корпорациями, хотя и с ними тоже. Больше на индивидуальном уровне работает. Соревновательность присутствует во всех сферах академической жизни, не обязательно у историков и не обязательно у медиевистов.
Л.Х. Для вас принципиально важно в любом научном споре одержать победу?
П.У. Я не очень понимаю, что такое победа в научном споре. Но сам по себе научный спор– это очень хорошо.
Л.Х. Все-таки то, чем вы занимаетесь, то, чем занимается корпорация, представителем которой вы являетесь, то, чем занимаются современные российские историки,– это наука? История не утратила стандарта чистой научности? Вообще что это за тип знания– историческое знание?
П.У. Можно вернемся к научному соперничеству? Просто хочу привести пример.
Л.Х. Да, конечно.
П.У. У нас, как правило, соперничество научное сопровождалось очень сильным личным соперничеством и антипатией.
Л.Х. «У нас»– это у кого?
П.У. Ну, допустим, у нас в России. Б.Ф. Поршнев и А.Д. Люблинская не любили друг друга. С.Д. Сказкин и Б.Ф. Поршнев не любили друг друга. Кто больше не любил– вопрос. Споры были вроде бы научными. Но трудно представить, чтобы они совместно взялись писать какую-нибудь работу. Ну разве только по прямой команде из идеологического отдела ЦК213.
Я начал свое знакомство с XVI века (изначально занимаясь более ранним периодом) с рецензии на две книжки о Парижской католической лиге. Это книги Робера Десимона и Эли Барнави. Р. Десимон– ученик Дени Рише, «социологизирующего историка», придерживавшегося левых взглядов. Э. Барнави– ученик Ролана Мунье, консерватора во всех отношениях. Это две разные школы, два разных враждебных друг другу подхода. Книги Э. Барнави и Р. Десимона отражали почти полярную противоположность этих подходов, и их резкие споры выплеснулись на страницы журнала «Анналы»214. Ну, думаю я, все в порядке, вот и у них то же, что и у нас,– все узнаваемо, дерутся мэтры, дерутся их ученики. Каково же было мое удивление, когда через три года вышла совместная книга Э. Барнави и Р. Десимона. Причем они от своих позиций не отошли. Тем не менее это не помешало им вместе издать книгу, очень интересную. Это меня удивило– оказывается, так тоже можно. Если говорить об идеалах, то идеал, наверное, вот в этом. Любить друг друга не обязательно. Кстати, их учителя, Р. Мунье и Д. Рише, терпеть не могли друг друга. Много есть всяких анекдотов по этому поводу, не буду вас нагружать. Но когда Р. Мунье избрали академиком, комитет по сбору денег на шпагу Р. Мунье возглавил Д. Рише (у французов существует традиция собирать деньги на шпагу– академик сам ее не покупает, ему ее преподносят коллеги). Это– корпорация. И шахматисты– корпорация. Когда Г. Каспарова забрали в милицию, А. Карпов взял яблоки и отправился навещать своего извечного соперника215. Вот в этом для меня идеал– нормальные корпоративные или, если угодно, коллегиальные отношения: «Мы не любим друг друга, но в данном случае мы– коллеги».
Л.Х. У нас нет таких примеров, да?
П.У. Если покопаться, то найдутся, но они не на слуху. Ненависть заявляет о себе куда громче; коллегиальность ведет себя тише, но все-таки она существует. В учебниках историографии написано про то, что Шарль Сеньобос и Франсуа Симиан были непримиримыми идейными противниками. Но кто знает, что они вместе боролись против несправедливого осуждения Дрейфуса? Если я иногда пишу какие-то якобы историографические тексты, то хочу показать, что даже у злейших врагов были иногда вот такие общие чувства. Хотя часто говорят, что я стараюсь обелить негодяев, помирить палачей и жертв, дать приглаженную версию корпоративной истории216. Почему это так меня интересует? Наверное, потому, что коллегиальности и корпоративизма сейчас не хватает.
Вы меня спросили про науку, про научность истории. По-разному отвечают на этот вопрос. Между собой, собравшись, историки говорят: «Ну, какая это наука, это скорее искусство…» Так происходит в любой стране, не только у нас. Но если на этом основании попробовать сократить финансирование истории, то историки встанут и будут негодовать: «Сокращают расходы на науку! Даже в сталинские времена науку поддерживали, а сейчас вы хотите урезать бюджет, погубить науку– гордость нации, это недопустимо!» Ага, значит история все же наука.
Как я считаю? История– наука, но особая наука, не такая, как другие науки. Но тем не менее это достаточно строгое знание. В истории есть вещи, которые утверждать нельзя, которые можно опровергнуть. Поэтому литература не является наукой, раз нельзя опровергнуть «Белеет парус одинокий…».
Л.Х. На какие науки она больше похожа?
П.У. Есть германское разделение наук о духе…
Л.Х. Это все понятно, Павел Юрьевич, так все-таки история– это тип идиографическогоj знания, да?
П.У. Не знаю.
Л.Х. А те же германцы?
П.У. Да, германцы, но мне ближе спор Ш. Сеньобоса и Ф. Симиана. Ш. Сеньобос говорил, что история занимается единичными вещами, которые никогда не повторяются. А Ф. Симиан утверждал, что история будет наукой, когда перестанет заниматься единичным, а начнет заниматься повторяемыми вещами, регулярностями и т.д. Этот импульс, привитый в конце XIX– начале XX века социальными науками, очень важен для истории. Для меня он очень интересен, соблазнителен, открывает большие персективы. Поэтому говорить, что это только идиографическая наука, значит как-то обеднять ее. Ведь мы можем сравнивать, например, разные регионы, мы можем делать какие-то таблицы, мы можем проводить кросскультурный анализ, хотя и нельзя забывать, что при этом речь идет о единичных по природе своей вещах. Конечно, в идеале хорошо бы как-нибудь сочетать эти два подхода. Не удается сочетать гармонично– сочетайте негармонично, играйте на противоречиях. Но отказываться от поисков закономерностей все-таки не хотелось бы. История наука еще и потому, что она оперирует достаточно точными вещами, верифицируемыми и рационально постигаемыми. И сейчас я могу перейти к ламентациям по поводу современности.
Вполне возможно, что история «возвращается к Геродоту»217, возвращается к ситуации до XIX века, до того, как она стала сначала университетской дисциплиной, а потом и наукой. Потому что история точно же не была наукой в Средние века, история не стала наукой даже под пером гуманистов. История стала наукой после того, как сначала появились вспомогательные исторические дисциплины, а потом они соединились еще и с историописанием. В XVII веке они были до смешного разъединены. Великим историком считали красноречивого и морализирующего Ж.Б. Боссюэ, а историками невеликими считали «эрудитов»– людей, которые работали с источниками, которые, действительно, были историками в нашем сегодняшнем понимании. Но потом все-таки эти потоки соединились– красноречие, построение схем и работа с источниками. Это соединение в XVIII веке началось, в XIX веке закончилось. Но вполне возможно, что в конце XX– начале XXI века заканчивается, в свою очередь, этот «научный» период. Посмотрите на такую интересную проблему, как юбилеи городов, которые сейчас валом идут по России: Казани– 1000 лет, Уфе– 1500 или 2000 лет, я уже не помню, Костроме– 900 лет и т.д. Это идет сейчас везде218.
Л.Х. Я еще сюда добавила бы юбилеи адыгских аулов. У нас в Адыгее, например, есть 1500—2000-летние аулы…
П.У. Что это значит? По вполне понятным причинам, пока действует данная администрация, ей очень нужно, чтобы круглая дата пришлась на срок ее полномочий. Тогда это повод провести очень важные мероприятия с точки зрения истории-памяти: День города, День аула, День республики, что угодно.
Л.Х. Все дело в финансировании?
П.У. Это и финансирование. Но не только. Это запрос на идентичность. Нужно сказать, что мы– это мы, мы здесь, потому что еще с плейстоцена наши предки здесь жили, творили великую цивилизацию.
Л.Х. А это зачем?
П.У. Затем, что человеку хочется быть укорененным в истории. Это больше заметно в сопредельных странах, на Украине, например. Но сейчас это захлестнуло и Россию. Я думаю, что мы можем привести друг другу немало примеров, взяв их хотя бы из книжки Виктора Шнирельмана219 «Войны памяти»220. Но интересна реакция профессионального сообщества на это. Либо это вообще не замечается, либо воспринимается как досадная ошибка: «Ну, просто плохо люди работают с источниками». Либо же начинают подыгрывать этому. Надо найти монету, которая доказывает, что Казани на самом деле тысяча лет,– находят. Могилу Ивана Сусанина? Да легко. Нужен доисторический центр евразийской духовности? Вот вам Аркаим, пожалуйста. Находят ведь профессиональные историки, начиная играть в эту игру.
Л.Х. Надо найти большую берцовую кость– она же баранья лопатка, выброшенная после свадьбы, которая состоялась года четыре назад…
П.У. …и находим. И это проглатывается властью. Власть, между прочим, никакой самодеятельности в этом вопросе не допускает. Попробовали организовать юбилей Кенигсберга221– тут же из Москвы пришел очень жесткий по вполне понятным причинам указ: «Нет, вы– Калининград, и созданы вы в 1945 году, и не забывайте про это». Без санкции Кремля юбилеи и коммеморации не организуются. Не уверен, что в Кремле верят в эту берцовую кость искренне; но они считают, что это все нормально с политической точки зрения. А почему, собственно, они там должны отстаивать какую-то иную точку зрения? Им не за это деньги платят. Интересы научной объективности– забота Академии наук или всего сообщества историков. А если мы подобные удревнения признаем и проглатываем (иногда с энтузиазмом, но чаще без энтузиазма), то это значит, что история отказывается от своей критической функции. А отказавшись от нее, история сдает свои социальные позиции. Не в том дело, что конкретно против берцовой кости Сусанина или 1500-летия Уфы историки не борются (кстати сказать, началось-то все это с освященного нашими академиками празднования 1500-летия Киева, еще вполне при советской власти), а в том, что историки отказываются увидеть в этом процессе социально значимое явление, отказываются осмыслить его. А ведь критическое осмысление– главное оружие историка.
Почему так происходит– другой вопрос. Я просто фиксирую положение вещей. Вы спрашиваете, история наука или нет? Да, в определенные периоды она претендовала, и успешно, на роль науки. Была ли она на самом деле наукой или не была– не важно, но она претендовала на эту роль, она считала себя наукой. Сейчас, похоже, она готова сдать эту позицию.
Л.Х. Методологическая рефлексия по поводу своих занятий историку нужна?
П.У. Дозированно.
Л.Х. А как вы для себя в свое время определяли степень этой дозированности?
П.У. Я писал об этом в предисловии к своей книге222. Опасная вещь. Конечно, без методологической рефлексии историк обрезает себе крылья, обедняет себя, не понимая каких-то простых вещей. Но это, наверное, можно с наркотиком сравнить. А может быть, не с наркотиком, а с каким-то крепким чаем или привычкой к крепкому кофе. Это опасно, потому что, как правило, обратной дороги может и не быть. Человек перестает быть историком, стоящим на эмпирической тверди, и уходит в эти безумно интересные размышления о сущности исторической профессии…
Л.Х. И кем он становится?
П.У. Кем-то.
Л.Х. Кем?
П.У. Не знаю кем. Формально он остается историком, он защищает диссертации, обретая степени кандидата или доктора исторических наук. Но историк ли он теперь– большой вопрос.
Л.Х. У вас методологическая «метка» есть?
П.У. Нет.
Л.Х. Что это значит?
П.У. Значит, что ее нет.
Л.Х. Вы эклектик?
П.У. Рене Декарт придумал, что существует метод, что каждую проблему можно разрешить, имея в голове такой вот «рецепт»– раз и навсегда установленные правила мышления. Но я что-то не вижу ни одного удачного историка, который взял какой-то метод, использовал его и что-нибудь открыл при помощи этого метода. Это утопия. Этого никогда не происходит. Назовите мне такого человека.
Л.Х. В таком случае разговоры о методах, методологических принципах познания– это не более чем требования ВАК по поводу квалификационных признаков защищаемых кандидатских и докторских диссертаций?
П.У. Давайте ВАК пока оставим в покое, потому что тогда будет похоже, что это что-то, идущее извне. А это очень удобно сказать, что есть мы и есть они…
Л.Х. Почему же? Каждый историк, в том числе и тот, которому посчастливится написать, как вы говорите, настоящую книжку, когда-то в своей профессиональной биографии проходит через эти стадии, контролируемые ВАК…
П.У. …и ему нужно нписать раздел «методология».
Л.Х. Да.
П.У. Во-первых, довольно долгое время, после распада Советского Союза, этого раздела не писали.
Л.Х. Да вы что? Я не застала это время.
П.У. Я застал. Во-вторых, и в советское время это была формальность. И в несоветское это, к счастью, формальность. Все ссылаются на принцип историзма, который неизвестно что значит, и все… Вспоминается Савельич, который говорил Петруше Гриневу: «Плюнь, да поцелуй злодею ручку». «Плюнут, поцелуют злодею ручку», напишут и дальше живут своей спокойной полноценной жизнью. А то еще начинают выражать свою самобытность. Вот один уважаемый мной историк в автореферате написал: «Моим методологическим принципом является следование принципу Леопольда фон Ранке: я желаю знать, как оно было на самом деле». То есть он поставил точку, явно иронизируя, издеваясь над всеми методологическими исканиями; и вместе с тем– какие к нему могут быть претензии… Действительно, ведь есть метод Ранке. Пойдите скажите, что историк не хочет узнать, что было на самом деле (wie es eigentlich gewesen sein). И все это прошло нормально. И проголосовали, и утвердили. Так что это требование ВАК, требование внешнее, с ним легко разобраться.
Гораздо интереснее разобраться с требованием, идущим от тех, кто занят методологическими исканиями. Очень многие люди (их, наверное, как я писал, уже больше, чем людей, которые что-то пытаются высидеть в каких-то там архивах) уходят в эту сферу деятельности. Я преклоняюсь перед ними. Не перед всеми, конечно, но перед некоторыми. Это действительно интересно, это требует способности к абстрактному мышлению, очень большой эрудиции, умения разбирать эти тексты, владения этой терминологией, причем не на уровне попугая. Если реально человек этим овладел, это очень интересно. Но, наверное, как и всякая специализация, это ведет к замыканию в себе, к «искусству для искусства», причем остальные «реальные», «эмпирические» историки только мешают этому процессу или не понимают его. Таким образом, как я тоже уже многократно говорил, происходит отход этих разных групп некогда единого сообщества все дальше и дальше друг от друга. Вот что меня настораживает в этом процессе.
Л.Х. Как случилось, что постепенно в перечне ваших работ появились тексты по теме «историк об историке», «историк об историках», а потом вы стали уходить по этой тропе все дальше и дальше?
П.У. Вы очень проницательно нажимаете на самую болевую точку. Я предупреждал, что это «барса кельмес»: «Туда пойдешь– назад не вернешься»– в переводе с тюркских языков. Я очень боюсь, что меня занесет в эту сферу. Но мешает неразвитость абстрактного мышления– я могу думать об истории, лишь опираясь на конкретные примеры, так что теоретик из меня не получится. Но меня все просят: «Напишите о таком-то историке. А вот еще об этом. Это интересно, как он работает». И не замечаешь, как втягиваешься… А это забирает время, и остается все меньше и меньше сил на работу с материалом, с реальными людьми.
Л.Х. Павел Юрьевич, правда занятия историей мысли, биографиями историков– это очень увлекательное занятие?
П.У. Безусловно увлекательное.
Л.Х. И оно способно далеко завести?
П.У. Конечно. Ты начинаешь изучать этого человека. Это полезно. Ты находишь что-то созвучное себе, примеряешь на себя, как он это делал, начинаешь себя сравнивать. Это просто интересно и востребовано.
Л.Х. Вы ушли от вопроса о том, как позиционируете себя в методологическом плане.
П.У. Как получится– так и позиционирую.
Л.Х. А как вы позиционировали себя, будучи соискателем кандидатской или докторской степеней?
П.У. Это большая разница. Между этим двумя событиями прошло двадцать лет. Это происходило в разных странах.
Л.Х. Значит, вы все-таки не отрицаете, что контекст, эпоха оказывают на историка большое влияние? Вы были разным…
П.У. Еще бы.
Л.Х. А в чем это проявлялось?
П.У. Сейчас скажу. Когда я работал над своей кандидатской диссертацией (1970-е– начало 1980-х годов), я пытался двигаться в русле того, что потом назовут «третьими “Анналами”», не зная еще, что они «третьи “Анналы”». Я придумал для себя термин «университетская культура». Термин «менталитет»– я его использовал, когда его мало кто слышал; получил за это «по шапке», но все-таки включал в какие-то свои тексты.
Л.Х. Ваша кандидатская диссертация была защищена в 1980-е годы?
П.У. Моя диссертация защищена в начале 1983 года. Написана и представлена к обсуждению в 1982 году.
Л.Х. Статьи А.Я. Гуревича по проблемам менталитета– это вторая половина 1980-х годов.?
П.У. Нет-нет, это– 1970-е годы. Но в этом смысле А.Я. Гуревич на меня мало повлиял. Скорее у нас общий источник вдохновения– Жак Ле Гофф, Жорж Дюби. Если бы я в ту пору задался вопросом самоидентификации, то определил бы свою принадлежность к социальной истории вполне марксистского толка223. Я считал, что существует определенная социальная группа носителей университетской культуры, связанных с университетом, университетская среда. Они, в силу особенностей своего положения, своих социально-политических характеристик, вырабатывают особую университетскую культуру, в чем-то схожую с окружающей средой, в чем-то отличающуюся, теоретически связанную со средневековым городом, но все-таки отличную и от него. Черты этой культуры можно обнаружить в разных произведениях, написанных людьми, прямо или косвенно связанными с университетской средой. Пока все– в рамках теории отражения, в рамках «социальной истории культуры». Но потом достаточно быстро я с удивлением обнаружил, что «университетская культура» обладала способностью существовать автономно. Когда эпоха изменилась, должна была меняться и университетская культура, но она сохраняла свои черты вне жесткой зависимости от окружающего социального контекста. Это было для меня открытием, хотя я не знаю, заслуживает ли оно такого названия. В общем, эта нехитрая идея воспринята в историографии. Я могу назвать работы, в которых меня цитируют; к моему удивлению, термин вошел в научный оборот. Как можно методологически классифицировать этот подход? В 1983 году и в автореферате, и в самой диссертации я честно писал, что являюсь представителем марксистской историографии. Я и был представителем марксистской историографии, считая, что марксизм действительно дает возможность развивать эту идею.
Л.Х. А как соотносятся третье поколение «Анналов» и марксизм? По-моему, в советской историографии это было самое критикуемое поколение. Если мы принимали Ф. Броделя, М. Блока, то, что касается…
П.У. А следующее поколение уже критиковали за марксизм, за детерминизм. И любопытно, кстати, что марксист М. Вовель критиковал антимарксиста П. Шоню за излишний детерминизм, за то, что он выводит идеи культуры из экономического бытия– речь идет о работе Шоню «Смерть в Париже»224, посвященной эволюции отношения к смерти, отразившегося в парижских завещаниях. Вообще же между тремя поколениями «Анналов» и марксизмом была масса точек соприкосновения. Но марксизм имеется в виду не советского извода, а марксизм в широком смысле этого слова.
Л.Х. Я просто вспоминаю тексты советских критиков школы «Анналов»…
П.У. Извините, прерву… Была ли в моей работе доля конъюнктурности? Конечно, была. Я считал, что надо критиковать «буржуазную историографию», потому что таковы правила игры. Я ее критиковал– кстати, вполне искренне, потому что есть за что критиовать. Но сейчас, наверное, если кто-нибудь захочет под ту «эпитафию», которую вы зачитали в самом начале, заложить немного динамиту, пусть возьмет мой автореферат и выпишет оттуда пассажи, которые в общем сейчас будут смотреться как вещи малосимпатичные.
Л.Х. А докторская диссертация?
П.У. Докторская диссертация случилась намного позже, в 2000-х годах.
Л.Х. Она «зеркало» своей эпохи?
П.У. Она скорее «зеркало» состояния нашего института, где сложилась уникальная ситуация сосуществования различных направлений, тогда еще представленных очень яркими личностями. Конкурирующие направления вполне органично сосуществовали в одном здании.
Л.Х. На основе вашей докторской монографии, если она «зеркало» института, можно сделать вывод о том, что под крышей этого института обитают люди, в массе своей счастливо сочетающие занятия историей и рефлексию по поводу этих занятий. Или это ошибочное мнение?
П.У. Гуревич Арон Яковлевич и члены его семинара это сочетали вполне счастливо, во всяком случае, до поры до времени. Бессмертный Юрий Львович и члены его семинара тоже не были абстрактными теоретиками, хотя иногда им приходилось заниматься и этим. Я думаю, что этих примеров достаточно, но есть еще и другие. Если человек говорил какую-то глупость с точки зрения источников, если, например, у него была нерепрезентативная выборка или анахронизм в терминологии, ему давали за это по мозгам. Да и в нашем секторе то же самое.
Л.Х. Живые «иконы» корпорации есть?
П.У. Не хочу слово «икона», не надо «икон»…
Л.Х. Хорошо.
П.У. …потому что икона сразу побуждает к иконоборчеству, небезуспешному иконоборчеству… Выясняется, что при этом он курицу украл у кого-то, и тогда икону нужно выносить из избы и сжигать на помойке, что тоже неправильно. Поэтому не надо икон. Есть память корпорации. Есть коллеги, которые что-то сделали. Не надо творить себе кумиров– тогда не надо их будет свергать. Для памяти корпорации очень важно существование таких вот групп, таких людей, с которыми себя отождествляешь, перед которыми стыдно, потому что сейчас намного хуже, чем тогда…
Л.Х. Легко хранить память, когда человека нет. А вот те, кто рядом, те, с кем вы «здесь и сейчас»?
П.У. Не понял вопроса.
Л.Х. Гордость корпорации…
П.У. Есть ли такие люди сейчас?
Л.Х. Да.
П.У. Есть.
Л.Х. Кто?
П.У. Не скажу.
Л.Х. Почему?
П.У. Потому что если я скажу, что Х– гордость корпорации, то Y, которого я не назвал, обидится; а если я буду говорить, что Y– тоже гордость корпорации, тогда надо назвать всех остальных, и тогда будет не интервью, а телефонная книга.
Л.Х. От этого вопроса вы тоже ушли.
П.У. Я ухожу по вполне понятным причинам. Мария Васильевна Розанова, когда человек приносит ей стихи, говорит в таких случаях: «Извините, но я стихи живых поэтов не читаю». Вот и я могу сказать: «Давайте не будем говорить о живых». Будем говорить о тех, кого уже нет с нами, тогда уже проще, как-то спокойнее.
Л.Х. Один мой очень талантливый студент, знаток мировой художественной литературы, как-то сказал, что он живых, пусть даже классиков, не читает.
П.У. Вот-вот… Нет, я все-таки читаю «живых», но выстраивать иерархии… Потом я ему сделаю комплимент, а он что-нибудь про меня напишет плохое. Получится, что я в дураках.
Л.Х. Кем труднее быть– вузовским преподавателем или «академиком»?
П.У. Работником академического института?
Л.Х. Да, ученым-исследователем.
П.У. Не очень корректный вопрос, потому что чистых форм нет ни там, ни там. И академические работники очень разные, и вузы разные. Одно дело, кафедра истории Средних веков МГУ во главе с Сергеем Павловичем Карповым. Другое дело… Нет, не буду перечислять кафедры, чтобы не обвинили в снобизме.






