Между «ежами» и «лисами». Заметки об историках Уваров Павел
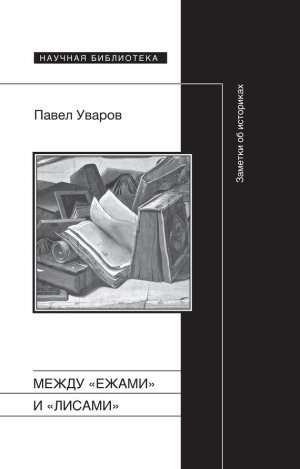
Еще в 1984 году вышла работа Франсуа Досса «Histoire en miettes» («История в осколках»), где говорилось, что никакой «тотальной истории» не получается, а единая «территория историка» распалась на массу мелких изолированных участков. Этому было много объяснений. Одно из них– чисто профессиональное. Например, А.Я. Гуревич, занимавшийся историей крестьянства на севере Европы, понял, что для создания работающей, недогматической социальной истории необходимо обратиться к мировосприятию средневекового человека. В конце концов его поиски приводят к «Категориям средневековой культуры» (1972), и затем он публикует еще много книг на эту тему, в глубине души по-прежнему полагая, что эти исследования необходимы для понимания средневекового общества в целом. Он снискал себе славу, особенно у молодых историков, которые уже могли не тратить время на изучение прекарных грамот или аграрных распорядков, а сразу занимались средневековой культурой. То же можно сказать и о Ле Руа Ладюри– те, кто шли за ним, уже не тратили время в архивах, готовя что-то вроде «Крестьян Лангедока», они сразу изучали ментальность или сексуальность средневекового человека. Это было вполне самоценно, и они не считали необходимым и вообще возможным переходить к социально-экономическим проблемам. Общество как целое не было предметом их интересов.
Другое объяснение относится скорее к социологии науки. В науке должна происходить смена поколений, что всегда вызывает известные трудности, особенно если старшее поколение уходить не собирается. Когда ученых много и становится все больше, а мест на всех не хватает, начинается борьба за выживание. Так, например, Жорж Дюби в 1950—60-е годы ввел термин «феодальная революция», при помощи которого объяснял, почему Запад так рванул вперед начиная с XI в века.256 Эта теория получила широкое распространение: она многое объясняла и была вполне удобна для преподавания. В конце 1980-х годах подросло новое поколение медиевистов, которое начало свергать с пьедестала «устаревшую» теорию «феодальной революции», говоря, что она многое упрощает, недостаточно подкреплена источниками; что термины, на которых эта теория основывалась, на самом деле датируются иной, более ранней эпохой. Так постепенно эта теория утратила привлекательность. Однако новой теории создано не было, а возникло несколько частных и не очень связанных друг с другом объяснений того, что происходило на Западе после распада Каролингской империи.
Вернемся к объяснению причин Религиозных войн. Многие по-прежнему искали их социальные интерпретации, но каждый выдвигал свою частную версию. Однако все более привлекательными становились призывы объяснять религиозное религиозным, а не социальным. Не так уж важно, какие социальные и экономические причины побуждали человека делать свой религиозный выбор. Ведь часто бывало так, что, когда ему говорили: отрекись от своего учения или ты погибнешь на костре, он выбирал второе. Причем тогда здесь социальные интересы, причем здесь экономика? Важен лишь внутренний мир человека, его страхи и надежды. И вот появляются работы Жана Делюмо, а позже и Дени Крузе, объясняющего религиозное насилие XVI века ростом отчаяния, порожденного страхом приближающегося Светопреставления. Нужна ли для таких интерпретаций социальная история?
Нельзя сказать, что с этого момента все начали объяснять причины Религиозных войн именно таким образом. Прежние концепции быстро не исчезают, люди продолжают разрабатывать их, но мода на них проходит. Хотя теперь мы знаем такое явление, как винтаж: старое не стоит списывать со счетов, оно может обрести вторую жизнь.
Важно отметить, что происходила не просто смена одних масштабных концепций другими. Происходило дробление «территории историка». Каждое направление достаточно быстро становилось самоценным и самодостаточным. Если гендерное направление первоначально было призвано более полно объяснить причины, например, Религиозных войн или революции 1917 года в России (трудно отрицать, что женский вопрос сыграл у нас важную роль), то достаточно быстро гендерной историей начинают заниматься потому, что на это есть спрос: открываются новые кафедры, даются исследовательские гранты. Или, например, столь многообещающие количественные методы. Они становятся все более изощренными и применяются не столько для выявления взаимосвязей исторического процесса, сколько для доказательства собственной виртуозности.
И так с 1980-х годов происходит почти со всеми отраслями исторического знания. Но, возможно, я слишком увлекаюсь частными объяснениями, тогда как причины могут быть и вполне онтологическими: изменяется мир, в прошлое уходит национальное, в прошлое уходит то, что называют «большими нарративами». Ну, например, история классовой борьбы. Кого сейчас занимает история классовой борьбы? Да и история национального государства– главный сюжет, занимавший французов по меньшей мере сотню лет,– начинает уступать историям меньшинств, локальных групп, отдельных семей.
Успехи исторической антропологии объяснялись не только тем, что она заимствовала антропологические (т.е. этнологические) методы исследования, но еще и тем, что в центре ее внимания оказывался человек. Прежнюю социальную историю упрекали в том, что человек в ней выступал по большей части как винтик больших социальных механизмов и процессов. Но вскоре историческую антропологию и историю ментальностей начинают критиковать за то же самое. Есть ментальности– коллективные представления, есть структуры повседневной жизни, согласно которым люди прошлого жили так-то и чувствовали то-то. Но где сам человек во всей своей индивидуальности, где его свобода выбора? Соперничество между исторической антропологией и микроисторией было перенесено и на российскую почву в виде полемики между двумя ежегодниками, издаваемыми в Институте всеобщей истории,– «Одиссей. Человек в истории» и «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории». В 1998 году в Москве вышла статья Михаила Бойцова «Вперед, к Геродоту» (потом она перепечатывалась неоднократно, был даже юбилей этой статьи в 2008 году), где автор, эпатируя публику, утверждал, что закончилась история образца XIX и ХХ веков, то есть та история, которую изучали, чтобы найти какие-то закономерности, позволявшие предсказывать будущее. Но ведь Геродот и Плутарх не для этого писали историю. «Прогностическая функция» истории была связана с «великими нарративами»– рассказами о национальных государствах, классах и сословиях, которые и были главными действующими лицами истории. Теперь же, в период глобализации, постиндустриальное общество не нуждается в таких рассказах; читателей занимает соразмерная им история– история отдельных людей, их чувств, симвоов. На Бойцова ополчились тогда многие. Он лишь посмеивался и продолжал время от времени публиковать свои провокативные декларации, что не мешало ему выступать с достаточно широкими обобщениями; например, он выпустил очень интересную книжку о репрезентации власти, о церемониях, обрядах. Кстати говоря, последняя четверть века продемонстрировала нам триумфальное возвращение политической истории. Когда-то Жак Ле Гофф не включил этот термин в словарь «новая история» как безнадежно устарелый, но в 1990-х годах сам выпустил объемную биографию короля Людовика Святого. Правда, это была уже другая политическая история, с учетом ментальностей, с учетом символики власти– процессий, церемоний, языка описаний. Вообще, о «языке власти» пишут сейчас очень многие. Как правило, эти историки уверены в том, что они нашли новый нетрадиционный подход, но на самом деле их так много, что оригинальным исследователям впору ходить строем.
Что же касается судьбы прежних больших сюжетов социальной истории, то мне трудно удержаться от цитирования книги Николая Копосова со звучным названием «Хватит убивать кошек!»: «Кризис истории связан прежде всего с распадом основных исторических понятий– базовых категорий нашего исторического мышления. Идеи прогресса, цивилизации, культуры, государства, общества, классов и наций перестали казаться самоочевидными и утратили способность организовывать социальный опыт, в том числе и опыт исторического исследования. В театре современной микроистории классы, государства и нации размытой тенью появляются на заднике сцены. Их выход к рампе вызывает свист в зале»257. Красиво сказано. Но, на мой взгляд, сказано не совсем верно. Достаточно посмотреть хотя бы на Россию или на Украину, и язык не повернется сказать, что национальное не интересует историков. Это отнюдь не только восточноевропейская ситуация.
Но все же, если говорить о традиционных сюжетах социальной истории, не произошло ли с ней за последнюю четверть века того, что некогда случилось с королем Лиром, все раздавшим дочерям и оставшимся ни с чем?
Из социальной истории когда-то выросли гендерная история, историческая антропология, история ментальностей, микроистория, интеллектуальная история и многое-многое другое. А что осталось у социальной истории сегодня? Изучение классов и сословий? Ну вообще-то такие книжки продолжают выходить, и многие историки работают так, как будто бы ничего не произошло за последние лет тридцать. Хотя трудно сказать, что именно они сегодня являются главными «звездами» историографии. Задавались ли в этот период историки вопросами о социальной обусловленности крупных исторически событий? Некоторые задавались. Но вот ответы на эти вопросы неожиданны. Выясняется, что Французская революция не была ни буржуазной, ни антифеодальной, ни даже антиабсолютистской. А вот Английской буржуазной революции точно не было, как не было и революции Нидерландской.
Как говорил персонаж одного из киевских авторов, «чего ни хватишься, ничего у вас нет». С социальными причинами Октябрьской революции тоже возникли какие-то сложности. Мало кто ее объясняет как результат борьбы рабочего класса и крестьянства с эксплуататорскими классами. Возникают сложности и с интерпретацией последней революции– распада СССР– как результата действия социальных процессов. Егор Тимурович Гайдар писал, что Советский Союз распался из-за резкого изменения цен на нефть, вызванного тем, что американцы сумели договориться с Саудовской Аравией и резко опустили планку. И все. Здесь нет места социальным процессам. А Борис Олейник считал, что Советский Союз распался, потому что Горбачев– антихрист, о чем свидетельствует его родимое пятно258.
Нужны ли тогда вообще понятия старой социальной истории, не говоря уже об истории социально-экономической? Интересны ли они кому-нибудь? В 2005 году по инициативе А.Я. Гуревича в Институте всеобщей истории провели круглый стол «Феодализм перед судом историков»259. Сама идея его проведения и подготовки вызвала массу скепсиса– ну кто на него придет, раз понятие «феодализм» настолько устарело, никому не нужно, никто им не хочет заниматься, да и вообще пора забить осиновый кол в его могилу. Однако в зал набилось более ста человек. Вдруг выяснилось, что это очень востребованный термин, все хотели знать, что же такое феодализм, как его понимают сейчас. Весь вопрос в том, готовы ли сегодняшние медиевисты искать на него ответ.
Другой пример. В 2010 году вышла книга Бориса Миронова «Благосостояние населения и революция в имперской России»260, с большим количеством таблиц и графиков. Миронов– один из самых известных специалистов по имперской России, автор книги «Социальная истории России имперского периода», хорошо встреченной на Западе и весьма неоднозначнов России. В новой книге он цитирует моего любимого Ле Руа Ладюри, который в 1969 году опубликовал работу, где исследовал изменения физических параметров призывников на протяжении всего XIX века. Для России подобных источников сохранилось много, особенно для конца XIX– начала XX века. Физические данные рекрута или призывника зависят и от пренатального периода, от того, как питалась его мать в период беременности, и от того, как питался он сам в самом нежном возрасте. Анализ массового материала показывает, что физические данные русских рекрутов улучшаются– год от года они становятся выше и крепче. Это становится более заметным с 80-х годов XIX века, то есть это поколение, которое родилось после отмены крепостного права. Такая тенденция продолжалась до 1914 года Миронов, ученый с базовым экономическим образованием, конечно, проверяет эти наблюдения другими выкладками. У него есть своя общая концепция, и он не скрывает своей задачи– «нормализовать» историю России, показать, что Россия развивалась в одном направлении с другими европейскими государствами, в стране шел процесс модернизации, конечно, окрашенный в специфические краски, но в целом вектор прогрессивного развития не вызывает у него сомнений. И накануне революции не было никакой «мальтузианской петли», аграрного кризиса, вымирания деревни, вопреки писаниям тех, кого Миронов называет «большевистскими авторами». Он, кстати, оспаривает справедливость обвинений министра финансов Вышнеградского в «человеконенавистническом» лозунге, выдвинутом им перед угрозой голода 1891 года: «Недоедим, а вывезем!» Неурожаи и недоедание были, но не шли ни в какое сравнение с теми, что обрушатся на СССР в 20-е, 30-е и 40-е годы. Прочитайте эту книгу.
Кстати, на обложке первого издания– репродукция картины Бориса Кустодиева «Купчиха за чаем», чтобы было сразу видно, как жил российский народ261. Правда, Кустодиев рисовал эту купчиху в 1918 году, выражая тем самым ностальгию по минувшему миру. Но, с точки зрения Бориса Миронова, не было для русской революции социально-экономических причин, неразрешимых противоречий. Революция была следствием борьбы за власть между разными группами элит– или между властью и контрэлитой.
Лежит ли работа Миронова в области социальной истории? Безусловно, несмотря на то что ответы на традиционные вопросы у этого автора выглядят отнюдь не традиционно. Но, может быть, перед нами один из последних воинов на поле социальной истории (он начал публиковать свои работы свыше сорока лет назад) и оттого среди его противников много историков с богатым советским опытом?
Но самое интересное, что наиболее ожесточенными критиками концепции Миронова оказываются сравнительно молодые исследователи, связанные с издающимся по-английски журналом «Клиодинамика / Сliodynamics» (надо сказать, что это один из редких примеров востребованного во всемирном масштабе «продукта» российских современных историков). Среди них– Сергей Нефедов из Екатеринбурга, выступающий как специалист по долговременным демографическим процессам. Он тоже использует в своих исследованиях множество таблиц, рисует кривые Гаусса, гиперболы и параболы и приходит к совершенно противоположному вводу: о наличии в пореформенной России ярко выраженного аграрного кризиса, вызванного перенаселением. Этот сюжет, казалось бы, традиционной социально-экономической истории порождает сегодня полемику, и какую бурную! Интересно, что один из заголовков ответной реплики Миронова: «Ленин жил, Ленин жив, но вряд ли будет жить»262.
Сергей Турчин (главный редактор «Клиодинамики», работающий в США), втягиваясь в полемику, говорит, что пореформенная Россия столкнулась не с «мальтузианской петлей» избыточного роста крестьянского населения, а со структурно-демографическом кризисом элит, с перепроизводством элиты. На примерах многих аграрных обществ Средневековья автор прослеживает циклы, венцом которых являются подобные кризисы,
Коллектив таких «макроисториков» состоит из весьма интересных людей. Не могу сказать, что они существенно влияют в данный момент на климат профессионального сообщества историков в России, но они весьма активны и неплохо известны в англоязычных странах, причем выступают с самыми неожиданными теориями, относящимися к самым разным регионам, периодам, проблемам. Но их объединяет, помимо использования математических методов, вера, что в истории действуют законы и что исследователи призваны устанавливать корреляции между различными сериями явлений.
Одна из книг этого направления так и называется: «Законы истории. Математическое моделирование развития мир-системы»263. Можно сказать, что эти авторы так или иначе стилистически связаны с «клиодинамикой». Точно так же, как и коллектив трех авторов, в котором к арабисту А.В. Коротаеву присоединяются В.В. Клименко, введший в оборот термин «историческая климатология», и специалист по синергетическим подходам Д.Б. Пруссаков. В своей книге264 они объясняют ни много ни мало, почему возник ислам. А возник он, потому что в Индонезии в VI веке произошло крупное извержение вулкана, о котором мы можем судить по данным гляциологических наблюдений в Антарктике. Облако от этого вулкана пронеслось через Индийский океан и накрыло Аравийский полуостров. Там резко изменились экологические условия, изменился климат, ухудшились условия для хозяйствования. Демонстрируя тезис о том, что история далека от линейности и одномерности, арабы перешли не к более сложной, а к более простой, племенной форме организации. Такая система была более экономичной. Но нужна была координация на межплеменном уровне (улаживание конфликтов, контроль над караванными путями, ответ на внешнюю угрозу со стороны могучих соседей– Ирана, Византии, Аксума). Роль координаторов брали на себя пророки. Одни были в большей мере связаны с иудаизмом, другие с христианством, третьи с зороастризмом или с манихейством. Но один из них, Мохаммед, оказался более независим от чужих религий и сумел добиться успеха.
И это только один из многочисленных примеров подобных подходов.
Можно ли говорить об успешном возвращении макроистории, той самой «истории без людей», истории, ориентированной на поиск объективных закономерностей, истории, базирующейся на междисциплинарном синтезе?
Можно, но с известной осторожностью. Книга «Возникновение ислама» вышла в начале 2007 года, но на нее так и не появилось ни одной рецензии– ни хвалебной, ни ругательной. Востоковеды ее просто не заметили. Историки на подобные книги смотрят в лучшем случае недоуменно: какие такие историческая климатология, структурно-демографические теории, клиодинамика, политическая антропология, кросскультурный анализ? Откуда они берут свои данные, не слишком ли много там допущений и экстраполяций?
Но сдвиг есть. Его явное доказательство– издание перевода книги микробиолога по образованию Джареда Даймонда «Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих обществ»265, за которую автор получил в 1997 году престижную Пулицеровскую премию в США. Через 13 лет ее наконец перевели на русский язык. Она обречена на шумный читательский успех, тем более что одновременно появилось два перевода этой книги, а сразу за этим– и перевод новой работы Даймонда «Коллапс»266, посвященной экологическим катастрофам в истории. Труд Даймонда– это скорее макроистория, чем «микро», хотя персонажи книги– микробы. Это история человечества, написанная с позиции этих микроорганизмов. Но перед нами труд, который объясняет многое– неолитическую революцию, распространение письменности, эволюцию государственных форм, технический прогресс. Центральная идея заключается в том, что глобализация в рамках Старого Света (Евразия и Северная Африка) произошла много тысяч лет назад, когда начался неспешный обмен между регионами– технологиями, новыми видами одомашненных растений и животных, но главное– бактериями. Обмен этот таил в себе много бед, чреват был пандемиями, но в итоге принес жителям громадного региона бесценный дар– способность вырабатывать и передавать по наследству антитела, гарантирующие устойчивость к большинству инфекций. Именно этим объяснятся быстрая депопуляция регионов, куда, начиная с XVI века, высаживался белый человек.
Трудно назвать такие книги исследованиями по социальной истории. Но налицо поиск закономерностей, стремление ставить глобальные вопросы и искать на них ответы, черпая материал из кладовых иных наук, организуя настоящий междисциплинарный диалог. Отсюда– появление и, главное, читательский успех подобных «всемирных» трудов. Так, например, книга математика Дэвида Козандея, в которой он задумывается о «Секрете Запада», пытаясь найти геополитические и социальные объяснения взлета европейской науки. Вышла книга под редакцией французского историка Патрика Бушрона «Мировая история XV века». И опять– шумный успех. В этом свете и проект написания новой «Всемирной истории», которым занимается Институт всеобщей истории РАН, выглядит сам по себе не таким уж и анахронизмом.
Значит ли это, что «праздник непослушания» закончился, все возвращается на круги своя и мы вернемся к «тяжелой материи социального»? Не совсем. Во-первых, потому, что вышеназванные подходы в отличие от «классической» социальной истории предпочитают как раз «внешние» объяснения– изменение климата, распространение микробов, комбинирование внешнеполитических факторов, соотношение плодородия почвы и демографического на нее давления. «Внутренние» причины присутствуют, но скорее как некоторый дополнительный, хотя и немаловажный фактор. Для многих средневековых стран (исламский мир, Китай) перепроизводство элиты было повторяющимся фактором. Среди элиты было распространено многоженство, а простолюдины не могли себе этого позволить. Когда ситуация уже соответствовала соответствующей формуле «один с сошкой, семеро с ложкой», начинались междоусобицы и восстания, чем пользовались новые завоеватели267. В католической Европе все было иначе. Значительную часть элиты составляло духовенство, дававшее обет безбрачия (целибат), для остальной знати действовала строгая моногамия (внебрачные дети были, но они лишались права наследования), причем и среди законных детей наследство не делилось поровну. Львиная доля доставалась одному из сыновей, чаще– старшему (майорат), иногда– младшему (минорат). Это сдерживало естественный рост числа «тех, что с ложкой».
Во-вторых, возвращаясь к проблемам социальной стратификации, многие историки делают это по-новому, стремясь не упустить из виду активную роль личности. Вот пример из моего собственного исследовательского опыта. Работая с нотариальными актами XVI века, я убедился, что вопреки нашим представлениям о традиционном обществе как жестко сословном, где «всяк сверчок знал свой шесток», человек мог иногда довольно существенно «подправлять» представления о своей социальной идентичности. В одном акте он именуется дворянином, а в другом– парижским буржуа, потому что ему так было выгоднее. Конечно, он не был абсолютно свободен в выборе социальной личины, человек должен был убедить своих контрагентов, что он– именно тот, за кого себя выдает. В результае его социальный статус зависел от сложных взаимодействий с другими людьми. Социальные структуры видятся теперь не столько в эссенциалистском, сколько в конструктивистском ключе. Для их анализа нужен учет персональной стратегии, человеческих отношений, роли языковых практик. Очень важно здесь слово «перформативность», которое мы пока не приспособились с ходу переводить на русский язык. «Как вы судно назовете, так оно и поплывет»– грубо говоря, в этом и есть суть перформативности. Речевой акт из простого средства коммуникации, отражающего некую «объективную реальность», становится структурообразующим элементом социальной реальности. И социальная история на новом этапе не может не учитывать эту важнейшую роль языка.
Роль больших групп в социальных процессах неопровержима, как неопровержимо и определяющее влияние этих социальных процессов на общество. Но при описании социальных групп важно учитывать не только их материальные обстоятельства, но и культурный код, объединяющий людей, даже если они являются горячими противниками друг друга. Важно не только объяснить, но и понять внутреннюю мотивацию человеческих поступков. Для этого надо взглянуть на мир глазами людей той эпохи. В отношении все тех же причин Религиозных войн– на призыв объяснять религиозное религиозным– следует теперь ответ: «Это такой же анахронизм, как и объяснять религиозное через социальное». Ведь в то время вера никак не была отделена от общества– никто из людей, живших в XVI веке, ни католик, ни протестант, даже в самом страшном сне не мог представить и себя, и общество вне Веры. Понятия «общество» и «религия» появятся не ранее того момента, как распадется доселе единственно мыслимая форма человеческого существования– единая Церковь (не в смысле здания или организации, но как «община верных»). А этот момент в XVI веке еще не настал.
Итак, видно, что сюжеты социальной истории и даже «большие нарративы» вновь возвращаются. Но возвращаются обогащенными. Путь исканий последних тридцати лет был не напрасным– и историческая антропология, и изучение дискурсивных практик, и гендерные исследования или, например aging (изучение пожилых людей)– конечно, очень важны. Без этого нельзя. Но при условии, что это в конечном счете разрабатывается не только как «вещь в себе», но еще и для обогащения нашего понимания социальной истории.
Лекция, прочитанная 17 февраля 2010 года в Киеве, в Доме ученых, в рамках проекта «Публичные лекции “Політ.UA”».
Информационно-политический канал «Полит.ру» давно уже организует публичные лекции. В 2009 году я выступал в их лектории, рассказывая про рождение университетской корпорации. Вскоре после этого мне предложили выступить с лекцией на их киевской площадке– «Полит.уа». Выступление состоялось в феврале 2010 года. в Киевском доме ученых Академии наук Украины. После него была довольно-таки забавная дискуссия, которую я не включил в нынешнюю публикацию. Однако с ее стенограммой можно ознакомиться: http://polit.ru/article/2010/03/23/history/. Я снял также пассаж из начала лекции, где рассказывал о работе над подготовкой «Всемирной истории». Наши тома изданы, и теперь вполне очевидно, что социальная история дала удобный ракурс для сопоставления между собой разных цивилизаций и разных эпох.
К тому времени я уже несколько лет выступал в роли защитника социальной истории. И даже словосочетание «реванш социальной истории» уже использовал. Разбирая новые работы по истории средневековых университетов, я вдруг заметил, что они могут быть охарактеризованы скорее как «социальная история интеллектуальной сферы», чем «история идей» или «история институтов» (см.: Уваров П.Ю. Университетская среда и политическая власть в Европе XII—XIII вв.– реванш социальной истории // Политическая культура в истории Германии и России. Кемерово, 2009. С. 175—190).
По прошествии пяти лет возвращение социальной истории представляется свершившимся фактом. И если мои декларации не обязательно брать на веру, то специальный выпуск журнала «Анналы» выглядит уже более весомым свидетельством интереса к, казалось бы, устаревшим проблемам (Annales: Histoire, Sciences sociales. N4 / 2013. Statuts sociaux).
МЕЖДУ «ЕЖАМИ» И «ЛИСАМИ»:
ВОСПРИЯТИЕ ТВОРЧЕСТВА
ЛЕ РУА ЛАДЮРИ
В СССР И В РОССИИ
Трудно сказать, что именно хотел сказать Архилох, обогатив западную культуру оппозицией: «Лис знает много, еж– одно, но важное», но эта классификация неоднократно применялась по отношению к творческим людям. Мы можем ее найти у Исайи Берлина268, для которого лисами были Шекспир и Пушкин, а «ежами»– Достоевский и Ницше; и у Сержа Московичи, для которого эта пара зверей символизирует два лика исследователя269. Пока ученый находится в поиске, он рыщет, не разбирая дороги, хитрит с методами, произвольно комбинирует разрозненные факты, поскольку главное для него– схватить добычу. Но все меняется, когда исследователь решит взяться за объяснение массы полученных результатов. Он, как еж, сворачивается в клубок и выпускает иголки, отвергая все, что противоречит его собственному мнению и ущемляет его. Свои результаты он рассматривает в контексте одной дисциплины и, исходя из единственной причины, ищет ключ к загадкам. С точки зрения Московичи, каждый исследователь временами предстает в одном из этих обликов. И все же трудно отрицать, что некоторые из нас в большей степени ежи, а другие– лисы.
Эмманюэль Ле Руа Ладюри– классический «лис»: обладая завидной исторической интуицией, он не просто умеет находить материал в самых неожиданных местах, но всю жизнь смело вторгается на новые территории, прокладывая путь для будущих любителей междисциплинарных связей. Он один из первых всерьез занялся историей климата, соотнеся данные хроник и налоговых описей с данными гляциологов, и даже сам, обзаведясь бензопилой, валил деревья на своем участке, чтобы постичь тайны дендрохронологии. Он был сторонником применения радиоуглеродных методов датировки и в команде с физиками и химиками при помощи изотопов пытался определить происхождение серебра испанских монет, чтобы понять, когда именно серебро перуанских рудников в массовом порядке хлынуло в Европу. Был также энтузиастом количественных методов, но вместе с тем его можно причислить к числу «отцов-основателей» исторической антропологии. А вот в личине «ежа» его трудно себе представить. Недаром в советские времена его у нас объявляли противником исторического монизма и ярким представителем теории многофакторности. Трудно было представить, что, собрав в одну кучу всю свою добычу, он создаст на ее основе некую «теорию всего» и затем, ощетинившись, будет оберегать свою стройную универсальную методологию.
Таким вот «лисьим» характером этого историка и объясняется название недавней конференции, посвященной его 80-летию,– «История, экология и антропология. Творчество Эмманюэля Ле Руа Ладюри перед лицом трех поколений исследователей»270. Состав выступавших в роскошном зале фонда Зингер-Полиньяк напоминал Ноев ковчег: специалисты по истории климата, гляциологи, демографы, виноделы, специалисты по антропометрическим исследованиям, по исторической географии, аграрной истории, истории институтов, знатоки Ренессанса и любители травелогов, исследователи Религиозных войн и придворной культуры, специалисты по революционному террору. Но их соединение в одном месте оказалось вполне органичным, потому что всеми этими дисциплинами в разное время занимался юбиляр, который на протяжении двух дней конференции сидел в президиуме, сопровождая буквально каждый доклад своими комментариями271, как всегда, непредсказуемыми и парадоксальными.
Подзаголовок конференции предполагал участие трех поколений историков– современников Ле Руа Ладюри, его учеников и учеников его учеников. Кроме того, одна из секций была посвящена восприятию его идей в разных странах, в частности– в Италии, Польше и России. Рассказать о рецепции творчства юбиляра в нашей стране пригласили меня, и я с радостью согласился, подготовив текст, который теперь предлагаю вниманию читателей.
Но чтобы показать французам, какими путями шло знакомство российской аудитории с творчеством Ле Руа Ладюри, мне пришлось объяснять некоторые вещи, на мой взгляд, совершенно банальные. Я даже думал опустить эти пассажи в русском варианте текста. Однако, к моему удивлению, выяснилось, что именно они-то и стали откровением для французских коллег, которые потом признались мне, что совершенно не представляли себе условий работы советских историков. И я подумал, что если во Франции три поколения историков работают, хотя и по-разному, но примерно в схожих условиях, то в нашей стране уже выросла генерация, для которой особенности существования советской науки выглядят такой же экзотикой, как и диспуты средневековых схоластов. Поэтому я оставил текст без существенных изменений.
Работы Э. Ле Руа Ладюри получили первый отклик в СССР на рубеже 1960—1970-х годов. Надо напомнить, что советские историки обладали рядом важных особенностей. Прежде всего, бросается глаза, что людей, занимавшихся историей не своей страны, а историей Запада (особенно Франции) периода Средних веков и Нового времени, было неожиданно много и они пользовались большим престижем среди прочих коллег. Еще до революции 1917 года некоторые отличившиеся в этой области российские историки завоевали высокую международную репутацию, в особенности те, кто занимался историей крестьян– И.В. Лучицкий, Н.И. Кареев, М.М. Ковалевский, П.Г. Виноградов, Д.М. Петрушевский. Уроженцам страны, где аграрный вопрос был необычайно острым, было что поведать западным коллегам об аграрном строе Средневековья и Старого порядка.
После революции эта традиция оказалась прервана; но когда в середине 1930-х годов. началось восстановление системы исторического образования, в ней достаточно важное место заняла медиевистика, чья хронологическая граница была теперь поднята вплоть до эпохи «буржуазных революций». Поле медиевистики лучше всего подходило для демонстрации преимуществ марксистского метода исторического познания. Только советская историография, вооружившись единственно правильным учением, могла ухватить суть средневекового общества, раскрыв «основной закон феодализма». Сделать это было проще на западном примере, поскольку он был лучше изучен и лучше освещен в источниках. Обретенная марксистская методология давала ключ к правильному истолкованию истории всех остальных регионов мира– истории, безнадежно искаженной буржуазной наукой.
Оставлю в стороне особенности работы советских медиевистов: неизбежно-агрессивный тон полемики, в особенности– полемики с западными коллегами (методологий и научных позиций могло быть только две: правильная, то есть марксистская, и все остальные), невозможность командировок в изучаемые страны, страх репрессий и т.д.
С середины 1950-х годов «высокий сталинский стиль» понемногу стал смягчался– стало возможным участие в международных коллоквиумах, из лагерей возвращались уцелевшие историки, было дозволено и цитирование зарубежных авторов без обязательного эпитета «реакционный буржуазный историк». В 1960-х годах стало допустимым говорить о некоторой вариативности трактовки прошлого, разумеется, в рамках единой марксистской концепции исторического материализма. Но после отставки Хрущева в 1964 году началось «ужесточение», ставшее особенно заметным после Пражской весны. В журнале «Коммунист» появилась статья, где обличались некоторые советские историки, в основном античники и медиевисты, увлекшиеся модными течениями структурализма. Многие ждали новой волны арестов.
И вот в этих условиях А.Д. Люблинская и В.Н. Малов пишут развернутую рецензию на объемистый и, пожалуй, самый значимый труд Ле Руа Ладюри– «Крестьяне Лангедока»272. Эта рецензия носила положительный, местами даже восторженный характер. А.Д. Люблинская была наследницей старой петербургской школы, прекрасным знатоком источников и яростным противником схем Б.Ф. Поршнева. Ее ученик В.Н. Малов, ответственный секретарь редакции «Средних веков», в ту пору увлекался применением математических методов в исторических исследования. Помимо работ по палеографии он интересовался динамикой хлебных цен при Старом порядке. И хотя с некоторыми положениями Ле Руа Ладюри они были не согласны– например, с отсутствием полноценного анализа социальных структур сельского мира, с увлечением психоанализом, способным превратить историка в психиатра,– в целом рецензенты пришли к выводу, что книга «рекомендуется советскому читателю». Эта рецензия была опубликована в 1971 году В том же году географическое издательство в Ленинграде издало сокращенный перевод «Истории климата»273. Однако следует помнить, что издательский цикл в СССР был длинным– и рецензия, и перевод готовились еще в 1969 году, если не раньше.
А с тех пор времена изменились– гайки закручивались всё туже. Вскоре В.Н. Малов, не проявивший должной идеологической бдительности, был смещен с должности ответственного секретаря «Средних веков». Больше научных рецензий на труды Ле Руа Ладюри до самого конца советской власти не публиковалось.
Зато его имя часто упоминалось в историографических обзорах. Так, в 1976 году на страницах журнала «Коммунист» была опубликована статья на тот момент наиболее авторитетного из советских историков Французской революции, А.З. Манфреда, где давался отпор поползновениям таких историков, как Ф. Фюре, Д. Рише и Э. Ле Руа Ладюри, взявших под сомнение антифеодальный характер революции XVIII века. Причем Ле Руа Ладюри отводилась роль лидера «новой школы». Но это вовсе не накладывало табу на анализ его работ, а как раз напротив; ведь, по выражению того же Альберта Захаровича, «стрелы, направленные против Французской революции XVIII века, целят дальше,– это стрелы и против Великой Октябрьской социалистической революции, могущественного Советского Союза, против мировой системы социализма, против рабочего и национально-освободительного движения, против всех демократических, прогрессивных сил, с которыми связано будущее человечества»274. Перевод этого высказывания из плоскости идеологической в прагматическую означал следующее: изучать причины Французской революции крайне важно, поскольку такие штудии находятся на острие главного противостояния современности. В связи с этим пристального внимания заслуживает современная историография Французской революции, и в частности фигура Ле Руа Ладюри как «вдохновителя ревизионистов». Тем самым повышался статус работ этого французского исследователя.
И действительно, работам экстравагантного французского историка отныне уделялось достаточно много внимания. В 1979 году вышла книга, посвященная основным тенденциям в новейшей французской историографии275. Ее автор, М.Н. Соколова, ученица академика Е.А. Косминского, начинала свою исследовательскую деятельность как специалист по истории средневековой Англии, однако впоследствии переключилась на критику «буржуазной» историографии. Это был особый жанр, в целом поощряемый властями. Важно было показать «разложение» буржуазной науки и триумф метода исторического материализма. Но, как это бывало в средневековом богословии, яростная критика еретиков давала шанс составить представление об их взглядах. В ряду критикуемых ею авторов (Р. Мунье, Ф. Бродель, Ф. Фюре, Э. Лабрусс, Ж. Ле Гофф и др.) важное место занимал и Э. Ле Руа Ладюри. Обвинения в мальтузианстве, в отказе от исторического монизма в пользу многофакторности, в игнорировании классовой борьбы, в биологизме и итоговая констатация провала проекта тотальной истории не помешали Соколовой достаточно подробно ознакомить читателя с достижениями этого историка. Однако акцент был сделан на том, какой вред проистекает от столь безудержной междисциплинарности276.
В.М. Далин, историк старшего поколения, несгибаемый марксист, отсидевший в сталинских лагерх, знаток Французской революции, публикатор документов архивного фонда Гракха Бабёфа, выпустил в 1981 году книгу очерков о русских и французских исследователях, изучавших в XIX—XX веках историю Франции. В одном из очерков, посвященном судьбам школы «Анналов», нашлось место и «Крестьянам Лангедока». Виктор Моисеевич отдавал должное богатству использованных автором методов и разнообразию привлеченных источников (он даже объяснил русскому читателю, что такое compoix277), но в целом вывод был таков: «…книга прекрасно написана, в ней бьется новая мысль, но стремление быть оригинальным приводит автора к поспешным выводам»278. Главный упрек– сознательный отказ рассматривать в качестве главной сюжетной линии книги проблему генезиса капитализма во французской деревне. И вообще– явно недостаточное внимание проблемам социальной стратификации и социальной борьбы. Так, антиналоговая составляющая восстания камизаров на словах признается, но ей уделено лишь две страницы, тогда как различным крестьянским «неврозам»– целых шестнадцать. Далин подчеркивал отличие Ле Руа Ладюри от представителей «русской школы»: они сочувственно описывали трудную долю французских крестьян, а у французского автора, описывающего восстания как порождения мазохизма и истерии, этого сочувствия не видно. Далин весьма скептически отнесся к «клиометрическому манифесту» Ле Руа Ладюри, заявившему, что «историк завтрашнего дня будет программистом или его не будет вовсе»279, и не без ехидства заметил, что за истекшие десять лет Ле Руа Ладюри так и не стал программистом, хотя и не перестал быть историком. В книге приведены возражения таких признанных мэтров западной экономической истории, как Б.Х. Слихер ван Бат и М. Морино, против выводов «Истории сельской Франции», обобщающего коллективного труда под редакцией Ле Руа Ладюри. Но самый главный упрек Далина состоял в том, что Ле Руа Ладюри симпатизирует «ревизионистам» истории Французской революции– Д. Рошу, Ф. Фюре и Д. Рише. Позиция автора «Историков Франции»– это позиция не огульного критика, но, по его собственным словам,– взволнованного сочувственного наблюдателя истории «Анналов», когда-то державшего в руках первый номер этого журнала и с тревогой следящего за его эволюцией. Далин приводил фразу М. Блока из «Странного поражения»: «Две категории французов никогда не поймут истории Франции: те, кого не волнует память о коронации в Реймсе, и те, кто без трепета читает о празднике Федерации»,– и тут же продолжал: «…увы, к празднику Федерации клиометристы третьего поколения “Анналов” совершенно равнодушны. И в этом, может быть, особенно явственно сказывается и отход от направления “Анналов” М. Блока, Л. Февра и Ф. Броделя»280.
В 1980 году вышла книга Ю.Н. Афанасьева «Историзм против эклектики»281, посвященная исключительно «школе “Анналов”». В отличие от Соколовой и Далина, Афанасьев не был «практикующим историком»: сразу же после университета он пошел на комсомольскую работу. И только уже совсем в зрелом возрасте, оставив поприще партработника, начал писать диссертацию по историографии. Само заглавие работы противопоставляло истинное и ложное знание. И хотя сегодня это противопоставление выглядит уже не столь явным (Морис Эмар не без гордости называет эклектику вполне подходящим термином для «стиля “Анналов”»282), в ту пору заглавие, как и общие выводы, казалось, не оставляли сомнений в позиции автора: современное состояние школы «Анналов» отражает усиление противоборства сил коммунизма и антикоммунизма, причем «третьи “Анналы”» представляют собой последнее усилие буржуазной науки в этом противостоянии.
Среди прочих историков Афанасьев отдавал должное и Ле Руа Ладюри, признавая, что тому удалось в «Крестьянах Лангедока» достичь уровня тотальности. Автор даже познакомил советского читателя с метким прозвищем, которое французская пресса дала Ле Руа Ладюри: «браконьер Клио». Однако пороки этого «браконьера» велики: стремление создать «историю без людей», апологетика антинаучного учения Мальтуса, проникновение биологии и натурализма в гуманитарные науки. В итоге получилась раздробленная история, не учитывающая специфику предмета исторической науки. В этой истории нет общества, которое обладает самостоятельным бытием, специфическим качеством целого, а не является механической суммой отдельных входящих в него субъектов283. Но любопытно, что для доказательства этой мысли автор взывал к авторитету не К. Маркса, Ф. Энгельса или даже Г.В.Ф. Гегеля, но А.Ф. Лосева. К сожалению, для будущих поколений исследователей советской культуры может оказаться утерянным этот особый семантический код, которым владели советские гуманитарии-«обществоведы». При абсолютной необходимости подкреплять свои мысли мнениями авторитетов, автор обладал некоторой свободой выбора– мог сослаться на решения очередного съезда КПСС, а мог на работы Антонио Грамши. Выбор говорил о многом. В данном случае А.Ф. Лосев хотя и был назван «советским философом» (благодаря чему его мнение вполне резонно противопоставлять буржуазным «эклектикам»), но советские-то читатели прекрасно понимали, что Лосева, ученика и последователя Павла Флоренского, при всем желании нельзя было считать марксистом. Пройдет еще несколько лет, и Лосева открыто начнут величать «русским религиозным философом». Уже одна эта деталь может указать на недогматический стиль работы Афанасьева, предпринявшего, по сути, весьма успешный анализ движения «Анналов». В отличие от Соколовой, он настаивал на единстве «Анналов», разглядел он и потенциальную угрозу бесконечной фрагментации исследования (о чем вскоре напишет Франсуа Досс284). Видно было, что автор– весьма вдумчивый критик. И уже в этой книге с боевым названием можно было усмотреть зерна будущей научной эволюции Афанасьева.
Специальные историографические труды не были единственным каналом ознакомления советских историков со «школой Анналов», и в частности с трудами Ле Руа Ладюри. В СССР существовала параллельная сеть информации– информационные центры по естественным и общественным наукам, которые имели возможность выпускать особые реферативные журналы и сборники, содержавшие объективное, нейтральное изложение книг западных авторов. Эти издания не поступали в продажу, а распространялись по особым спискам в научные библиотеки, имея гриф «для служебного пользования», что либо освобождало их от цензуры, либо сильно облегчало ее условия. И что очень важно– с этими сборниками можно было ознакомиться в научных библиотеках.
Рефераты писали такие интересные историки, как А.Я. Гуревич, Ю.Л. Бессмертный, А.П. Каждан. Они же с редактором серии А.Л. Ястребицкой выступали составителями сборников, подбирая для реферирования наиболее важные книги. Так я впервые узнал о «Монтайю– окситанской деревне» и о «Карнавале в Романе»– двух бестселлерах Ле Руа Ладюри 1970-х годов.
Эта параакадемическая деятельность была весьма характерна для формирования того, что Н. Копосов назовет «несоветской медиевистикой в СССР»285, обозначив так группу гуманитариев, формально не порывавших связей с официальными научными структурами, но все дальше отходивших в своих работах от стилистики исторического материализма. Наиболее характерен в этом отношении пример скандинависта А.Я. Гуревича, в 1972 году опубликовавшего свою книгу «Категории средневековой культуры», где не было ни единой цитаты из классиков марксизма. Полуофициальные конференции и семинары, полуофициальные рефераты и рукописные переводы– на моих глазах формировалось нечто вроде исторической «контркультуры» со своей этикой, своим пантеоном авторитетов, в который входил и Ле Руа Ладюри. К «анналистам» относились с большим интересом, что не мешало их критиковать. Уже много позже Гуревич опубликует книгу «Исторический синтез и школа “Анналов”, гдеобобщит и то, что он ранее писал о Ле Руа Ладюри. Его анализ напоминал рецензию Люблинской и Малова. Видно, что пишет скорее «практикующий историк», чем историограф. Для Гуревича оригинальный стиль Ле РуаЛадюри– не второстепенное, но главное качество. И основную его заслугу он видит в умении раскрыть внутренний мир «немотствующего большинства»286. Разбирая «Крестьян Лангедока» и «Карнавал в Романе», Гуревич вполне критичен, ему претит увлечение автора психоанализом, смелые параллели с современностью и даже недостаточное внимание к эволюции социальных отношений в деревне. Словом, он подмечает то же, что и другие советские историки. Но если для Далина и Афанасьева вина Ле Руа Ладюри заключалась в отходе от «линии Броделя», то для Гуревича недостатки в работах Ле Руа Ладюри объясняются именно негативным влиянием Броделя. Для Гуревича, воспевавшего историческую антропологию, монументальные сочинения Броделя были отступлением от поисков человека в истории, начатых Блоком и Февром. И заслуга «третьих “Анналов”» виделась ему в том, что Ле Гофф и Ле Руа Ладюри сделали важный шаг к возвращению человека в качестве основного центра исторического исследования, к утверждению «исторической антропологии»287.
Итак, мы наметили два основных маршрута, по которым осуществлялось знакомство русских историков с трудами Ле Руа Ладюри. Но было бы упрощением видеть в них его «врагов» и «друзей». «Друзья» порой были настроены критически, «враги» признавали неоспоримые заслуги. Разница была в акцентах, интонации и установках, но она диктовалась еще и законами жанра. Историографическое обозрение должно было показать тавтологическую несостоятельность буржуазной (или как эвфемизм– «немарксистской») методологии именно потому, что она была немарксистской. Но люди, действительно не принимавшие школу «Анналов», просто ничего не писали о ней или ругали, не анализируя288. Во всяком случае, между двумя маршрутами вскоре наметилось сближение.
Уже статья Афанасьева в «Вопросах истории» (написанная еще до перестройки) намечала пути для такого сближения289, тем более что он, пользуясь своим влиянием, готовил масштабный проект издания «Материальной цивилизации» Броделя. Оба маршрута пересеклись в 1989 году, когда усилиями Афанасьева, Гуревича и Бессмертного, а также нового директора Института всеобщей истории А.О. Чубарьяна была проведена масштабная конференция, посвященная юбилею школы «Анналов». По свидетельству очевидцев, ситуация немного походила на карнавальную инверсию– в президиуме вчерашние «невыездные» историки, а представители советского историографического истеблишмента– в зале, на правах зрителей и статистов290. Советские историки обсуждали пути синтеза лучших традиций марксистского направления с достижениями школы «Анналов». Гости вежливо кивали головами. Среди французских звезд первой величины был и Ле Руа Ладюри.
Здесь можно было бы поставить точку– это был триумф…
Марксизм-ленинизм как единый метод всех советских историков рухнул с еще большим шумом, чем Берлинская стена. Но ни ученые, ни преподаватели не могли существовать без надежного каркаса цитат, без пантеона авторитетов. В наш Институт всеобщей истории приходили встревоженные письма: «Мы поняли, как не надо писать историю и как не надо ее преподавать. Но вы должны срочно нам объяснить, как теперь ее надо преподавать!» Одним из вариантов ответа на этот вопрос было желание писать историю так, как учит «правильный» научный метод школы «Анналов». Мэтров не только «первых» и «вторых», но и «третьих» «Анналов» заставили играть несвойственную им роль Маркса—Энгельса—Ленина, начав цитировать по каждому поводу. В РГГУ– университете, созданном Ю.Н. Афанасьевым в здании бывшей Высшей партийной школы, – был основан Центр исторической антропологии им. Марка Блока291. Он был призван стать форпостом распространения нового подхода к истории, идущего на смену устаревшим историческим школам, над которыми тяготел первородный грех советского марксизма.
Впрочем, это была всего лишь тенденция, поскольку школа «Анналов» менее всего подходила на роль «всепобеждающего учения». Для того чтобы работать с такими авторитетами, требовалось искусство куда более тонкое, чем у средневековых глоссаторов. И Ле Руа Ладюри был для этого одним из наименее подходящих авторов. Одни ссылались на него как на апологета «истории без людей»; другие– как на борца за «возвращение человека в историю»; третьи– как на сторонника неподвижной, несобытийной истории; четвертые, наоборот,– как на мастера реконструкции исторического события. Одни провозглашали его зачинателем «истории ментальностей» и отцом-основателем «исторической антропологии», другие же видели в нем верного представителя микроистории на французской почве.
Превращения в классика «советского образца», к счастью, не произошло. Ле Руа Ладюри оказался слишком неудобен для этого, слишком уж противоречив. Но и с ним, и с другими «анналистами» происходила типичная процедура превращения в классика современного западного типа– цитируемого, но не читаемого.
Да и читать его по-русски было довольно сложно. В 1993 году перевели наконец на русский язык его статью «Неподвижная история», опубликованную в альманахе Thesis, взявшем на себя в новых условиях функции прежних реферативных сборников. До сих пор ссылки на Ле Руа Ладюри в Рунете в основном относятся к этой статье292.
Альманах Thesis просуществовал недолго. Но программа «Пушкин» французского правительства, призванная облегчить издания французских авторов на русский язык, а также плодотворная деятельность программы Translation project Центральноевропейского университета и других институтов, связанных с фондом Сороса, вызвали целый вал изданий французских авторов. «Короли-Чудотворцы» и «Феодальное общество» Блока, «Время соборов» Дюби, две книги Арьеса, десяток книг Ле Гоффа, три эпопеи Броделя в девяти томах, но долгое время– ни одной книги Ле Руа Ладюри.
Это легко объяснимо. Такого автора очень трудно переводить, но не из-за сложного языка (по сравнению с Фуко или Рикёром он пишет очень просто), а из-за «лисьих» особенностей его стиля. Он постоянно вторгается на территории других дисциплин, проводит смелые аналогии, играет неожиданными метафорами, приближаясь к стилю Мишле и, что еще хуже, постоянно взывая к эрудиции читателей. Для иностранного потребителя его трудов, сколь ни был бы хорош переводчик, обязательно нужны пространные комментарии и научный редактор.
Наконец, в 2001 году в Екатеринбурге издали «Монтайю…»293. Это огромный том. Для перевода он непрост, помимо прочего в тексте много специфически окситанских слов, масса сельскохозяйственных терминов. И вся это работа шла на фоне кризиса, вызванного дефолтом. Надо отдать должное В.А. Бабинцеву, который направил свой перевод в Институт всеобщей истории, где опытный комментатор Д.Э. Харитонович взялся быть научным редактором и автором примечаний, обращаясь за консультациями ко многим медиевистам. В итоге перевод получился адекватным и удобочитаемым. Во всяком случае, по нему наши преподаватели охотно учат студентов. А если пуристы недовольно морщатся над отдельными абзацами, то их можно отослать к переводу следующего труда Э. Ле Руа Ладюри– «Королевской Франции», опубликованной в 2004 году. Любопытно, что выпустило эту книгу солидное московское издательство с хорошим советским стажем294. Но текст производит впечатление джунглей, куда не ступала нога человека. Советник Парижского парламента Ан Дюбур, казненный в 1559 году, например, превратился в мученицу Анну дю Бург, «мужественную руководительницу мелких протестантских фракций в Парламенте», а Le Quart Livre (Четвертая книга) «Пантагрюэля» в известное сочинение Рабле «Четверть ливра»295. Самое пикантное, что и это издание финансировалось за счет программы «Пушкин», то есть из кармана французских налогоплательщиков. Рынок и свобода привели к тому, что институт научного редактирования канул в Лету как уродливое порождение тоталитаризма. Увы, это в какой-то мере относится и к изданию «Регионов Франции», предпринятому уважаемым мною издательством РОССПЭН, которое почему-то на сей раз решило сэкономить на редакторе296. В отличие от «Монтайю…», ни «Королевская Франция», ни «Регионы…» не вызвали особой реакции российского читателя.
Помимо падения культуры перевода и книгоиздания, сложность восприятия творчества Ле Руа Ладюри в современной России можно объяснить и тем, что для адекватного его понимания надо знать реалии французской истории, историографии, культуры. Если тридцать лет назад таких людей в нашей стране было немало, то сегодня ситуация совсем иная. Как мамонты, вымерли историки, занимавшиеся аграрной историей Франции, да и вообще– экономической историей. Мало кто может теперь оценить эмпирическое богатство работ этого «браконьера Клио». Кроме того, исчезло само стремление с любопытством заглядывать в дырки «железного занавеса». Поиск методологических ориентиров ведется в основном уже в иной плоскости, а в условиях лингвистического поворота и деконструктивизма автор, открыто признающийся, что его «вещи» интересуют больше, чем «слова», кажется смешным анахронизмом. Ле Руа Ладюри продолжают цитировать часто, но цитаты эти взяты, как правило, из вторых рук. Парадоксально, что его, известного «философоба», охотно цитируют «историософы» и «методологи», преподаватели теории и методологии исторического знания. Труды историка, буквально «помешанного» на работе с первоисточниками, используют у нас в основном люди, не имеющие опыта архивных изысканий и работы с эмпирическим материалом. Стоит ли удивляться, что российский читатель ничего не знает о его исследованиях, посвященных Сен-Симону297 или Платтерам298, которые широко обсуждались во Франции в последние двадцать лет.
Но мне не хотелось бы заканчивать свой рассказ брюзжанием. На самом деле идеи Ле Руа Ладюри присутствуют сегодня в трудах российских ученых в гораздо большей мере, чем это может показаться на первый взгляд.
Приведу лишь несколько примеров.
1. В ту самую эпоху, наступившую с конца 1980-х годов, когда все кинулись искать новые авторитеты, большую популярность приобрели идеи Л.Н. Гумилева. В свое время его с полным основанием можно было бы отнести к уже упомянутой «неофициальной советской науке»; да и главное его теоретическое сочинение «Этногенез и биосфера земли», хотя и защищенное у географов, было не опубликовано, но депонировано, оказавшись все в той же «серой» зоне, что и реферативные сборники ИНИОНа. Доказывая связь главного субъекта истории– этноса– с климатическими, географическими, генетическими факторами, Гумилев решительно расходился с историческим материализмом. Сегодня он стал знаменем евразийцев: его именем назван университет в Астане, памятник ему стоит в центре Казани. В глазах современного сообщества историков он– фигура, мягко говоря, неоднозначная. Но для нас важно, что именно Гумилев первым в нашей стране опубликовал рецензию на русский перевод «Истории климата»299 в журнале «Природа». Впоследствии он часто ссылался на Ле Руа Ладюри в своих обобщающих работах, в которых старался набросать общую теорию этноса, рассказать об изменении уровня Каспийского моря или об отношениях Руси со Степью. Лев Николаевич ушел из жизни четверть века назад, но, учитывая популярность его работ, можно сказать, что благодаря Гумилеву происходит постоянная реактуализация идей Ле Руа Ладюри.
2. Сравнительно недавно, в 2007 году, А.В. Коротаев, В.В. Клименко и Д.Б. Пруссаков предложили оригинальную теорию возникновения ислама300. Авторы констатировали катастрофическое изменение климата в Аравии VI века, вызванное извержением вулкана в Индонезии (о чем, в частности, свидетельствуют гляциологи, изучавшие антарктический шельф). Сокращение «потолка возможностей» привело к тому, что существовавшие на Аравийском полуострове достаточно сложные государственные или протогосударственные структуры оказались слишком «дорогим удовольствием» и арабские племена перешли к более экономичной кланово-племенной организации. Но для урегулирования отношений между кланами, мобилизации их для решения важных задач (в условия экспансии соседних «сверхдержав»– Ирана, Византии, Аксума) требовались межклановые и межплеменные посредники. Их роль выполняли многочисленные пророки. Мухаммед был одним из них, в силу ряда причин более удачливым.
В таком подходе без особого труда можно увидеть черты «стиля Ле Руа Ладюри». В этой работе нет прямых ссылок на Ле Руа Ладюри, однако В.В. Клименко известен как создатель дисциплины, которую он именует «исторической климатологией», объясняющей в том числе причины взлетов и падений мировых империй301. И он среди авторитетных исследователей, заложивших основы системного подхода к влиянию климата на историю, называет и Ле Руа Ладюри с его «историей климата». Другой автор упомянутой книги о возникновении ислама– востоковед А.В. Коротаев– также опирается в своих исследованиях на «браконьера Клио», но уже как на одного из «отцов-основателей» науки о демографических циклах доиндустриальных обществ, сформулированной в «Крестьянах Лангедока»302.
3. Сергей Нефедов, уральский историк, занимающийся факторным анализом, воссоздает историю демографических циклов, распространяя свои наблюдения на всю Евразию. Он солидаризируется с Ле Руа Ладюри в том, что демографические изменения нельзя связывать лишь с климатическими факторами. Факторный анализ позволяет ему, в частности, сделать важный вывод о том, что русская деревня конца XIX века страдала от недоедания, вызванного в первую очередь демографическими процессами– аграрным перенаселением303.
4. Борис Николаевич Миронов– историк старшего поколения, автор нашумевшей в свое время «Социальной истории Российской империи»304, основная идея которого заключается в «нормализации» русской истории. Автор отстаивает тезис, что при всех национальных особенностях развитие российского общества шло примерно в том же направлении, что и развитие других модернизирующихся стран Запада. И в этом смысле революция 1917 года скорее была нарушением естественного хода вещей. Но в своем последнем исследовании, посвященном благосостоянию населения накануне революции305, Б.Н. Миронов избрал отправной точкой антропометрические данные– сведения о росте и массе тела сотен тысяч рекрутов и призывников за последние полтора столетия существования Российской империи. Эти данные свидетельствуют о неуклонном улучшении физических показателей крестьянского населения, ставшем особенно заметным после реформ Александра I. Подкрепляя свою гипотезу множеством статистических данных, Б.Н. Миронов приходит к выводу об ошибочности считать причиной революции мальтузианский кризис (аграрное перенаселение): причины ее, считает он, лежат в сфере политической борьбы внутри групп элиты или между элитой и контрэлитой. Для нас важно, что и на сей раз отправной точкой для автора стало старое исследование Ле Руа Ладюри, посвященное перспективам применения количественных методов к анализу антропометрических данных французских призывников306.
Таким образом, идеи Ле Руа Ладюри оказываются востребованными в России скорее «лисами», чем «ежами»307. Единства мнений между ними ждать не приходится308, такие люди редко ходят строем, и они никогда не склонны затушеывать имеющиеся между ними научные и даже идеологические противоречия. Но есть между ними и общее– они в чем-то похожи на Ле Руа Ладюри. Они-то и являются его благодарной аудиторией.
Ле Руа Ладюри 80 лет исполнилось летом 2009 года. Но торжественный коллоквиум в его честь состоялся позже– 15—16 января в роскошном здании фонда Зингер-Полиньяк в Париже. О престиже мероприятия может свидетельствовать и подробная трансляция– с ее ходом можно и сегодня (весна 2014 года) ознакомиться по адресу: http://www.dailymotion.com/video/xbzg5h_l-oeuvre-d-e-le-roy-ladurie. И этот парад знаменитостей действительно стоит посмотреть.
Текст моего выступления был опубликован по-русски во «Французском ежегоднике»: Французский ежегодник 2010. М.,. С. 75—92, а вскоре вышел и по-французски: Ouvarov P. La perception de l’oeuvre d’E. Le Roy Ladurie en URSS et en Russie // Histoire, cologie et anthropologie Trois gnrations face l’oeuvre d’Emmanuel Le Roy Ladurie. Paris, 2011. Р. 411—425.
ФУНДАМЕНТАЛИСТСКИЕ ЗАМЕТКИ
О СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
Социальная история имеет репутацию основы научного исторического знания. Но привилегированным положением она обязана в немалой степени размытости своих границ. При известной доле желания любое исследование можно отнести именно к этой проблематике, посвящено ли оно биографии какого-нибудь монарха, истории какой-либо войны или анализу какого-нибудь политического трактата. Трудно представить себе историка, не занимающегося обществом или, по крайней мере, «человеком и обществом». Но при этом достаточно часто звучали и звучат заявления о том, что «социальная история умерла», проект социальной истории провалился, исследовательское поле социальной истории исчезает, ее функции оказались исчерпаны и т.д. Правда, ради политической корректности следуют разъяснения, что речь идет о классической старой социальной истории, а не о современных ее инкарнациях, будь то «новая культурная история», «культурная история социального», микроистория и т.д.
На этом фоне прогнозы о неизбежности нового обращения к классической проблематике социальной истории могут в лучшем случае показаться непонятно на чем основанным оптимизмом, а в худшем– как раз понятным ретроградством, достаточно распространенным в кругах наших историков, не обременяющих себя излишней информацией о новейших методологических исканиях.
Стоит уточнить, о каком понимании социальной истории идет речь. Есть расширительная трактовка, согласно которой социальными историками можно считать всех, полагавших, что за значимыми событиями и изменениями в истории лежат некие глубокие причины, несводимые только к игре случая или к особенностям характера исторических деятелей. В этом смысле социальную историю писали и Карамзин, и Гизо, и даже Фукидид, поскольку, как говорил Люсьен Февр, «история социальна в силу своей природы»309.
И есть более узкая трактовка, исходящая из необходимости концентрировать внимание на изучении социальных структур, социальных иерархий и процессов, чтобы тем самым выявить «глубинную», а следовательно, «истинную» подоплеку всех важнейших изменений и событий. Именно социальная история в этом узком смысле слова превратилась к середине XX века в особую субдисциплину, рассматриваемую как своеобразный залог научности истории.
Отмеченные выше инвективы адресованы в основном этому узкому пониманию социальной истории, и их нельзя назвать безосновательными. Однако у такой социальной истории остается и немало приверженцев. При этом и «друзья», и «враги» социальной истории исходят из одной и той же презумпции: в центре научной картины прошлого лежит некое давно уже доказанное базовое знание о социальной структуре изучаемого общества. Прогресс исторической науки возможен лишь на периферии этого знания310. Разница заключается в оценке значимости научного багажа классической социальной истории: одни считают его бесполезным балластом, другие отводят роль «золотого запаса». В обоих случаях предполагается, что знания о социальных структурах и социальных отношениях установлены раз и навсегда. Достаточно историку протянуть руку и достать их из закромов, чтобы то ли почтительно апеллировать к их авторитету, то ли с презрением отбросить прочь.
Однако сегодня становится все более очевидным, что закрома социальной истории пусты. Можно указать на такой, казалось бы, досконально изученный предмет, как социальная (классовая или сословная) структура Российской империи. При ближайшем рассмотрении выясняется, что, хотя исследователи в большинстве своем не видели здесь принципиальных сложностей311, в источниках картина предстает несколько иной, требующей иных подходов312. Что же тогда говорить о других периодах и других регионах!
Быть может, проблемы изучения социальной структуры уже и не требуют внимания, безнадежно устарев, как и вообще все «большие понятия» социальной истории? Но оказывается, что от постоянных апелляций к «федерализирующему центру» социальной истории не в силах отказаться ни обыденное, ни научное сознание. Для того чтобы, например, доказать, что Французская революция не была ни буржуазной, ни антифеодальной, ни антиабсолютистской, а Английской революции и вовсе не было, надо для начала опереться на общепринятые на сегодняшний день представления о том, что такое буржуазия, феодализм, абсолютизм и революция. Но опереться здесь не на что, современных общепринятых понятий нет, и бороться оказывается просто не с чем.
Журналисты, политологи и историки и, что немаловажно, внимающая им аудитория не способны в своих объяснениях исторических или текущих событий не руководствоваться принципом qui prodest, видя в этих событиях результат действия неких сил, групп или институтов. Но для этого надо иметь четкое представление о социальных структурах, которое также отсутствует.
Почему так произошло? Надо понимать, что все важные инновации, приводившие к радикальному расширению круга привлекаемых источников и к изменению характера вопросника, изначально не являлись самоцелью, но призваны были помочь социальной истории. Вводя понятие «ментальностей», Ж. Ле Гофф и А.Я. Гуревич были уверены, что без учета этого фактора наше знание о средневековом обществе будет ущербным; когда Н. Рёлкер изучала роль женщин в распространении кальвинизма, она хотела сделать социальную историю французской Реформации более полной; когда К. Гинзбург рассматривал уникальную историю мельника-еретика, он намеревался обратить внимание на ранее недооцененные историками черты итальянского общества XVI века. В этих и других случаях речь шла об историках-практиках, накопивших солидный эмпирический материал, нуждавшийся в осмыслении. В итоге же предполагалось открытие новых возможностей, позволяющих лучше отвечать на важнейший вопрос социальной истории, сформулированный когда-то Георгом Зиммелем: «Как возможно общество?»
Однако очень скоро включались механизмы, неплохо описанные социальной историей науки: новые площади расширявшейся «территории историка» обносились заборами, за которыми высились обособленные научные школы и направления, наделенные своим языком и своей системой авторитетов. Среди них– история ментальностей, гендерная история, микроистория, историческая антропология, клиометрия, историческая когнитивистика, нарратология, потестарная имагология и многое другое. Каждое из направлений становились все более самодостаточным. Количественные методы все чаще применялись ради количественных методов, рассуждения о методе велись ради рассуждений о методе. Что же касается классической социальной истории, то она все больше походила на короля Лира, все раздавшего неблагодарным дочерям.
Наблюдался расцвет изучения сюжетов, считавшихся ранее периферийными, при угасании интереса к работе над традиционными темам и понятиям. Это облегчало выстраивание индивидуальных научных карьер, позволяло создавать новые кафедры и научные центры, но приводило к тому, чо базовым проблемам социальной истории внимания уделялось все меньше. Подобные центробежные процессы наблюдались везде, но в нашей стране они приняли стремительный и порой карикатурный характер. Стало очевидным, что фрагментация исследовательского поля была оборотной стороной распада профессионального сообщества.
Но все же можно надеяться, что дочери сами возвратят опрометчивому старику Лиру часть имущества. Ведь по правилам игры все участники по-прежнему уверены в существовании некоего центра, понимаемого как оплот традиционализма. Иначе на чем основывать собственную оригинальность? Центробежные силы предполагают наличие центра не в меньшей степени, чем силы центростремительные. В случае с медиевистами таким подразумеваемым центром является понятие феодализма в его социально-экономической интерпретации. И каково же удивление медиевистов в XXI веке, когда выяснилось, что этим понятием уже никто не занимается, там зияет пустота!313
Становится ясно, что без постоянного обновления и постоянной работы над фундаментальными понятиями социальной истории не вырабатываются новые конвенции по их поводу, а без таких конвенций история перестает функционировать как наука, утрачивает свои функции: сначала критическую, а затем и экспертную. Из научной дисциплины она превращается в нечто другое, в объект «политики истории» или «исторической политики», осуществляемой отнюдь не историками.
Нетрудно предугадать начало усиления «центростремительных сил», и некоторые признаки позволяют сделать вывод, что этот процесс начался. По крайней мере, таковы общественные ожидания, демонстрируемые по отношению к истории. От историков по-прежнему ждут ответа на вопросы о природе государства и сущности процессов политогенеза, экспертных заключений о причинах важнейших исторических событий, ждут написания масштабных исторических полотен. И все чаще исследователи (пока еще на индивидуальном уровне) возвращаются к пониманию необходимости работать над сюжетами, традиционно считавшимися базовыми для социальной истории.
Подобный процесс314 является не откатом назад, но скорее возвращением долгов. Все то новое, что было создано в истории за несколько последних десятилетий, должно найти свое применение в работе над классической проблематикой социальной истории. Старые постулаты о «классах», «сословиях», «социальных структурах» и «социальных иерархиях» потому и оказываются неоперациональными, что они долгое время не пересматривались. Выясняется, что для занятия социальной историей описать общество в простых категориях и однозначных терминах попросту невозможно.
Приведем один пример, часто цитируемый медиевистами. В 1198 году жителям деревни Фильине в Тоскане пришлось признать над собой власть города Флоренции и согласиться на уплату налога. Согласно достигнутой договоренности между представителями деревни и городскими властями, от налога, который платили простолюдины-pedites, должны были быть освобождены проживающие в Фильине рыцари и masnaderii (так называли вооруженных холопов). Как несвободные, masnaderii не отвечали за себя в полной мере и в данном случае не подлежали обложению. Делегация Фильине, отправившаяся во Флоренцию, состояла из шести рыцарей и шести pedites, один из которых был старостой-подестой. Когда же пришла пора заплатить подать, то выяснилось, что сделать этого некому. В Фильине нашлось 13 рыцарей, 148 masnaderii и только пять pedites. Эти пятеро были те самые люди, кто вместе с подестой подписал от имени коммуны договор с Флоренцией. Они уже назвались pedites и взять своих слов назад не могли. Все остальные жители деревни, не претендовавшие на то, чтобы называться рыцарями, поголовно записались в masnaderii315.
Можно ли назвать это казусом? Вполне, если помнить, что казус– это исключительный случай, позволяющий выявить те стороны повседневной жизни, которые обычно скрыты от стороннего наблюдателя именно в силу своей обыденности. На самом деле такое случалось повсеместно и постоянно. Любой практикующий историк (и я в том числе) сможет привести немало подобных примеров для своего периода. Это не значит, что социальные обозначения были чем-то несущественным. Но они не были установлены раз и навсегда для всех случаев жизни. Их использование во многом было ситуативным; но историк часто не может учесть все интересы людей, предпочитавших фигурировать в источнике именно так, а не иначе. Человек жил, следуя обычаю, не задумываясь о своей социальной идентификации, но, столкнувшись с необходимостью обозначить себя (в суде, в конторе нотариуса, перед лицом сборщика налогов, заказывая себе надгробную плиту), выбирал форму, наиболее подходящую моменту.
Можно ли, поняв, что все было столь нестабильно, изучать социальные группы? Конечнои можно, и нужно. Но делать это с учетом как достижений «прагматического поворота», так и знания работ, посвященных когнитивной стороне исторического исследования. При этом становится все более явной роль социальной истории как единственно возможной точки пересечения всех новых направлений316. Гендерная история, дискурсивный анализ и, предположим, имагология могут вновь сойтись между собой в одних дисциплинарных рамках, лишь предъявив свой вклад в поиск ответа на все тот же неизбывный вопрос: «Как возможно общество?»
Обновление социальной истории обусловлено не только обогащением ее понятийного аппарата, но и введением в научный оборот принципиально новых источников, а также существенным изменением круга вопросов, задаваемых давно известным документам. Новые методы работы с источниками позволяют не просто расширить, но порой и радикально изменить наше представление о возможностях того или иного типа исторического материала. Так, например, ревизские сказки и кадастры могут информировать об аксиологии изучаемой эпохи, а литургические памятники и агиография содержать немаловажные сведения о социальной стратификации. Новые подходы к процессам визуализации и к механизмам функционирования исторической памяти открывают новые горизонты в работе с источниками.
Функция социальной истории как центра исторического знания позволяет выстроить сценарий диалога с другими научными дисциплинами. В первую очередь– с социологией (какие бы трансформации ни переживала эта наука). Также– с лингвистикой, психологией, экономикой, юриспруденцией, медициной, микробиологией, палеоботаникой, палеозоологией, климатологией, не говоря уже о таких традиционных партнерах истории, как география, демография, филология, и, конечно,дисциплинах, родственных истории (археология, специальные исторические дисциплины, книговедение и др.).
Процесс обновления социальной истории представляется необходимым и в какой-то мере неизбежным, однако его успех не гарантирован автоматически. У основателей новых направлений, отпочковавшихся от классической социальной истории, имелся хороший опыт исследовательской работы в рамках именно этой истории. Но если центробежные процессы были в значительной степени делом естественным, то для запуска процессов центростремительных уповать на естественный ход событий не приходится. Историк, имеющий опыт архивной работы, изучавший, например, земельные распорядки в русской общине, просопографию детей боярских по десятням рязанского уезда или организацию муниципального управления в Лондоне XIV века, может переключиться и на изучение гендерных проблем, на исследование дискурсивных практик или на семантический анализ языка историков. Встречное движение маловероятно: специалист по исторической когнитивистике, скорее всего, не только сам не станет квалифицированным историком-аграрником, но и не сможет (да, наверное, и не захочет) готовить таких специалистов. В этом видится основная угроза выживанию профессионального сообщества. По всей видимости, задачу подготовки нового поколения столь необходимых профессиональных историков могут решить только преподаватели, обладающие личным исследовательским опытом (желательно– успешным), при этом зарекомендовавшие себя в плане продуктивного применеия новых методов исторического исследования (а не только декларирования своей приверженности таким методам). Найти таких людей непросто, но все же можно, было бы желание. Иначе трудно будет удержать сообщество историков от распада, а дисциплинарное поле истории от неминуемого захвата какими-нибудь ушлыми соседями.
Текст был опубликован в сборнике: В поисках истины: Сборник к юбилею академика А.О. Чубарьяна. М.: ИВИ РАН, 2013. С. 350—358. Я говорил на эту же тему в ноябре 2011 года на семинаре ИГИТИ им. А.В. Полетаева «Скучная история: сonglomeratio centri»; с записью выступления и с его обсуждением можно ознакомиться на сайте ИГИТИ http://igiti.hse.ru/Meetings/Conferences/Uvarov2011_video.
Конечно, это не столько статья, сколько тезисы. Или даже что-то вроде декларации. Непосредственным поводом стало предложение декана факультета истории НИУ ВШЭ (Национального исследовательского университета– Высшая школа экономики) А.Б. Каменского открыть магистратуру по социальной истории. Это было несколько неожиданно: новая структура– факультет истории– не без основания воспринималась как инновационный проект, призванный обеспечить качественно новое образование, в значительной мере приближенное к западным образцам. И вдруг– подчеркнуто традиционная проблематика, обреченная на некоторое отторжение студентов, отдающих предпочтение истории культуры.
Надо было срочно подобрать аргументы для «вышкинского» начальства, объясняющие, почему изучение социальной истории будет востребовано в скором будущем. Но сперва надо было это сформулировать для себя.
Сомнения оставались и остаются: не выдал ли я желаемое за действительное, насколько сбывается мой прогноз? Но вот подзаголовок свежего номера «Анналов»: «Satuts sociaux»– «Социальные статусы». Весь четвертый номер (октябрь—декабрь 2013 года) посвящен темам социальной стратификации и социальной идентичности. Если допустить, что «Анналы» сохранили былую славу законодателя мод, то перспективы возрождения обновленной социальной истории выглядят вполне реальными.
ВОТ И ВСЕ
Когда возник план создания этой книги (лето 2013 года), мы жили по большому счету в ту эпоху, в которую и были написаны представленные тексты. Поэтому рассуждения об историках и их профессии казались мне актуальными. По разным причинам работа растянулась на более длительный срок, и сегодня (весна 2014 года) выяснилось, что прежняя эпоха закончилась, а жизнь историков той поры воспринимается сегодня неспешной и почти благостной.
Грянула реформа РАН, введя исследовательские институты в зону турбулентности с неясными перспективами. Факультеты истории превращают в институты, в ходе министерского мониторинга университетов началась ожесточенная борьба за часы, ставки и распределение бюджетных мест. «Фабрики диссертаций» либо прикрыты, либо снизили свою активность; но зато началась непредсказуемая по своим последствиям «оптимизация сети диссертационных советов». И университетские, и академические историки окунулись в борьбу за библиометрические показатели, по которым теперь оценивается их работа. Правило Р. Мертона publish or perish было нам в общих чертах знакомо и раньше, но вот новая его формулировка: «Публикуйся в журналах, индексируемых в Web of science, или гибни» – повергла многих в смятение. Даже сами представители компании Thomson Reuters были несказанно удивлены тем, что их индекс цитирования распространяют у нас на гуманитариев, коль скоро их платформа для этого решительно не была приспособлена. О прихотливой судьбе прочих индексов научного цитирования и о том, как приспосабливаются выживать в новых условиях, можно рассказывать часами. В целом же передовая наукометрия выполняет функцию «визатора», так, по терминологии фильма «Кин-дза-дза», называли коробочку, оборудованную световым индикатором и определявшую, кто является чатланином, а кто пацаком. Действовала она на планете Плюк примерно с той же степенью непредсказуемости, как и существующие импакт-факторы.
Но самое главное, конечно, не в этом – перемена политического градуса в нашем обществе начала наконец давать плоды на ниве исторической политики. Взошел, но быстро исчез первоцвет «Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам в фальсификации истории в ущерб интересам России», из чьего названия следовало, что исторические фальсификации иного толка могут лишь приветствоваться. Затем начались страсти по «Единому учебнику истории». Проекты новых законов об уголовной ответственности за те или иные суждения в области истории будоражат воображение депутатов с Охотного ряда, любящих при этом ссылаться на европейские прецеденты. Созданы (вернее, воссозданы) Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество, подкрепленные почти августейшим покровительством. Параллельно в муках рождается Вольное историческое общество, своим названием намекающее на подневольный статус прочих исторических обществ.
Если же говорить о моей научной биографии – второй и третий тома «Всемирной истории» были опубликованы и тут же пиратским образом вывешены в интернете, что может служить показателем определенной востребованности. Журнал «Средние века. Исследования и материалы по истории Средневековья и раннего Нового времени» благополучно попал в первый список ВАК и даже обладает по нашим временам неплохим импакт-фактором по версии Российского индекса научного цитирования. В качестве альтернативной модели исторического образования был создан факультет истории Высшей школы экономики, с которым меня пригласили сотрудничать. Как исследователя, интересующегося историей университетов, меня заинтриговала возможность воочию наблюдать «борьбу хорошего с лучшим» – стремления следовать американским моделям, сталкивающегося с силой воздействия отечественных образовательных моделей. Результаты пока неизвестны, но позиция «встроенного наблюдения» оказалась достаточно выгодной. По-своему ценный опыт дает мой статус председателя экспертного совета ВАК по истории (с марта 2013-го), а также участие в некоторых других комиссиях. Теперь многое видится иначе, чем тогда, когда я писал тексты, включенные в данную книгу. Задуманные во многом если не как инвектива, то уж точно не как апология, они неожиданно обретают теперь налет ностальгии. Это значит, что сообщество историков вступило в иной период, где правила игры – другие.
Но историки по-прежнему делятся на «лис» и «ежей».






