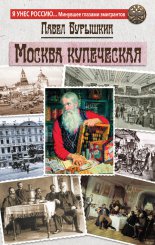14. Женская проза «нулевых» Ганиева Алиса

Быстро нацарапала номер, аккуратно свернула билет вчетверо и просунула его в Димину влажную пятерню. На пару секунд задержала свою руку на его руке. Потом наклонилась прямо к его уху; рыжая прядь щекотно скользнула по Диминой щеке.
– Приезжайте, не пожалеете.
– А что, и приеду! – неуклюже подмигнул ей Дима на прощание.
Еще с полчаса поколесил по городу, но клев закончился. Дима двинулся в сторону дома, к «Аэропорту», метр за метром протискиваясь вперед по парализованной Ленинградке, привычно мучая ногой сцепление. В машине стойко воняло бензином, сухим горелым ветерком из обогревателя и едва ощутимо – сладкими духами Рыжей.
А что. Он вернется на Курский, поставит где-нибудь машину, купит билет на ближайший же поезд и махнет в Ростов-наДону. Прямо сейчас. На уикенд. Почему бы нет? Жене позвонит, наплетет чего-нибудь.
– …верхняя полка. Отправление в 18:45, прибытие в 14:32, – совершенно убитым голосом сообщила кассирша. – Берете?
– Беру.
Сердце оглушительно стучало в ушах, частыми счастливыми судорогами толкалось в горле, нетерпеливо подергивало за кончики пальцев. Дима рывком закатал рукав, чтобы взглянуть на часы, неловко толкнул кого-то в очереди.
Часов на руке не было. Денег тоже: кошелек бесследно исчез из внутреннего кармана куртки. И ручка. Чуть не плача, Дима развернул билет с телефоном Рыжей. «123456. Придурок».
– Мужчина, вы берете билет? – взвыла кассирша.
Дима молча отошел от кассы.
* * *
У нее никогда не было ни прыщей, ни ушибов, ни царапин, ни аллергической сыпи.
От нее никогда не пахло потом. Или вообще чем-то человеческим. Только лаком, или жидкостью для снятия лака, или шампунем, дезодоранто, стиральным порошком, кремом, гелем. Средством для мытья посуды. «Орбитом» без сахара. Иногда даже резиной. Иногда даже палеными проводами. Но не потом. Не поношенной женской домашней кофтой.
От новой одежды она забывала отпарывать ценники и ярлычки. Так и ходила неделями, пока Дима не сдирал их раздраженно сам.
Что его жена и тесть не жулики, Дима понял уже после нескольких дней семейной жизни. Потом появились другие версии – оборотни, роботы, инопланетяне, – но тоже были отвергнуты.
Родственники отбрасывали совершенно нормальную, темно-серую тень. Дима был вынужден это признать: проверял много раз.
И, кажется, на их телах не было подходящих отверстий, куда можно было бы вставить ключик.
Но о чём они шептались, когда он был в другой комнате, Дима не знал.
Билет с «телефоном» Дима спрятал в машине. Почти каждый день, перед тем как идти домой, он вытаскивал его из бардачка и внимательно рассматривал. Сначала читал надпись «придурок», несколько раз. Потом переворачивал обратной стороной и читал: поезд № 99/100 «Атаман Платонов», 4 ноября, Москва – Ростов-наДону, отправление 18:45, прибытие 14:32, Лошадкин. Это был его билет – обратный, тот что исчез вместе с бумажником два месяца назад по дороге в Москву.
* * *
Накануне Нового года Геннадий Ильич доказал свою целиком и полностью земную природу. Он умер. Продемонстрировав чисто человеческую уязвимость и беспомощность.
Он умер как раз по дороге к ним. Чтобы немного срезать, Геннадий Ильич пробирался под окнами. Острый ледяной сталактит провисел, присосавшись к крыше, больше месяца, и уже много раз начинал таять, сочась ледяными каплями, и много раз застывал вновь – пока, наконец, не дождался именно этой оттепели и именно этого прохожего. Чтобы проломить ему череп и полностью растаять уже там, внутри, в остатках человеческого тепла.
Лиза плакала тяжело, много дней, много ночей, и мелко-мелко дрожала, засыпая, и стонала во сне. Она еще больше похудела, лицо опухло, лак осыпался с ногтей неаккуратными ломтиками. Ее одежда и волосы пахли теперь сигаретным дымом. Она иногда забывала мыть голову. И больше не мазала кремом лицо.
Как-то ночью Дима обнял ее. В первый раз. Она посмотрела на него немного испуганно, но через секунду придвинулась, ткнулась ему в грудь мокрым горячим ртом и перестала дрожать.
По утрам Дима стал сам гулять с Глашей: Лиза не могла проснуться.
Потом возвращался, обнимал ее, сонную, почти родную, гладил по голове, целовал красные измученные глаза. Иногда она улыбалась сквозь сон.
Однажды утром она посмотрела на него как-то затравленно и тоскливо и сказала:
– Сделай мне ребенка. Пожалуйста, сделай мне ребенка.
У нее было немного опухшее от сна лицо. Тоже какое-то детское.
Дима почувствовал, что у него странно дрожат руки. Он расстегнул рубашку и глупо сказал:
– Сейчас, сейчас сделаю.
* * *
Память так и не вернулась. Но память была ему больше не нужна. Свою незнакомую, странную женщину с длинными худыми ногами, с круглым животом, с новой короткой стрижкой (волосы плохо лежали из-за беременности, пришлось отрезать) он любил недавно, и у этой любви еще не было прошлого. Разве что совсем коротенькое: семь месяцев – чтобы привыкнуть, приноровиться, узнать, что ей нравится, а что нет; чтобы послушать, «как он там толкается», чтобы каждый день покупать полную сумку мандаринов.
Но сквозь это свежее, неожиданное настоящее и сквозь счастливое ожидание – всё время настырно маячило что-то; упрямо высовывалось из-за ожидающих своего часа погремушек и распашонок. Оно, это что-то, не то чтобы сильно мешало, но просто раздражало и порядком портило настроение. Точно невыполненное обещание, которое теперь уже и не вспомнишь, кому и когда давал. Точно мелкое, неважное дело, оставленное на потом, навечно незавершенное. Или обидные слова, на которые сразу не ответил и которые теперь раз за разом прокручиваешь в голове, подыскивая самый лучший, самый хлесткий ответ.
– Просто посмотреть. Мне нужно просто посмотреть. На этот город, Лиза, ты должна понять меня, успокойся, не плачь, ты же не хочешь навредить ребенку, я всё равно вернусь, кого бы я там ни встретил, что бы ни увидел, Лиза…
Она говорила: сейчас нельзя этого делать. Она говорила: я не могу объяснить почему, просто нельзя ехать туда сейчас, это неправильно, это не по правилам. Она плакала и говорила: не надо, не надо, не надо. Будет очень плохо.
– Тебе сейчас положено капризничать. Но я всё же поеду. Лиза, это как раз правильно – нужно же мне наконец избавиться от этого бреда! Я просто пойму, что никогда там не жил и никого там не знал. Всё будет хорошо.
* * *
Всё узнал сразу.
Без любви и без удивления, просто узнал. «Ростовчане всех стран – соединяйтесь!» – полоумный призыв на красно-синем плакате. Большая Садовая. Здание городской Думы – гигантский кремовый торт, белый с салатовым. Кинотеатр «Киномакс» с решетками на окнах, похожий на районную поликлинику: здесь они с Катей смотрели вторую «Матрицу».
Дима медленно подошел к своему дому, завернул за угол и остановился. Мать сидела на лавочке у подъезда. Вместе с Катей. Они о чем-то оживленно беседовали и смеялись, миттель остервенело носился вокруг. Они по очереди кидали ему палку.
Они действительно существовали. Они смеялись. Они не были в трауре, не обзванивали поминутно больницы и морги и не рыдали друг у друга на плече. Года еще не прошло с тех пор, как он пропал из их жизни, а они смеялись и играли с собакой. Мать выглядела даже несколько помолодевшей, подтянутой. Ничего общего с той одинокой больной старушкой, потерявшей сына, которая столько месяцев посещала Диму в ночных кошмарах, манила дрожащим пальцем, платочком протирала слезящиеся глаза. Катя совсем неприлично растолстела; под просторным бесформенным балахоном добродушно повиливал великанский зад.
Они его не видели. Дима немного потоптался на месте и сделал несколько нерешительных шагов в их сторону. И тут вдруг заметил еще кое-что.
Коляска. Синяя детская коляска, самая обычная; она стояла рядом с ними.
Катя тяжело поднялась со скамейки, вперевалочку подошла к коляске, вытащила оттуда большого, запеленатого в розово-голубое младенца. Мать и миттель засуетились рядом.
Дима осторожно зашел за дерево и еще с минуту смотрел на них, счастливых, чужих, оттуда. Подходить ближе не стал: не хотелось приглядываться к лицам, слышать голоса, объяснять, требовать объяснений. Пусть в его новой памяти они останутся такими, как сейчас: похожими, страшно похожими, но не теми.
Дима отправил Лизе sms (“privet! nikogo ne nashel, nichego ne vspomnil, tseluyu, edu domoy”) и не спеша побрел в сторону вокзала. По дороге зашел в зоопарк, посмотреть на своих любимых птиц.
Несколько бакланов грустно прохаживались туда-сюда, рассеянно ковырялись клювом в воде. Метрах в десяти от них стояли зачем-то огромные зеркала.
– Отойдите, не мешайте съемке! – чья-то уверенная рука отодвинула Диму в сторону.
На Димино место встал плотный невысокий человек в очках, с микрофоном. Рядом пристроился второй, с камерой.
– Прекрасная птица баклан – гордость ростовского зоопарка, – елейным голосом сообщил человек в очках. – Но беда в том, что в неволе от нее очень сложно получить потомство. Ведь бакланы размножаются только в колониях. Двадцать птиц – это не колония. Для колонии требуется хотя бы сто. Для того чтобы создать у бакланов ощущение большой колонии, руководство зоопарка установило для них зеркала. Будем надеяться, что благодаря этому прекрасная птица баклан в скором времени даст зоопарку потомство.
Диме стало жалко бакланов. Они явно чувствовали себя очень неуютно, затравленно озирались на мужичка с микрофоном и совсем не хотели давать потомство. На зеркала бакланы смотрели совершенно безразлично и, судя по всему, просто их не замечали. А может быть, отказывались считать собственные отражения соседями по колонии.
* * *
Как только поезд тронулся, зачирикал мобильный. Звонила подруга Лизы: совершенно замогильным голосом она сообила, что у Лизы начались преждевременные роды и ее отвезли рожать в роддом № 16.
– Скажи ей, что я приезжаю завтра! – заорал Дима. – Завтра!
Связь прервалась. Он посидел немного в купе и поплелся в вагон-ресторан за сигаретами.
Дима зашел в тамбур, прислонился к стене и глубоко затянулся. В привычной тамбурной затхлости отчетливо чувствовался какой-то еще, совсем неуместный здесь запах.
Она стояла в тамбуре и курила. Рыжая девушка, та самая. Дима бросил недокуренную сигарету на пол.
– Ну, привет, – процедил сквозь зубы, по возможности угрожающе. – Давно не виделись.
Шумно шагнул к ней, вцепился рукой в рыжие патлы, прижал к зарешеченному окну:
– Ты какого черта тут делаешь?
– Я… тут работаю… на этом маршруте… пусти!
– Деньги отдавай, сука… и всё остальное. – Дима налег сильнее.
– Денег уже нет, – не слишком испуганно ответила рыжая. – А все остальное отдам! Только сначала пусти!
Дима ослабил хватку и отошел на шаг.
– Ребята-а-а! – истошно заорала Рыжая. В тамбур оперативно ворвались двое смуглых крепышей; один галантно обнял ее за плечи, второй с ходу двинул Диме в нос. Поезд в этот момент качнуло, и Дима тяжело повалился на заплеванный бурый пол.
– Завтра я тебе всё отдам! – весело засмеялась Рыжая, выскакивая из тамбура. Крепыши остались.
Дима размазал по подбородку кровь и стал, пыхтя, подниматься на ноги. Толстая резиновая подошва, с узором в елочку, на секунду мелькнула перед глазами и смачно впечаталась в лоб. Дима снова повалился на спину. Тот, что обнимал Рыжую, присел рядом с Димой на корточки, ловко извлек из его кармана мобильный. Потом сказал:
– Сиди тихо.
Дверь тамбура с грохотом захлопнулась. Дима еще с минуту посидел тихо и уполз в туалет смывать кровь.
* * *
Маленькая миловидная медсестра с прыщиками на носу снова испуганно покосилась на Димину разбитую физиономию и снова зашебуршалась в бумажках.
– Нет, точно нет.
Елизавету Геннадьевну Прокопец в роддом № 16 не привозили. Дима вышел на улицу и собрался было звонить Лизиной подруге, но понял, что номер ее телефона исчез вместе с мобильным.
– Два пять семь. Черт, два пять семь, – вслух сказал Дима.
Код не срабатывал. Наконец из подъезда вышла старушка, ойкнула, посмотрев на Диму. Дима отодвинул ее в сторону и ломанулся внутрь. Подошел к своей квартире и с изумлением уставился на новенькую железную дверь. На всякий случай ковырнул в скважине ключом. Ключ не подошел. Дверь, впрочем, открылась – изнутри. На лестничную клетку недружелюбно шагнула толстая лоснящаяся туша в тельняшке.
– Я вас слушаю, – мрачно сказала туша и угрожающе почесала шерсть на груди, под полосатой тканью. Дима аккуратно заглянул туше за спину, в дверной проем. Незнакомые обои с фиолетовыми ромбиками.
Только после того, как алкоголик Гриша заверил Диму, что год назад завязал, и попросил «ему не тыкать»; после того, как Дима безрезультатно сходил по всем известным ему адресам и столь же безрезультатно позвонил по всем известным телефонам, – только после этого Дима пришел в милицию и заявил, что у него пропала жена.
* * *
– Да какая у тебя, на хуй, жена? – монотонно повторил потный усатый мент.
– Где твоя регистрация? Кто тебя нанял расклеивать эти объявления? – Второй мент, лысый, с густыми черными бровями, аккуратно выложил перед Димой его паспорт с ростовской пропиской и знакомое «Вам не с кем поделиться проблемами? Вас посещают страшные фантазии? Вы не тот человек…».
– Из-за тебя, сука, женщину изнасиловали! – взревел усатый и швырнул поверх объявления фотографию. На фотографии красовалась, вся в синяках и ушибах, дама, которая хотела воспитать дога.
* * *
Били долго, до вечера, но в итоге все-таки отпустили. Полуживой, Дима добрался до Курского вокзала и купил билет в Ростов-наДону.
* * *
– Ну, вот и папа вернулся, – сказала Катя и сунула Диме в руки визжащий, дрыгающийся сверток. – А что так долго? Очередь была? И что у тебя с лицом?
Миттель равнодушно обнюхал Димину штанину. Сверток неожиданно замолчал. Маленькое красное лицо судорожно сморщилось, потом разгладилось, и на Диму безо всякого выражения уставились воспаленные равнодушные глаза.
– А у нас – диатез, – сообщила Катя. – Ужинать будешь?
Ночью Дима долго ворочался на узкой кровати. С отвращением упирался лбом в чужое, с резким запахом чужого пота, Катино плечо. Наконец устроился, ровно задышал.
Во сне он увидел Лизу. Худую, длинноногую, грустную, бледную. В руках у нее был аккуратно завернутый в детское одеяльце игрушечный младенец. Неподвижный резиновый пупс с восковым лицом и красными кругляшами щек.
Она качала его на руках, быстро-быстро, со странным деревянным скрипом.
– Тебе надо петли смазать, – тоскливо, чуть не плача от нежности говорил ей Дима.
Она не слышала. Она качала ребенка и всё повторяла:
– Дима, возвращайся.
– Дима, приезжай.
Марина Степнова
Марина Львовна Степнова родилась в 1971 году в г. Ефремов Тульской области.
Закончила Литературный институт им А. М. Горького и аспирантуру Института мировой литературы (ИМЛИ).
Шеф-редактор мужского журнала “XXL”.
Как прозаик дебютировала в 2003 году в журнале «Новый мир».
Автор книг «Хирург» (М.: АСТ, 2005), «Женщины Лазаря» (М.: Астрель, 2011).
Роман «Женщины Лазаря» в 2012 году вошел в шорт-лист премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».
Татина Татитеевна
После второй операции стало ясно, что она безнадежна.
Галина Тимофеевна поняла это, как только зеленоватый, прорезиненный от наркоза воздух вернулся в ее иссеченный швами живот. Тихонько жужжал обезжиренный свет палаты интенсивной терапии, расплывалось, неверно двоясь, доброе, округлое, словно бутон, лицо Тамары Алексеевны, ее лечащего врача, и неторопливо, исподволь, осторожно трогая тяжелой лапой и опять выжидательно замирая на месте, возвращалась боль.
Болело то намученное место, которое раньше звалось желудком и которое уже унесли в эмалированном стерильном тазу – по прямым, безапелляционным коридорам онкологического института – куда-то в сторону отделения патоморфологии, хотя и без дополнительного исследования было ясно, что у Галины Тимофеевны – рак, который в ближайшие месяцы сгложет ее окончательно, если только прежде она не умрет от голода.
У Галины Тимофеевны теперь не было желудка – крошечная культя, заботливо сшитая из лоскута пищевода, вряд ли могла бы прокормить даже новорожденного котенка. Но зато у Галины Тимофеевны было двое детей – двенадцатилетняя Лиза и четырнадцатилетний Герман, муж с аккуратной бородкой неудачника, старый больной отец, тридцать четыре года прошлого и – по самым оптимистичным прогнозам – три месяца непрекращающейся боли впереди.
И Галина Тимофеевна изо всех сил начала жить. Всё как будто осталось прежним – она вернулась домой и привычно впряглась в уютное семейное ярмо, провожая мужа на работу, проверяя Лизины сочинения и мучаясь над физикой Германа. Галине Тимофеевне хотелось остаться в их общей памяти самой обыкновенной заурядной мамой, а не пожелтевшим невесомым телом, бесплотно распластанным в полумраке спальни. И поэтому она, как и раньше, честно готовила домашним завтраки, ужины и обеды с тройным сюрпризом, когда у каждого возле прибора вдруг оказывалась толстая сдобная куколка с изюмными глазками или крошечный многоэтажный бутербродик, насквозь пронзенный цветной игрушечной шпажкой…
Это было очень трудно, потому что приходилось весь день двигаться в потоке вялой, густой, мутной боли, которая с незаметным ласковым постоянством всё усиливалась и напирала, так что к вечеру Галина Тимофеевна обычно брела, погрузившись в болевой поток по самую шею. Боль умела немного укрощать только Тамара Алексеевна при помощи дефицитных уколов и громоздких урчащих аппаратов, но к Тамаре Алексеевне можно было приходить только два-три раза в неделю. И непрерывно хотелось еть.
Какое-то время Галина Тимофеевна еще могла проглотить немного жидкой каши или младенчески перетертого мясного пюре, но культяпка, играющая роль желудка, упрямо сопротивлялась, число глотков уменьшалось с каждым днем, и уже через месяц после второй операции Галина Тимофеевна перешла на воду и слабенький бульон. Еще через два месяца она была похожа на узницу лагеря смерти и ослабела так, что готовила сидя на табуретке – привалившись костлявым боком к теплой газовой плите и двумя руками пытаясь удержать невесомую алюминиевую шумовку.
Один раз она все-таки не сумела сдержаться. Муж всё чаще задерживался вечерами где-то на окраине своей собственной жизни, но Галина Тимофеевна, не жалуясь, ждала, покорно, раз за разом, разогревая ужин и понимая, что ей, собственно, давно уже пора, что даже врачи, встречаясь с ней в коридорах онкологического института, недоуменно и недоверчиво округляют глаза, и приходится, извиняясь и пряча лицо, объяснять – да, это всё еще я. Всё еще я. Простите.
У нее уже проступили челюстные мышцы, как у настоящего трупа или полуободранной гипсовой человеческой головы, по которой студенты-медики изучают анатомию, но вечером всё так же мирно мурлыкал телевизор, переругивались в своей комнате вовремя накормленные дети, и всё так же – в ожидании хозяина – исходила тонким паром тарелка на обеденном столе. Синяя тарелка с большой, смуглой от жира котлетой и полупрозрачной, ломтиками обжаренной картошкой, от которой невозможно было отвести глаз.
Муж пришел в тот вечер совсем поздно и пьяный, хотя вообще-то не пил, не умел – мигом перебирал положенную дозу и, хихикая, начинал петушиться, говорить присутствующим дамам галантности и, промахиваясь, прикладываться к ручке. Галина Тимофеевна засуетилась. Поправила скатерть, торопливо пригладила полувылезшие от химиотерапии пегие жалкие волосы, пододвинула тарелку и потащилась, придерживаясь за стенку, на кухню за свежим хлебом и горчицей. Но не успела – муж поймал потемневшую косточку, которая теперь служила Галине Тимофеевне запястьем, и вдруг зашипел, мелко тряся пятнистым от ненависти лицом: когда же ты наконец подохнешь… КОГДА. НАКОНЕЦ. ПОДОХНЕШЬ.
И тогда Галина Тимофеевна, задыхаясь, схватила с тарелки котлету и, давясь, принялась обеими руками заталкивать ее в рот.
Потом ее долго, мучительно и обстоятельно рвало. Перепуганный, мигом протрезвевший муж всё совал к затылку переплескивающую через край чашку с водой, блаженно холодил лоб фаянсовый ободок унитаза, и Галина Тимофеевна, краем сознания ощущая, как в голос – на ы-ы-ы-ы! – рыдает в комнате ничего не понимающая Лиза, всё расстраивалась, что кафель в углу туалета совсем зарос липковатой желтой грязью, а сил дотянуться нету, и, значит, женщина, которую скоро приведет сюда муж, будет считать ее плохой хозяйкой.
Но больше, чем от голода и животной, изнурительной боли, Галина Тимофеевна страдала от того, что не сможет разделить с детьми их будущее горе. Герман и Лиза оставались совсем одни. И хотя Галина Тимофеевна знала, что пройдут недели и месяцы долгой, кропотливой работы памяти, прежде чем они осознают, что случилось, у нее мелко-мелко и тяжело дрожало всё внутри исполосованного живота при мысли о том, как будет больно Лизе найти в шкафу ее старенький халат или давно забытое платье, как она будет плакать и не понимать, почему от вещей по-прежнему пахнет мамой, а мамы больше нет, и как долгие годы – целую жизнь – Лиза будет одна перебиваться в неродном, никому не нужном мире.
Поэтому Галина Тимофеевна, собрав жалкие остатки сил, принялась методично уничтожать о себе всякую память. Одежду поплоше и постарее, мелкие пустяковые сувениры, студенческие конспекты и помутневшие от времени фотографии она, поминутно останавливаясь, чтобы перевести дух и проглотить огромное мучительное сердце, отнесла на помойку. Кофточки и платья получше, купленные перед болезнью и едва надеванные, Галина Тимофеевна решила подарить знакомым. Она торопилась задобрить всех, кто знал и любил ее, чтобы хоть несколько капель всеобщей жалости перепало потом ее детям.
Галина Тимофеевна понимала, что выглядит плохо. Не просто плохо – а так, как не должен, не может, не смеет выглядеть живой человек. И потому старательно пыталась хоть немного приукрасить себя – чтобы не отпугнуть, не ужаснуть людей, которые, как она надеялась, не забудут после ее ухода Германа и Лизу. Она с кропотливым, неведомым прежде старанием подкрашивала бледные плоские полосочки, которые раньше были ее губами, старалась уложить невесомые пряди, чтобы не так жутко сквозила сквозь них желтая, пятнистая кожа головы, и даже душилась из маленького флакончика, который подарил ей на последний день рождения муж. Тогда он еще поцеловал Галину Тимофеевну в губы и при гостях попросил родить ему – для количества – маленького Вовку.
Все так много смеялись и ели в тот вечер, что у Галины Тимофеевны впервые сильно разболелся живот, но всё равно было очень весело, и гости шумно зааплодировали, когда розовая от гордости хозяйка вынесла из кухни огромный, как тележное колесо, торт «Наполеон» в тридцать четыре коржа, а приятельницы все выспрашивали, как это Галочке – при эдаких кулинарных способностях – удалось так замечательно похудеть.
Галина Тимофеевна понимала, что ее уловки бессмысленны и унизительны, но упорно останавливала брезгливо шарахающихся соседок, звонила коллегам и бывшим сокурсникам – и всё это жалко дрожа, обмирая, задыхаясь от тайного, но всем понятного речитатива: Герман и Лиза, Герман и Лиза, Лиза, Лиза…
Ее попытки сплести детям удобную и покойную сеть покровителей и друзей напоминали вязание – быстрое стрекотание суетливо сияющих спиц, мгновенный бросок воздушной петли и рождение сложного сквозного узора. Одна из петель этого узора захватила даже дочку Тамары Алексеевны, и, как это ни странно, Галина Тимофеевна возлагала на эту чужую, необыкновенно живую барышню, изучавшую в университете французский язык, свои самые отчаянные и большие надежды.
Дело было в отношении к жизни, неудержимо убегавшей сквозь постоянно воспаляющийся брюшинный шов, и в том, что дочка Тамары Алексеевны была красавицей.
Галина Тимофеевна подружилась с Тамарой Алексеевной еще после первой, так много обещавшей операции. Операция лишила Галину Тимофеевну двух третей желудка и взамен подарила последнюю подругу, потому что Тамара Алексеевна – вопреки священной клятве Гиппократа – привязалась к своей тихой полупрозрачной пациентке так, как не следует привязываться ни к кому, если ты, конечно, работаешь в онкоинституте.
Подгоняемые напирающим на Галину Тимофеевну временем, они в считаные недели дошли в своей взаимной жалостной нежности до таких запредельных торжественных высот, что обе не знали, что делать дальше. Пытаясь хоть что-нибудь исправить, Тамара Алексеевна даже всякими полууголовными способами добывала для Галины Тимофеевны морфин, за каждую ампулу которого сначала расписывалась в бесконечных ведомостях, а потом тайком совала в молодые накрахмаленные халатики вчетверо сложенные купюры и долго держала под пересохшим языком шершавую ледяную таблетку валидола.
Иногда морфин помогал, получившая недолгую передышку Галина Тимофеевна, слабо улыбаясь, присаживалась на своей плоской клеенчатой кушетке, и они с Тамарой Алексеевной принимались взахлеб, всхлипывая и перебивая друг друга, разговаривать о своих детях.
Однажды, на самом пике их рыдающего диалога, дверь кабинета распахнулась, и – ожившей подвижной иллюстрацией – ворвалась дочка Тамары Алексеевны и, как и полагается настоящей иллюстрации, в жизни оказалась гораздо ярче и одновременно проще самых страстных материнских рассказов.
Вся сливочно-золотая, стремительная, она без тени животной и вполне ожидаемой брезгливости расцеловалась с Галиной Тимофеевной, поблагодарив ее за подаренную блузку. Блузка, опалово-бледная, с воланами, – лучшее, что нашлось в умирающем шкафу Галины Тимофеевны, – присутствовала тут же, туго натянутая бодрой молодой грудью и прямыми сильными плечами. Покончив с официальной частью знакомства и мимоходом потеревшись щекой о материнские волосы, дочка Тамары Алексеевны преспокойно бросила узкое модное тело на свободную кушетку и принялась уверенно и оживленно рассказывать о картавых и никому не известных версификаторах, которыми имела честь заниматься в своем институте.
Она болтала, то кусая за упругий бочок извлеченный из студенческого рюкзака бублик, то отбрасывая с лица тяжелые прямые волосы, с каким-то фантастическим, гладким, ртутным переливом внутри, и время от времени – со дна журчащего необязательного разговора – улыбалась матери и Галине Тимофеевне влажными голубоватыми зубами.
Дочка Тамары Алексеевны не стеснялась, не играла, не кокетничала своей причудливой инопланетной красотой, она просто жила – с великолепной естественностью здоровой кошки, которая и не подозревает, каким сложным зеркальным блеском отливает на солнце ее праздничная шубка. Впервые за время своего затянувшегося рака Галина Тимофеевна видела существо, которое вело себя рядом с ней так, будто ВСЁ БЫЛО НОРМАЛЬНО.
От благодарности и сдобного запаха теста (дочка Тамары Алексеевны машинально предложила кусочек и Галине Тимофеевне, но тут же легко исправила оплошность одним теплым извинительным прикосновением ладони) Галина Тимофеевна испытала что-то вроде блаженного обморока. Она вдруг сразу и окончательно поверила в то, что нашла для своих детей идеальную гавань.
Вопреки всем законам природы дочка Тамары Алексеевны охотно согласилась давать Лизе и Герману уроки французского языка, и теперь два вечера в неделю Галина Тимофеевна, затаившись от опасливого счастья, слушала, как переливаются в детской роскошные грассирующие фразы и на дне каждой прыгает отчетливо дрожащий зеркальный смешок – не то французский, не то собственный, заводной и веселый, смешок молоденькой гувернантки.
Дети влюбились в приходящую красавицу с прозрачными и пушистыми, как крыжовник, глазами со всем зоологическим бессердечием, на которое были способны. Герман, пятнисто рдея щеками и лбом, с неожиданно прорезавшимся мрачным, мужским пылом зубрил неправильные глаголы, а Лиза часами вертелась перед большим овальным зеркалом в прихожей, пытаясь заставить слабые прозрачные кудряшки лечь вожделенной ртутной волной. Мать, почти с головой погруженная в темноту одинокой голодной боли, была забыта простодушно и навсегда. Галина Тимофеевна была счастлива.
Впервые в жизни проявив характер, она слабым свистящим шепотом запретила дочке Тамары Алексеевны, Герману и Лизе появляться в ее последней (три крайних окна второго облупленного этажа) онкологической палате. Галина Тимофеевна не хотела прощаться. И до последнего дня, уже едва способная шевелиться, при помощи набухшей от слез Тамары Алексеевны в назначенный час добиралась до окна и, вцепившись костенеющими пальцами в раму, покрытую грубой коростой осыпающейся краски, смотрела мокрыми невидящими глазами, как ее дети гуляют по роскошному осеннему парку онкологического института. Три крепко взявшиеся за руки фигурки в расплывающихся от слез ярких плащах. Ее дети.
Момент перехода Галина Тимофеевна едва ощутила – просто мгновенный и обморочный укол, словно во сне, когда всем оборвавшимся сердцем оступаешься на чудовищной высоте и тут же мягко и упруго планируешь на невидимых крыльях – на самое дно разреженного сном воздуха. И никакого света в конце тоннеля, головокружительного полета и одушевленного шепота усопших – ничего, кроме бесконечного одинокого ожидания в пустом зальчике убогой привокзальной почты.
Первое время звонков было много, и Галина Тимофеевна едва поспевала переходить из одной облупленной кабинки в другую, прислушиваясь к далеким, прерывающимся голосам, но телефонные мембраны становились всё непроницаемее, а кабинки – всё призрачнее, и она подолгу застывала на неудобном казенном стуле с холодной пластмассовой спинкой, беспокоясь и схватываясь при каждом коротком переливчатом треньканье. Но связь барахлила, и Галина Тимофеевна со слабой, виноватой улыбкой опять опускалась на свой стул и всё комкала в иссохшей лапке маленький влажный платочек с красным, похожим на паука цветком, который Лиза вышила на уроке труда в четвертом классе.
Потом звонки прекратились вовсе, и Галина Тимофеевна впервые почувствовала тихое, но безостановочное движение внутри и вокруг себя, словно она лежала на дне настойчивого ручья и погружалась всё глубже и глубже, протягивая немые полуразмытые руки к зеленоватой, клубящейся поверхности и растворяясь в теплой, щекотной мути. Дольше всего держалось в памяти дрожащее изображение Лизы, но и она, вопреки логике всё еще существующего где-то времени, не взрослела, а становилась меньше, бесцветнее, пока, наконец, не притаилась щекотной рыбкой внутри опустевшего материнского живота. И Галина Тимофеевна поняла, что больше не помнит своего имени. Тогда, сделав судорожное, отчаянное усилие, она встала и, тяжело раздвигая кисельный, загнивающий воздух, побрела к немой, струящейся телефонной будке.
Дочь Тамары Алексеевны проснулась, вздрогнув всем потяжелевшим, подурневшим от поздней беременности телом, и бессмысленными со сна глазами уставилась в медленно розовеющий прямоугольник окна. Томительно вздыхал подобравшийся к самому дому сосновый прибой, и в такт ему ритмично колыхалось загорелое плечо умаявшегося за долгий дачный день мужа. Едва ощутимо, на пределе слуха, зудел в полумраке проголодавшийся комар.
Как же ее звали? Полина… нет, Альбина Матвеевна. Все-таки Полина, а не Альбина. Полина Матвеевна. Татина Татеевна. Или Татитеевна? Полина Татитеевна, Патрикеевна, Алевтеевна, перебирала женщина, нанизывая на невидимую нитку непослушные, забытые бусины.
Комар уловил волну мощного живого тепла и восторженно смолк, пристроившись у подножия рыжего волоска – поближе к зияющему темному кратеру поры. Патрикеевна, Алексеевна, Ти… Мужчина, не просыпаясь, дал себе оглушительно-влажную пощечину и скрутил комара в крошечный липкий комочек. Женщина вздрогнула еще раз, машинально прикрыв ладонями круглый живот. Спи, пробормотал мужчина, тяжело переворачиваясь и прижимая к груди ртутную, слегка светящуюся в предрассветной спальне голову жены. Еще рано. Рано, согласилась женщина, неотвратимо погружаясь в медленные зеленоватые слои сна и чувствуя, как вращается, опускаясь, потолок, обшитый душистой вагонкой, как ходит, осторожно сужая круги, огненная лисица с огромным, тающим в темноте хвостом и всё гуще, всё тяжелее пахнет чем-то сладковатым, знакомым, родным…
В животе ее, засыпая, тяжело толкнулся неясный ребенок, связь со слабым щелчком разъединилась, и Галина Тимофеевна умерла.
Бедная Антуанетточка
Она еще не закончила школу, а ее уже называли в набитых, как авоськи, одышливых трамваях – женщина. Женщина, передайте на билетик, пыжалста! И на полуслове замолкали, недоуменно утыкаясь глазами в коричневое школьное платье с полукружьями белесого пота под мышками, полосатые гольфы, толстые расцарапанные коленки. Ну и корова вымахала. Извини, девочка. Ничего-ничего.
Какое-то время бедная Антуанетточка тайком плакала по темным, чуть подплесневелым углам огромной старой квартиры, объявляла бессильные голодовки, с ненавистью щипала себя за жирные складки на животе и даже перед сном с жалким детским отчаянием просила каких-то смутных сказочных святых смилостивиться и – в виде исключения – совершить одно-единственное, самое маленькое чудо. Но наутро бессердечное зеркало снова отражало всё тот же сально блестевший бугристый лоб, очки, бесцветные брови.
Однажды – в минуту невыносимого подросткового отчаяния – Антуанетточка даже выпила упаковку бабушкиных таблеток от давления, но сама же первая испугалась и долго глотала в ванной теплую воду с марганцовкой, давясь, выхаркивая в хриплый, подтекающий унитаз полурастаявшие желтые облатки и все-таки самым краем слепого, слезящегося глаза замечая, какими чудесными, причудливыми, лиловыми клубами распускаются в литровой банке не до конца растворившиеся кристаллики калия марганца О четыре.
Никто так ничего и не узнал об этом глупом, полузанесенном песком и временем случае. Никто ничего и не узнает. Антуанетточка поняла это, распухшая, кашляющая, перепуганная, вцепившаяся обеими руками в содрогающееся, немеющее горло. Надо учиться жить, приспосабливаться. Ты думаешь, кому-нибудь легко? Всем сейчас трудно. И мне. И тебе. А бабушке, царствие ей небесное? И вообще, жизнь прожить – не поле перейти, объясняла вечерами мама, торопливо сдергивая с головы колючие розовые валики стареньких бигуди и невнятным сдобным голосом цитируя совершенно неведомого ей Пастернака. И от этой никем не узнанной, оборванной, сиротской цитаты, от быстрого сухого звука, с которым ненужные больше пластмассовые ежики летели в картонную коробку из-под давно сношенных и беспощадно выброшенных туфель, и от запаха томящейся под крышкой жареной картошки было как-то особенно грустно.
Напоследок мама быстро красила перед зеркалом губы, сильно напрягая подбородок и изумленно вскидывая круглые карие брови – словно не понимая, откуда у нее, свежей, как кочан едва подбитой морозцем капусты, аппетитной хохотушки, такая мрачная и – будем откровенны – абсолютно, ну просто ап-са-лют-на непривлекательная дочь.
«И в кого ты у меня такая?» – в очередной раз вслух удивлялось зеркало, уже готовое, праздничное, яркое, как салют, – алое платье, розовые ногти, лиловые губы, – крепко надушенное бодрой граненой «Красной Москвой», и дверь облегченно хлопала. Бедная Антуанетточка привычно вздыхала и, прихватив из холодильника целое кольцо смуглой краковской колбасы, плелась к своему креслу.
Возможно, всё бы вообще сложилось иначе, и Антуанетточке даже удалось бы спастись, распластавшись по сырой стене тоннеля так, чтобы судьба, грохоча и роняя каленые искры, пронеслась мимо – дальше, в пустоту, неизвестность, в бледный предутренний туман. Ведь была же в ней, в конце концов, неприлично здоровая кровь ее неприлично здоровой матери, которой до сих пор свистели под окном солидные работяги в серых добротных кепках – слегка опухшие и лилово, картинно – до самых глаз – небритые, словно угрюмые октябрьские баклажаны.
И Антуанетточкина мама прекрасным молодым голосом кричала из-за шторы: «Иду! Иду, золотко!» – и беспокойными пальцами проверяла крепко скрипящие капроновые икры (на пятке опять поползло, ну что ты будешь делать!) – и работяги снова свистели, грозно, ликующе, требовательно, словно Соловьи-разбойники местного, микрорайонного разлива, и мама, мгновенно отразившись в зеркале, обреченно, освобожденно улетала на этот свист, крупная, торжественная, шелковистая, словно торопящийся к солоду и пиву набоковский лакомка-бражник или иная ночная бабочка редкостной породы.
Всё было бы иначе, если бы не огромное пыльное кресло, в которое Антуанетточка медленно погружалась всё глубже и глубже, придавленная, одурманенная, с очередным растрепанным библиотечным томом на уродливо перезрелых коленках. Пока не достигла самого дна.
Бедная Антуанетточка и сама не заметила, когда свет и тепло настоящей, живой жизни перестали проникать сквозь густую, полупрозрачную толщу прочитанных ею книг. Да и что было Антуаннеточке до настоящей, живой жизни? Медленная, одинокая, безмолвная, она неторопливо парила в питательном бульоне сумеречных литературных иллюзий, иногда – после инородного окрика: Аня, вынеси мусорное ведро! Антонова, к доске! Анита Борисовна, вас к директору! – тяжело поднимаясь на ненавистную поверхность, где никто, никто не знал, что под толстой броней чудовищной плоти бедной Антуанетточки, за ее выпученными рыбьими очками есть, как и было обещано, и цветущий сад, и сумерки, и ворота дворца.
Никто никогда не хотел с ней дружить. Не то чтобы среди других играющих детей… Словом, ни лягушки, ни пустые горшки были тут абсолютно ни при чем. Просто бедная Антуанетточка совсем не умела быть живой. Хрупкая детская лопаточка звонко лопалась в тяжелых, нежных Антуанетточкиных лапах – ало-сахаристая на сломе, как переспелый краснодарский помидор, – и таким же алым надтреснутым ревом наполнялись глотки соседских девочек, маленьких кудрявых кукол в платьицах, похожих на букеты и облака.
На отчаянные детские крики прибегали перепуганно квохчущие мамаши, на мгновение затмевали головой грозно налившееся солнце, и еще через минуту бедная Антуанетточка уже сидела в осиротевшей деревянной раме песочницы совсем одна – среди полурастоптанных песочных куличиков, дрожащего воздуха и липкого тополиного пуха. Что это ваша Анечка всё одна и одна? Ребенку необходимо проявлять себя в коллективе. Да вы знаете… Аня, не стой столбом. Иди к девочкам – не видишь, взрослые разговаривают!
В школе бедная Антуанетточка, несмотря на чудовищный груз убитых и полупереваренных ею книг, училась плохо – вечно сонная, мятая, закисшая, заливающаяся пятнами огненной, болезненной красноты. Никакая. Ее старались вызывать пореже – она вставала с медленным сырым вздохом, угрюмо глядя в сторону захватанными линзами, тесное платье немилосердно резало под мышками, в щеку звонко впечатывался мокрый катышек жеваной бумаги. Бедная Антуанетточка привычно, как муху, смахивала его и молча опускалась на скрипнувший стул – преодолевая мрак, океан, вьюгу. Садись, Антонова. Плохо. Опять двойка.
Может быть, всё дело было в отце? Ведь был же у бедной Антуанетточки и отец, черно-белый, настенный, искусно обрамленный деревянной рамочкой и навеки приплюснутый сверху леденцовым, зеленоватым пластом не очень качественного стекла, вечно залитого то полуденным солнцем, то пятирожковым светом ужасной люстры с мутноватыми гранеными висюльками. Так что бедная Антуанетточка, задирая к стене оснащенную визгливым капроновым бантом голову и благоговейно ковыряя пальцем стенную побелку, была вплоть до старшего детсадовского возраста уверена в том, что огненный мрачный лик с наспех набросанными скулами и демоническими провалами вместо глаз – это и есть ее папа, злодей и полярный летчик, пребывающий в бессрочной командировке в стране настоящего Северного Сияния.
К третьему классу средней школы у фотографии прорезался щедрый лоб с легкими политкорректными залысинами, насмешливые, твердые губы и полосатый галстук, завязанный чуть-чуть – самую малость – вольнодумным узлом. Командировка к тому времени давно стала скоропостижной – и угол портрета украшал маленький черный бархатный бантик, споротый мамой с устаревшей бабушкиной шляпки и потому сидевший на рамочке со всей неуместной легкомысленностью кокетливой женской вещицы.
Когда бантик запылился до пепельной пушистости и утратил даже намек на былую траурность, четырнадцатилетняя Антуанетточка взгромоздилась на сдавленно ахнувшее кресло и решительно сняла отца со стены. Неаккуратно вскрытая маникюрными ножницами рамочка обнаружила мутноватый снимок смазливого мужчины средних лет с выразительным партийным подбородком. Типографская надпись на обороте сдержанно сообщала: «Артист Омской государственной филармонии Ю. Н. Абрамов».
Северное сияние яростно и прощально полыхнуло на горизонте, на миг высветив остов погибшего самолета, навеки впаянный в полупрозрачную, как леденец «Театральный», вечную мерзлоту, – и бедная Антуаннеточка, всхлипнув, сунула бесстыдную фотографию в щель между пыльным подлокотником и продавленным сиденьем старого кресла – словно в заброшенный почтовый ящик на окраине вымершего городка. На деревню папочке, Ю. Н. Абрамову.
Что ей оставалось после этого, кроме книг?
К выпускному классу бедная Антуанетточка вдруг жадно – и всё так же неведомо для окружающих – увлеклась историей, особенно восемнадцатым веком, жестоким, пудреным, капризным.
«…И в таком случае пересекаются в точке экстремума», – наждачным голосом объясняла сухопарая математичка, перекрикивая надсадно гудящую в матовом плафоне муху, и бедная Антуанетточка прикрывала влажные веки, внутри которых крохотным огненным шаром вздувался дворцовый переворот, сладко пахла пачулями и кровью насквозь пронзенная шпагой записка, и графиня с изменившимся лицом бежала к пруду. Антонова, очнись. Опять спишь на уроке! Что я сейчас сказала? Повтори…
Но страсть была сильнее бедной Антуанетточки. Историк, бритый язвительный старик, похожий на гипсовый бюст Вольтера, едва ли не единственный на свете человек, догадывающийся, какие черные звезды разрываются в груди неуклюжей слоноподобной девочки с четвертой парты (первый ряд, облупленный подоконник, солнце, распятый за окном тополь, городская свалка, полдень, конец тысячелетия, тоска), искусно науськивал Антуанетточку на будущий вуз, суля неясные и сладкие перспективы, гробовую тишину читальных залов, гранитный хруст контрабандно пронесенного с собой печенья, первую публикацию, последнюю монографию, зеленую лампу, почтительный некролог.
От неожиданно прояснившегося будущего бедная Антуанетточка даже ненадолго и как-то болезненно ожила – словно кто-то мягкой, ловкой рукой навел резкость на окружающие ее чудовищные вязкие тени, и из привычной серой мути вдруг выплыла вполне определенная, мощенная теплым желтым кирпичом тропинка, ведущая во вполне определенный, живой, человеческий лес.
Вдруг оказалось, что Антуанетточка умеет разговаривать, торопливо глотая круглые гласные и пузыря слюну в уголках слабого рыбьего рта. В пятницу на истории я буду делать доклад про Марию Антуанетту, ты придешь? Ошарашенные одноклассники – надо же, с чего это наша слониха вдруг так активизировалась! – на секунду прерывали пулеметную болтовню, пожимали плечами, и бедная Антуанетточка спешила дальше, расталкивая тяжелыми бедрами шаткие школьные парты и давя толстыми ногами собственную робкую тень.
Так значит – в пятницу. Сорок пять минут жила бедная Антуанетточка, срываясь, горячась и громко сглатывая слова. Кровавый призрак самой трагической в мире королевы медленно парил за ее правым плечом, туманя очки, сжимая перетруженное горло.
Все было почти кончено, оставались какие-то жалкие дрожащие мгновения, и, наконец, упал наискось обрезанный ритуальный каменный нож и палач в полотняном балахоне рывком выхватил из корзины отрубленную голову, чтобы показать ее ликующему народу. Голова качнулась в крепкой руке – чудовищная, крошечная, неживая – и вдруг медленно открыла каменные веки. Это была голова несчастной Марии Антуанетты.
Еще секунду класс был накрыт непроницаемой и яркой, как шелковая шаль, тишиной. Полуденное, страшное солнце безмолвно плыло за пыльными портьерами, золотя молодые шеи, белые воротнички, проборы, пылающий дубовый паркет. Безжалостное парадное солнце восемнадцатого века. «Я вижу черный свет», – сказал мертвый Виктор Гюго. Их штербе. Я мыслю, следовательно, я умираю.
И вдруг где-то на камчатке, в районе запыленного шкафа с методическими пособиями, кто-то не выдержал и тоненько, с подвизгом, хихикнул. Через минуту в классе хохотали все. Даже вольтероподобный историк поддался и мягко заухал, прикрывая классным журналом старческий синевато-фарфоровый рот.
Бедная Антуанетточка почувствовала, как потная волна смеха больно толкнула ее прямо под комсомольский значок, и – совершенно машинально – улыбнулась. Они были правы, конечно. С историей было покончено. И теперь уже окончательно и навсегда.
«Все ж, дочка, поближе к деньгам – оно спокойнее», – рассудила мама, вымешивая на кухонном столе круглое, охающее тесто для яблочного пирога, и Антуанетточка поступила на бухгалтерские курсы.
Неспешное разрушение большой страны пошло Антуанетточке только на пользу – пару лет она поработала на полумертвом молочном комбинате, еще через пару лет комбинат купил оборотливый олигарх. К тому времени из Антуанетточки получилась почти безупречная счетная машина – идеально исполнительная и идеально равнодушная к итоговой колонке ровненьких черных цифр.
К тому же бедная Антуанетточка не сплетничала и не бегала поминутно на лестничную клетку – делать круглые глаза и обсуждать за сигаретой новую жену олигарха, молоденькую бледноволосую куклу, которая иногда приезжала на комбинат и быстро-быстро проходила коридорами, шурша шелковыми коленками и поглядывая на всех немного испуганными и невероятно живыми глазами. Бедная Антуанетточка просто не курила. И ей повысили зарплату. Потом еще раз. И – спустя некоторое время – еще.
Этого было более чем достаточно. Даже чересчур. Мама сделала в квартире капитальный и бестолковый ремонт (прощайте, простодушно побеленные стены и пузыри почерневшего линолеума в прихожей!) и даже справила себе мечту всей жизни – монументальную каракулевую шубу с особым – безумно ценным – вальковым завитком. Можно было, конечно, купить что-то посовременнее – щипаную норку (искусно собранную из лапок и лоскутков), серого козлика или даже енота. Но именно черный каракуль (полторы тысячи советских крепеньких рублей!) носила, бередя сердца потребителей, директор маминого магазина, мягкозадая стерва с мускулистым бульдожьим ртом – и участь двух десятков дрожащих новорожденных ягнят была решена.
Шубу мама носила чуть ли не с сентября по июнь – хотя ходить в ней особенно было некуда. Мамин магазин одной прекрасной весной превратили в бутик, непрезентабельный устаревший персонал разогнали, и теперь за огромными витринами – среди десятка одиноких нарядов – утомленно парила стайка воздушных сильфид. И в неслышном оканье накрашенных ртов, в том, как хищно бросались они на каждого случайного посетителя, было что-то удивительно аквариумное, рыбье.
Да. Поэтому шубу приходилось выгуливать только до предподъездной лавочки с пенсионерками да до поликлиники: у мамы поджимало сердце, прыгало – как каучуковый мячик – давление. «Вот климакс проклятый, – жаловалась она дверце духовки, с кряхтением вынимая из пылающего жерла сковороду котлет и тряся огненными, накаленными щеками, – никакого житья от этого климакса нету… А дура-докторша одно знает – холестерол-холестерол».
Летом – в самую огненную сердцевину дня – бедной Антуанетточке позвонили на работу – в таких случаях почему-то всегда звонят на работу. «Анита Борисовна? – осведомился торопливый, с легким металлическим привкусом голос. – Ваша мама в пятьдесят второй больнице. Что вы говорите? Да, сердце. Инфаркт».
Маму хоронили в страшную жару. В налитых огнем ртутных пробирках заоконных градусников бессильно плавился обезумевший Цельсий, изнемогали под мертвыми кустами, вывалив серые, обложенные языки, тусклые, пыльные дворняги, и только шоколадные конфеты, которые Антуанетточке велели на помин раздать притихшим подъездным детям, были твердыми, неподвижными и как будто даже слегка заиндевевшими, как мама, потому что тоже всю ночь, до утра, пролежали в морозильной камере.
Кладбище было бесконечно – огромное, торжественное, пустое, как город, оно дрожало в жидком от жара воздухе, слабо позвякивая жестяными острыми листьями искусственных венков, и в такт ему подпрыгивали в крошечном ритуальном автобусе обитый седовато-черным сатином гроб и совершенно незнакомые Антуанетточке, опухшие, краснолицые, душные люди.
На очередном безжизненном перекрестке автобус резво притормозил и принял на подножку двух могильщиков – рослых, налитых полупрозрачным, крепким, розовым жиром мужиков в гремучих брезентовых штанах. Один из них, помоложе, густо заросший на груди рыжей кучерявой шерстью, весело подмигнул и, отстегнув от пояса крошечный мобильный телефон, тут же принялся названивать какой-то Любушке, притаптывая от нетерпения огромной, босой, серо-глиняной ногой и утробно похохатывая, пока второй мужик, тоже босой, коренастый, с седыми от пыли косматыми бровями, не толкнул его укоризненно в бок черенком лопаты.
Быстро, с какой-то профессиональной, щеголеватой ловкостью забросав могилу комьями закаменевшей глины, они с достоинством взяли потный, принявший форму Антуанетточкиной ладони комок денег и пошли прочь, по-солдатски приняв на плечо текучие от солнца, ослепительные лопаты и неторопливо переговариваясь, пока не растворились наконец в звонко трещащем полуденном мареве, полном цикадных стонов и журчащих звонков далекого мобильного телефона – торжественные и невозмутимые, словно ангелы в огненных нимбах лопатных лезвий.
Следом за ними потянулись и все остальные – какие-то соседские старушки в низких платочках, отсыревшие от слез, безутешно молодящиеся продавщицы из бывшего маминого магазина, неведомые мужики в тесных, липнущих к спине синтетических рубахах… Все они по очереди подходили к растерянно мнущейся возле свежего холмика Антуанетточке, тискали горячими липкими руками, прижимаясь, коротко взрыдывая и обдавая ее удушливыми волнами подсыхающего пота, плохо переваренного лука и алкогольного сочувствия, пока не исчезли в раскаленной утробе автобуса, который и должен был – за самую скромную мзду – переправить всех обратно через Стикс.
У могилы остались только одурелая от солнца, распаренная Антуанетточка и худой, обугленный дядька в нестерпимо черном, колючем шерстяном пиджаке, на который Антуанетточке было страшно даже смотреть. Дядьку Антуанетточка не знала, точнее – просто не помнила, различая маргинальных маминых кавалеров только по заоконному свистовому переливу, а дядька всё стоял, покачиваясь, на коленях у деревянного столбика с табличкой, тоненько подвывая и непрестанно вытирая огромным носовым платком глянцевое от слез резиновое лицо и раскаленную коричневую лысину.
– Пойдемте, – тихо попросила его бедная Антуанетточка, и дядька быстро, как испуганная лошадь, мотнул головой и разом потянулся к Антуанетточке всеми своими мокрыми гуттаперчевыми морщинами: «Што ж мы без Алечки-то будем делать, доча? А, доча?!» Антуанетточка молча развернулась и, отмахиваясь рукой от растерянных окликов, заковыляла, спотыкаясь о холмики и плиты, – прочь, прочь, прочь от этого жуткого, жуткого, жуткого, невозможного места.
Она выбралась к людям уже ближе к вечеру – странная, тихая, до бровей занесенная тончайшей глинистой пылью удивительного, серо-смуглого, нежного оттенка – того самого, что требовала бабушка, выбирая в промтоварах Антуанетточкиного детства пудру и соглашаясь исключительно на «Рашель». Но продавали почему-то всё больше крем «Анго» – против загара и веснушек, и сопящая Антуанетточка уводила недовольную бабушку прочь – к ароматным вратам гастронома, где под стеклянной, засиженной мухами полусферой лежало толстое полено бисквитного рулета с рыжим повидлом и продавались хрупкие песочные корзиночки, украшенные тремя вязкими вилюшками белкового крема.
Потом бабушка умерла, и вот мама умерла тоже.
В квартире стояла гулкая пустота – поминки справили, так и не дождавшись Антуанетточки. Антуанетточка машинально забрела на кухню, постояла там – по щиколотку в щекотном закатном солнце, – глядя на гору вымытой безымянными соседками посуды, на стакан водки, прикрытый подсыхающей ржаной горбушкой, на заботливо оставленную для нее тарелку с месивом винегрета, колбасы и мутноватого свиного студня – и так же машинально пошла в комнату, которая при маме торжественно звалась «залой». Старое кресло было на месте. Бедная Антуанетточка сама запретила ссылать его на помойку. Центр мира никуда не переместился.
Антуанетточка засунула руку в щель между сиденьем и подлокотником, минуту пошарила среди крошек и закаменевших огрызков незрячими пальцами и вытащила из небытия отцовскую фотографию. «Завтра куплю тебе рамку», – пообещала она, разминая выцветшее мужское лицо непослушными пальцами и не замечая, что всё вокруг – кресло, воздух, паркет, она сама, фотография – покрыто тончайшим налетом серой кладбищенской глины.
Тем не менее всё как-то утряслось. Конечно, всегда неприятно узнавать о том, что в мире существует горгаз и счета за электричество, но Антуанетточкину действительность питали совсем другие источники – книги. Изданные, неизданные, готовящиеся к изданию, устаревшие, подписанные в печать. Скудные библиотечные полки были забыты и опустошены. Жизнь бедной Антуанетточки теперь была подчинена биению рынка отечественного книгоиздания.
К тридцати годам Антуанетточка развилась в полноценного тайного гурмана – причем ее литературные пристрастия самым причудливым образом переплелись с гастрономическими. Оказалось, что, скажем, Георгий Иванов под профитроли в шоколадном соусе – это совсем не то же самое, что Георгий Иванов с пластом ржаного хлеба и толстым розовым диском докторской колбасы. Символисты настоятельно требовали горячих слоек с ветчиной и сыром, а Дзюнъитиро Танидзаки или Ясунари Кавабата почему-то особенно хорошо шли с маленькими малосольными огурцами. И Антуанетточке казалось, что в самом хрусте бело-зеленого, пупырчатого огуречного тела заключено что-то необыкновенно изысканное, японское.
Несмотря на профитроли и прочие излишества, бедная Антуанетточка больше не толстела – словно причудливая восковая отливка, попавшая наконец в прохладную воду. Она как будто навек застыла в своем неопределенно-личном возрасте – и из уродливого переростка превратилась в самую обычную конторскую тетку в вечной твидовой юбке и захватанных пальцами круглых очках. На нее не обращали внимания ни на работе, ни на улице – ее просто не видели, как не замечают пешеходы круглого лаконичного языка дорожных знаков или люди, не читавшие Набокова, – бабочек.
Бедная Антуанетточка стала как все. Превратилась в рядовой толпообразующий элемент. И это было как будто умирать – заживо и в полном сознании. Или даже еще хуже. Тем не менее она научилась испытывать нечто вроде счастья – да, счастья! – особенно когда возвращалась по вечерам со своего молочного завода – две станции на метро, одна трамвайная остановка и потом десять минут пешком – с непременным заходом в большой супермаркет, подсвеченный изнутри, словно елочная игрушка.
В супермаркете к Антуанетточке привыкли. Она была КЛИЕНТ, то есть брала понемногу, но зато всегда самое лучшее, дорогое и расплачивалась исключительно наличными (а – что ни говорите – никакая пластиковая карта не сравнится с живым, грязноватым теплом реальных денег). К тому же толстые очки бедной Антуанетточки и ее же бесформенные бедра не вызывали у бедных продавщиц, вынужденных круглосуточно кипеть в собственном завистливом соку, никаких адреналиновых вспышек.
«Рокфор не очень сегодня – не советую», – как соучастнице, шептали они, и Антуанетточка благодарно отдергивала пальцы от гнилостного деликатеса, насквозь проросшего благородной голубой плесенью, брала рыжеватую лепешку савойского реблошона и, словно завороженная, катила свою тележку дальше – навстречу бесконечным полкам, коробкам, шуршащим витринам. А позади нее всё та же продавщица всё с той же любезностью подталкивала скверный рокфор другой покупательнице – холеной и со стройными бедрами, облитыми ярким наглым платьем. И только хрупкий, едва ощутимый ледок на дне вежливой улыбки намекал на коварный подвох и грядущий хохот в прокуренной подсобке – девки, а я ведь втюхала рокфор этой рыжей козе. Ну, той, на белом «мерсе». Пускай просрется как следует, гадина!
Справа от кассы был книжный лоточек – очень, впрочем, убогий: рассыпающиеся покеты со зверскими названиями на зверских обложках, какие-то аляповатые раскраски, непременные «Протоколы сионских мудрецов». Но бедная Антуанетточка как-то разговорилась с измученной отставной филологиней, торгующей этим библиографическим вздором, и теперь под прилавком ее всегда ждало что-нибудь приятное – аппетитно похрустывающий переплетом Пруст, свежеизданная цветаевская переписка или – такое чудо, Анечка, специально для вас! – какой-нибудь «Легкий завтрак в тени некрополя».
После супермаркета оставалось только один раз – по заботливо распластавшейся «зебре» – перейти дорогу, и вечер, полный лакомых книг и книжных лакомств, ложился у Антуанетточкиных ног, урча и подставляя под хозяйские тапки теплый домашний живот.
И вечер этот окупал и искупал всё.
Машина напрыгнула на бедную Антуаннеточку слева – толкнув в грудь резиновой волной вонючего жара, – и улица, шумно кинувшись наперерез, вдруг быстро перевернулась, еще раз перевернулась и, подпрыгнув, изумленно застыла, охая и смущенно стряхивая с запачканного рукава мелкую дождевую поросль. Мигом со всех сторон натекла лужица взволнованно и безмолвно разевающих черные рты зевак, водитель, по горло погруженный в пережитый шок, никак не решался вылезти в промозглый воздух и всё лихорадочно протирал изнутри залитое лобовое стекло, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь ритмичное шуршание суетливых «дворников».
Звук – по чьей-то нерасторопности – так почему-то и не включили, но очки чудом уцелели на месте, и бедная Антуанетточка с невиданной прежде, зернистой резкостью увидела белую, чуть подмокшую, картонную коробочку с эклерами, похожими на толстенькие загорелые личинки заморских бабочек. На одну личинку, с самой лакомой шоколадной спинкой, впопыхах кто-то наступил, нежное сливочное содержимое выдавилось прямо в лужу – и по дождевой воде плыли странные, маслянистые, радужные пятна.
Перепачкают мне Сильвию Платт, машинально спохватилась бедная Антуанетточка, ища глазами купленную специально к эклерам книжку, но книжки не было, зато близко – прямо у Антуанетточкиного лица – вдруг обнаружилась коричневая туфля, тупоносая, начисто лишенная даже намека на женское кокетство, но зато крепкая, с ребристой тракторной подошвой и не пропотевшим еще лиловатым логотипом фирмы в просторном нутре.
«Это же моя», – изумилась бедная Антуанетточка. И тут на нее со всех сторон – наконец-то – внезапно и яростно нахлынула настоящая, реальная жизнь. Такая влажная, промытая, сияющая, что, казалось, проведи по ней мокрым пальцем, и воздух восторженно взвизгнет – словно голубоватая молочная бутылка. Которую вечно живая мама моет в раковине, набирая на пластмассовую встрепанную мочалку немного серо-коричневого паштета «пемоксоли», и бутылка под маминым натиском то гневно ахает, то отчаянно скрипит, ловя мокрым прозрачным бочком невероятные, синие, солнечные зайчики.
Какие бывают только в детстве.