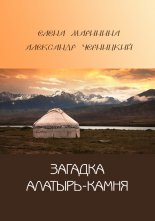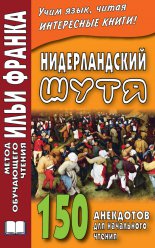Анжелика и ее любовь Голон Анн

Глава 16
Всему виной эта рыжая девочка. По правде сказать, необыкновенная маленькая особа и очень напоминает мать лицом и улыбкой. Правда, рот у нее больше и не так безупречно очерчен, но в изгибе и выразительности губ столько сходства, что несмотря на ее рыжую шевелюру и маленькие раскосые черные глаза (а у матери они огромные и ясные, словно вода источника) — сомнений быть не может: это дочь Анжелики.
Плоть от ее плоти — и от плоти другого мужчины. Мужчины, которого Анжелика, вздыхая от страсти, приняла в свои объятия с таким же восторженным и томным лицом, какое она, сама того не подозревая, явила ему в тот первый вечер на «Голдсборо».
Стоя за портьерой, он видел, как она проснулась и тут же склонилась к ребенку. Его тогда обожгла ревность, потому что в свете заходящего солнца он увидел, что она куда красивее, чем он думал, и еще потому, что спросил себя, черты какого любовника старается она отыскать в лице спящей девочки? И хотя до этого он собирался подойти к ней и снять маску, сейчас он не мог сдвинуться с места, ибо между ними встала стена.
Он слышал, как она шепчет нежные слова, как тихо и страстно разговаривает с ребенком. Никогда она не вела себя так с Флоримоном, его сыном… И он дал ей уйти, так и не показавшись.
Когда, вновь надев маску и взяв секстант, Жоффрей де Пейрак вышел на трап, он сразу же увидел, что протестанты уже закончили свое молитвенное собрание и покинули верхнюю палубу. Он ощутил облегчение и в то же время — разочарование. Затем, запахнув плащ, собрался подняться на капитанский мостик, чтобы с помощью секстанта определить координаты судна, но тут его заинтриговало поведение мавра Абдуллы.
Слуга-марокканец, который последние десять лет следовал за ним, как тень, сообразовывая все свои действия с его желаниями, сейчас, казалось, вовсе не замечал его присутствия.
Он опирался на позолоченные деревянные перила у застекленных дверей личных апартаментов капитана и смотрел прямо перед собой своими огромными черными глазами. Несмотря на его небрежную позу, Жоффрей де Пейрак, привыкший распознавать душевные движения людей его расы, одновременно пассивных и страстных, догадался, что Абдулла чрезвычайно взволнован. Он чем-то походил на изготовившегося к прыжку зверя; его толстые лиловые губы дрожали на темно-бронзовом лице.
Заметив, что хозяин наблюдает за ним, он, не подавая вида, опустил глаза, расслабился и принял тот бесстрастный вид, который его, сурово муштруя, учили сохранять, когда он состоял в личной охране султана Мулея Исмаила. Один из самых красивых и метких стрелков стражи султана Марокко, он был подарен великому магу Джеффа-эль-Халдуну (так звали графа де Пейрака в Берберии), которого султан Марокко почтил своей дружбой.
Потом он плавал с графом де Пейраком по многим морям. Несколько раз в день он варил своему господину кофе, без которого тот, привыкнув к этому напитку за годы, проведенные в Левантеnote 15, уже не мог обходиться. Абдулла спал у его дверей или на полу, возле его кровати, везде следовал за ним по пятам с заряженным мушкетом и бессчетное множество раз спас жизнь великого мага во время сражений, бурь и заговоров.
— Я провожу тебя, хозяин, — сказал он.
Но ему было не по себе, так как он по опыту знал, что Джеффа-эль-Халдун способен взглядом проникать в его мысли.
И действительно, взгляд хозяина был устремлен туда, куда только что смотрел он сам. Поймет ли Джеффа-эль-Халдун, что он, Абдулла, там видел и что, несмотря на окружающий их холод, зажгло в его крови львиный жар?
— Неужели тебе так не терпится прибыть в Америку, Абдулла? — спросил граф.
— Здесь или там — какая разница, — мрачно пробормотал мавр. — Ля-илляхи-илла-Алла-ва-Мухаммед-расулу-Аллаnote 16…
Вытащив из своей джеллабыnote 17 маленький мешочек, он взял оттуда щепотку какого-то белого вещества и помазал им себе лоб и щеки. Рескатор наблюдал за ним.
— Откуда такая меланхолия, старина, и к чему этот карнавал?
Белые зубы мавра сверкнули в улыбке.
— О, господин, ты очень добр — ты обращаешься со мной, как с равным. Да сохранит меня Аллах от твоей немилости, и если мне суждено погибнуть, я молю его даровать мне смерть от твоей руки. Ибо в Коране сказано: «Если хозяин отрубит голову своему рабу, тот попадет в рай…»
И, просветлев лицом, Абдулла последовал за своим высокочтимым хозяином. Но вместо того, чтобы подняться на мостик, Рескатор спустился на несколько ступенек и по узкому настилу пошел на бак.
Абдулла вздрогнул всем телом. Стало быть, хозяин опять разгадал его мысли. Он следовал за своим господином со смешанным чувством нетерпения и страха перед неизбежным. Ибо теперь он знал — его смерть близка.
Глава 17
На баке протестантские женщины стирали белье. Их белые чепчики походили на стаю чаек, сгрудившихся на узкой полоске берега. Подойдя к ним ближе, Рескатор принялся отвешивать учтивые поклоны госпоже Маниго, госпоже Мерсело, старой деве тетушке Анне, чью эрудицию в области математики он уже успел оценить, кроткой Абигель — она при этом тотчас же залилась краской — и наконец молодым девушкам, которые не осмеливались поднять на него глаза, и выглядели точь-в-точь как смущенные воспитанницы монастырского пансиона.
Затем он прошел к грот-мачте и, встав к ней лицом, начал делать счисление по солнцу и своему секстанту.
Вскоре он почувствовал: за его спиной стоит ОНА.
Он обернулся.
Побледнев от сделанного над собой усилия, Анжелика выпалила:
— Вчера я сказала вам страшные слова. Я так испугалась за моего ребенка, что была сама не своя. Я хочу извиниться перед вами.
Поклонившись ей, он ответил:
— Благодарю вас за любезный поступок, хотя в нем нет ни малейшей нужды. Вам подсказало его чувство долга, однако он не может стереть ваши вчерашние слова, которые, впрочем, имели одно несомненное достоинство — они по крайней мере были искренни. Поверьте, я прекрасно вас понял.
Она бросила на него странный взгляд: в нем были одновременно и боль, и гнев.
— Вы совсем ничего не поняли, — вздохнула она.
И опустила веки, словно бесконечно устала.
«Раньше она никогда так не осторожничала, — подумал он. — Раньше она дерзко смотрела вокруг, даже когда ей бывало страшно. Признаться, этот взмах ресниц весьма впечатляет, но что за ним стоит: светское лицемерие или гугенотская скромность? Как бы то ни было, одно в ней осталось неизменным: она по-прежнему излучает здоровье и силу, как солнце пышет жаром в летний день. И, черт побери, у нее очень красивые руки».
Под его пронизывающим взглядом Анжелика терпела адские муки.
Ей хотелось возразить ему, но ни время, ни место не подходили для серьезного разговора. Стирающие женщины глазели на них, матросы тоже — впрочем, эти всегда не спускали глаз с капитана, когда он появлялся на палубе.
Несколько раз, с самого утра, Анжелика хотела пойти к нему и поговорить. Но ее удерживали смешанные чувства гордости и страха. И сейчас ее опять парализовал страх, и она в смущении потирала свои оголенные для стирки руки, которые ласково пригревало солнце.
— Девочка оправилась? — спросил он.
Она ответила утвердительно и решила, что ей лучше уйти и вернуться к своей лохани.
Вот так! Такова жизнь. Надо стирать белье. Ничего не поделаешь, если это ужаснет утонченного господина де Пейрака, злясь, говорила себе Анжелика. Может быть, видя ее сейчас, он поймет, что ей гораздо чаще приходилось заниматься тяжелой работой, чем танцевать на балах при дворе, и что если мужчина хочет сохранить женщину во всей ее красе и обольстительности и притом для себя одного, то ему следует хоть немного постараться, чтобы ее защитить.
Он дал ей понять, что они стали чужими друг другу. Возможно, придет день, когда они станут врагами. Ее все больше бесила его равнодушная снисходительность, его стремление унизить ее. Если бы их встреча произошла на берегу, она наверняка постаралась бы уехать от него подальше, чтобы доказать, что она не из тех женщин, которые цепляются за мужчину, если он их отвергает.
«К счастью, — говорила она себе, изо всех сил растирая щеткой белье, — мы плывем на корабле и не можем убежать друг от друга».
Она страдала и в то же время была счастлива — ведь он был здесь, во плоти и крови. Видеть его, говорить с ним — это уже чудо. Значит, будут и другие чудеса…
Поднимая глаза, она видела его спину, его плечи, обтянутые бархатным камзолом, перехваченную кожаным поясом талию, серебряную рукоять пистолета, выглядывавшую из кобуры на боку.
Это был он! Ах, какая мука знать, что он так близок и чувствовать, что он так далек! «И все-таки у его груди я когда-то спала, в его объятиях стала женщиной. В Кандии, зная, кто я, он держал меня за плечи и говорил со мной с чарующей нежностью. Но в Кандии я была другой, не такой, как сейчас. Как могла я противиться злу, которое причинила мне жизнь.., которое причинил мне король? Он обвиняет меня в том, что я будто бы стала королевской любовницей и под этим предлогом презирает и отвергает меня. А между тем, когда я боролась против короля, он обнимал других женщин! Я помню, какая слава шла о нем в Средиземноморье. Он не очень-то тосковал обо мне. А теперь я ему мешаю. Он тоже предпочел бы, чтоб я умерла на самом деле, когда в пустыне меня укусила змея. Но я не хотела умирать! Не больше чем он! Так что в этом мы похожи. И мы были мужем и женой. Соединенными навсегда „в счастье и в горестях“, хотя нам и пришлось расстаться. Нет, невозможно, чтобы все это ушло без следа, чтобы наша любовь не возродилась, раз мы оба живы».
У нее начали болеть глаза — так пристально она на него смотрела.
Каждое его движение настолько волновало ее, что она вся дрожала.
— Вы так трете белье, что даже взбили пену, — пробурчала госпожа Каррер, делившая с ней лохань. — Можно подумать, что у нас есть мыло!
Анжелика ее не слышала.
Она смотрела, как он поднимает секстант, поворачивает закрытое маской лицо к горизонту и что-то говорит боцману. Вот он повернулся, опять подошел к женщинам и, метя палубу пером шляпы, поклонился им с таким изяществом, словно перед ним были придворные дамы. Он обратился к Абигель, но они стояли слишком далеко, чтобы Анжелика могла разобрать, о чем они говорят. К тому же их слова относил ветер.
Он неотрывно смотрел в глаза Абигель, и та покраснела от непривычного для нее мужского внимания.
«Если он ее коснется, я закричу», — подумала Анжелика.
Рескатор взял Абигель за руку, и Анжелика вздрогнула, будто это она ощутила его прикосновение.
Он повел Абигель на нос корабля и начал что-то показывать ей вдали, какую-то далекую белую полоску, сияющую в лучах солнца. Это были льды, о которых все уже успели забыть из-за неожиданно пришедшего тепла.
Потом, непринужденно облокотившись на перила, он с улыбкой на губах (они нисколько не изменились, остались такими же красивыми) стал внимательно слушать свою собеседницу.
Анжелика представила себе, как сейчас должна себя чувствовать Абигель. Поначалу напуганная знаками внимания со стороны столь грозной особы, она понемногу успокоится и поддастся обаянию его ума. Ободренная тем, что ее понимают, увлеченная разговором, побуждаемая обнаружить все лучшее, что в ней есть, она оживится, и сразу станет заметно, какой ясной, умной красотой отмечено ее нежное лицо, что в другое время не всегда разглядишь из-за ее чересчур строгого воспитания. Она будет говорить замечательно, будет высказывать тонкие суждения и в устремленном на нее взгляде прочтет полное одобрение.
Простая беседа с ним запечатлеется в ее памяти так, будто эти несколько минут она прожила в ином мире, совершенно непохожем на мир ее единоверцев.
Вот так этот обольститель безошибочно находит путь к женским сердцам.
«Но только не к моему! — злилась Анжелика. — Он нисколько не утруждает себя старанием понравиться мне — скорее, наоборот».
Так же безошибочно, как он умел очаровывать, он сумел уязвить ее в самое сердце.
«Чего он добивается, у меня на глазах околдовывая Абигель? Хочет вызвать у меня ревность? Продемонстрировать мне свое безразличие? Дать понять, что, по его мнению, мы оба свободны? И почему именно Абигель?.. Должно быть, он считает себя выше всех законов, и человеческих и божеских. Выходит, узы брака для него ничто. Ну ничего, я заставлю его понять, что законы все-таки существуют и что для него они писаны тоже. Я его жена и ею останусь. Я его не отдам…»
— Не колотите так сильно вальком, — снова заговорила госпожа Каррер, стиравшая в той же лохани и в той же скупо налитой воде. — Вы истреплете белье. А мы не скоро сможем купить другое.
Неужели он думает, что она попадется на эти его грубые уловки и предоставит ему удобный случай отыграться, свести с нею счеты? Она жила при дворе, в этом змеином гнезде, но и там не дала втянуть себя в гнусные интриги придворных. Не поддастся она и теперь, хотя он сумел сделать ей очень больно — ведь он, Жоффрей, всегда был ее вечной любовью.
Нет, она не станет цепляться за него, если он ее не желает и тем более не станет расписывать, как трудно ей жилось, о чем он, кажется, и не подозревает. Насильно мила не будешь, а пытаться вызвать в мужчине угрызения совести, чтобы тем самым вернуть любовь — это и мелко, и глупо. К чему напоминать ему, что на дно жизни она скатилась из-за него? Ведь он в то время тоже был вынужден защищать свою жизнь. И ей неведомо, какие ужасы он при этом испытал. О них знает он один. Если она его по-настоящему любит, она не станет добавлять к его прежним страданиям новые.
Твердо решив, что не даст свести себя с ума, Анжелика старалась обуздать самые бурные из охвативших ее чувств. Она не позволит себе предаваться ни надеждам, ни унынию, ни возмущению. В ней не должно быть места ничему, кроме спокойствия и терпения.
Она словно друга полюбила старину «Голдсборо» за то, что он помогал им не удаляться друг от друга. Поскрипывающее суденышко, такое одинокое в свинцовых водах океана, соединяло их и удерживало от непоправимых поступков.
Ей хотелось, чтобы их плавание никогда не кончалось.
Рескатор простился с Абигель и ушел с бака, спустившись по трапу у правого борта.
Госпожа Каррер подтолкнула Анжелику локтем и, нагнувшись к ней поближе, прошептала:
— Я с шестнадцати лет мечтала, чтобы какой-нибудь пират вроде этого похитил меня и увез по морю куда-нибудь на чудесный остров.
— Вы? — проговорила ошеломленная Анжелика.
Жена адвоката весело подмигнула. Это была похожая, на черную муравьиху женщина, очень деятельная и абсолютно непривлекательная. Ее сшитый по моде провинции Ангумуа чепец, всегда туго накрахмаленный, был до того высок, что казалось, вот-вот раздавит ее хрупкое тело. Однако на самом деле Марселла Каррер была женщина крепкая и произвела на свет одиннадцать детей. Блеснув глазами за стеклами очков, она подтвердила:
— Да, я. Что поделаешь, у меня всегда было живое воображение! Я и сейчас иногда вспоминаю об этом пирате из моих грез. Представляете, что со мной было, когда я увидела точно такого же живьем, да еще в нескольких шагах от себя! И посмотрите, как богато он одет! И потом эта маска — меня от нее прямо в дрожь бросает.
— А я, красавицы мои, скажу вам, откуда он, — провещала госпожа Маниго таким тоном, каким объявляют важные известия. — Не в обиду госпоже Анжелике будь сказано, но я думаю, уж не знаю ли я о нем больше, чем она.
— Это бы меня весьма удивило, — сквозь зубы бросила Анжелика.
— Так говорите же, что вы знаете, — защебетали дамы, тут же подойдя поближе. — Он испанец? Итальянец? Турок?
— Ничего подобного. Он из наших краев, — изрекла кумушка с торжествующим видом.
— Из наших краев? Из Ла-Рошели?
— Разве я сказала — из Ла-Рошели? — Госпожа Маниго пожала своими широкими мясистыми плечами. — Я сказала, что он из наших краев — это значит, оттуда же, откуда и я.
— Из Ангулема? — хором воскликнули ларошельские дамы в порыве возмущения и недоверия.
— Не совсем, немного южнее. Из Тарба.., или из Тулузы, да, скорее всего из Тулузы, — добавила она нехотя. — Но все равно он дворянин из Аквитании, гасконец, — пробормотала она с гордостью, и ее заплывшие жиром глазки победоносно сверкнули.
У Анжелики перехватило горло. Она готова была расцеловать толстуху, но сдержалась, сказав себе, что с ее стороны глупо так расчувствоваться из-за вещей, которые того не стоят. Какой прок от воспоминаний здесь, на краю Моря Тьмы, где холодными вечерами по небу разливается играющее всеми цветами радуги сияние… Воспоминания — как засушенные цветы с частицами родимой земли на корнях, которые каждый носит у сердца.
— Как я это узнала? — продолжала между тем супруга судовладельца. — Для человека умного, мои милочки, это пара пустяков. Как-то раз, встретив меня на палубе, он сказал: «Госпожа Маниго, у вас ангулемский акцент!» Слово за слово — и мы начали говорить о наших краях…
Госпожа Мерсело, жена бумажного фабриканта, удовлетворив свое любопытство, сочла за лучшее воздержаться от восторгов.
— Чего он вам не сказал, моя милая, так это того, почему он носит маску, почему избегает встреч с другими судами и почему уже много лет, покинув родные края, путешествует по морям.
— Не всем же оставаться дома. Дух приключений дышит, где хочет.
— Дух приключений? Уж лучше скажите — любовь к грабежам.
Обе женщины искоса посмотрели на Анжелику. Упорство, с которым она отказывалась рассказать им подробнее о «Голдсборо» и его капитане, с каждым днем казалось им все более подозрительным. Вынужденные сесть на судно без флага, плывущее неизвестно куда, они считали, что имеют право на разъяснения.
Но Анжелика с непроницаемым видом молчала, прикидываясь, что ничего не слышит.
Дамы в конце концов удалились, дабы развесить на снастях плоды своего труда. Нужно было воспользоваться последними лучами этого чудесного солнца, ведь скоро его сменит холод северной ночи, который каждую выстиранную рубашку может превратить в стальные доспехи. Но днем, когда небо бывало безоблачно, а воздух — на удивление сух, на палубе становилось очень тепло и приятно.
— Как жарко! — воскликнула юная Бертиль Мерсело, снимая корсаж.
И так как ее чепчик съехал набок, она сдернула и его и тряхнула своими белокурыми волосами.
— Мы на краю земли, поэтому солнце совсем близко и так сильно греет! Сейчас оно нас поджарит!
Она пронзительно рассмеялась. Под ее сорочкой с короткими рукавами ясно обрисовывались красивая высокая грудь с острыми сосками и плечи, еще по-отрочески хрупкие, но сильные и округлые.
Поглощенная своими раздумьями Анжелика подняла глаза и посмотрела на девушку.
«Наверное, в семнадцать лет я была на нее похожа», — подумала она.
Одна из подружек Бертиль, тут же последовав ее примеру, сорвала с себя и корсаж, и шерстяную кофточку, что была под ним. Она была не так красива, как дочь Мерсело, но фигурка у нее была пухленькая и вполне сформировавшаяся, как у взрослой женщины. Открытая сорочка девушки соскальзывала с плеч.
— Мне холодно! — воскликнула она. — Ой, холод меня кусает, а солнце ласкает. Как хорошо!
Другие девушки смеялись, но несколько принужденно, стараясь скрыть смущение и зависть.
Анжелика перехватила взгляд Северины, и прочла в нем мольбу о помощи. Северина была младше других девушек, и неуместно вольное поведение старших подруг глубоко ее шокировало. Как бы в знак протеста она плотнее запахнула на груди концы своей черной косынки.
Анжелика сообразила, что происходит что-то необычное. Обернувшись, она увидела мавра.
Опираясь на свой украшенный серебром мушкет, Абдулла смотрел на девушек с выражением столь красноречивым, что всякому искушенному человеку было ясно, что у него на уме. Впрочем, эта очаровательная картина привлекла не одного его.
Темнокожие матросы с физиономиями висельников уже скользили вниз по вантам и с притворно безразличным видом подходили поближе.
Свисток боцмана заставил их вернуться на свои места. Карлик бросил на женщин взгляд, полный ненависти, и, плюнув в их сторону, удалился.
Абдулла торжествовал — теперь он был здесь единственный мужчина. Его лицо африканского идола было неизменно обращено к предмету его вожделения — белокурой девственнице, которая уже несколько дней как разбудила в нем желание, тем более жгучее, что он давно не имел женщины, ибо много дней находился в море.
Анжелика поняла, что она единственный взрослый человек среди этих взбалмошных дурочек и решительно взяла дело в свои руки.
— Вам следовало бы одеться, Бертиль, — сухо сказала она. — И вам тоже, Рашель. Вы с ума сошли — посметь вот так раздеться на палубе.
— Но ведь очень жарко! — воскликнула Бертиль, наивно тараща свои голубые глаза. — Мы так намерзлись, как же теперь не погреться?
— Речь не о том. Вы привлекаете внимание мужчин, а это неблагоразумно.
— Мужчин? Каких мужчин? — голос Бертиль вдруг сделался пронзительным. — Ax, этого, — протянула она, будто только сейчас заметила Абдуллу. — Ну, этот не в счет. А я-то думала…
И она рассмеялась серебристым смехом, который прозвенел словно колокольчик.
— Я знаю, что он мною любуется. Он приходит каждый вечер, когда мы собираемся на палубе и при удобном случае подходит ко мне. Он подарил мне несколько безделиц: стеклянные бусы, серебряную монетку. По-моему, он принимает меня за богиню. Мне это нравится.
— Вы заблуждаетесь. Он принимает вас за то, что вы есть, иными словами…
Она решила не продолжать, чтобы не смущать Северину и других девочек. Ведь воспитанные на Библии, за толстыми стенами протестантских домов, они были так наивны.
— Оденьтесь, Бертиль, — мягко повторила она. — Поверьте мне, когда у вас будет побольше опыта, вы поймете истинный смысл этого восхищения, которое так вам льстит, и покраснеете за свое нынешнее поведение.
Бертиль не стала дожидаться, когда у нее будет побольше опыта, и сразу же покраснела до корней волос. Ее миловидное лицо исказила злобная гримаса.
— Вы говорите так из ревности… Потому что он смотрит на меня, а не на вас… Теперь вы уже не самая красивая, госпожа Анжелика.., скоро самой красивой стану я — даже в глазах тех мужчин, которые сегодня все еще восхищаются вами… Вот вам — смотрите, как я следую вашим советам.
Она быстрым движением повернулась к Абдулле, и одарила его ослепительной улыбкой, открыв прелестные жемчужные зубки.
Мавр задрожал всем телом. Глаза его вспыхнули, а губы, отвечая на улыбку Бертиль, как-то странно растянулись.
— Ох, какая же вы дурочка! — вскипела Анжелика. — Бертиль, сейчас же прекратите эти проделки, не то, обещаю вам, что все расскажу вашему отцу.
Угроза подействовала. В том, что касалось соблюдения благопристойности, мэтр Мерсело шуток не любил, а когда речь шла о его единственной обожаемой дочери, и вовсе был до крайности щепетилен. Бертиль неохотно подняла свой корсаж. Рашель оделась еще раньше — после первых же слов Анжелики, потому что как и вся молодежь их маленькой общины, питала глубокое доверие к советам служанки мэтра Берна. И неожиданная дерзость Бертиль по отношению к ней потрясла девушек, словно святотатство.
Но Бертиль, которой уже давно не давала покоя зависть, не желала признать себя побежденной.
— О, я знаю, откуда произошла ваша досада, — снова заговорила она. — Хозяин корабля не удостоил вас взглядом. А между тем всем известно, что вы проводите ночи в его каюте. Но сегодня он предпочел приволокнуться за Абигель.
Она нервно рассмеялась.
— У него не очень-то хороший вкус! Что он нашел в этой высохшей старой деве?
Желая угодить Бертиль, две или три ее подружки хихикнули.
Анжелика устало вздохнула.
— Бедные мои дети, ваша глупость превосходит всякое воображение. Вы еще ничего не понимаете в жизни, однако беретесь о ней рассуждать. Придется мне вам сказать, раз уж вам самим это невдомек, что Абигель — женщина красивая и привлекательная. Да знаете ли вы, что когда она распускает волосы, они доходят ей до поясницы? Ни у одной из вас никогда не будет таких красивых волос, даже у вас, Бертиль. К тому же, у нее есть ум и сердце, вы же своей глупостью можете наскучить даже тем поклонникам, которых к вам привлечет ваша юность.
Уязвленные ее словами, юные дурочки замолчали — не потому, что Анжелика убедила их, а потому, что они не нашли, что ответить, Бертиль одевалась медленно, поглядывая на мавра, который продолжал неподвижно стоять на том же месте, будто темное изваяние, одетое в развеваемый ветром белоснежный бурнус.
Анжелика повелительно бросила ему по-арабски:
— Что ты тут делаешь? Поди прочь, твое место подле твоего господина.
Абдулла вздрогнул, словно вдруг пробудился ото сна, и с удивлением посмотрел на женщину, которая заговорила с ним на его языке. Потом под взглядом зеленых глаз Анжелики на его лице отразился страх и он ответил, точно ребенок, пойманный на запрещенной шалости:
— Мой господин еще здесь. Я жду, чтобы последовать за ним.
Анжелика только теперь заметила, что Рескатор стоит у подножия трапа, ведущего на капитанский мостик и беседует с Ле Галлем и тремя его друзьями.
— Ну что ж, тогда уйдем мы, — решила она. — Дети, идите за мной!
Она ушла, уводя с собой девушек.
— Этот негр… — прошептала испуганная Северина, — Госпожа Анжелика, вы заметили? Он смотрел на Бертиль так, словно хотел съесть ее живьем.
Глава 18
Четверо протестантов обратились к Рескатору, когда он спускался по трапу с бака. Случай был редкий: с тех пор, как они отплыли из Ла-Рошели, ни один из гугенотов не пытался подойти к нему, чтобы поговорить. Слишком уж глубокой представлялась им пропасть между ними и тем, чем, по их мнению, был капитан «Голдсборо».
Морской бродяга, человек без корней, без родины, без веры и закона, которому они к тому же были обязаны жизнью, мог внушить этим праведникам только неприязнь.
Если не считать разговора с Габриэлем Берном, Рескатор и мужчины-гугеноты за все плаванье не сказали друг другу ни слова. И с каждым днем возрастало глухое напряжение между чужими, подозрительно наблюдающими друг за другом людьми. Постепенно они становились врагами.
Поэтому когда Ле Галль и три его товарища остановили Рескатора, он насторожился.
Как он признавался в разговоре с Никола Перро, при всем уважении к достоинствам протестантов, он отнюдь не питал иллюзий, что их легко будет превратить в союзников. Из всех людей, которых ему доводилось изучать, реформаты были, пожалуй, самыми неприступными. Даже взгляд индейца или чернокожего семита не так непроницаем, как взгляд квакера, который раз и навсегда решил для себя, что ты являешься воплощением зла.
Сейчас гугеноты стояли перед Рескатором, почтительно прижав к животам свои круглые шляпы. Их волосы были подстрижены коротко и очень аккуратно. Никакие невзгоды морского плавания, в которое они пустились в чем были, не заставили их принять растрепанный вид, столь любезный сердцу матросов «Голдсборо». Вот эти молодцы, даже раздай он им по паре ножниц и по бритве из самой лучшей стали, все равно ходили бы с щетинистыми подбородками и неопрятными лохмами. Потому что большинство из них родились в Средиземноморье и были католиками.
Эта мысль заставила графа де Пейрака улыбнуться. Однако четверо гугенотов не ответили на его улыбку и продолжали все так же стоять с каменными лицами. Требовалась редкостная проницательность, чтобы определить, что выражают их взгляды: дружеские чувства, равнодушие или ненависть.
— Монсеньор, — начал Ле Галль, — время идет, а мы пребываем в бездействии. Мы пришли к вам сегодня, чтобы попросить вас сделать нам одолжение и включить нас в свой экипаж. Вы видели, чего я стою как лоцман, когда я провел судно через пролив под Ла-Рошелью. Я плавал десять лет и был хорошим марсовым. И я, и эти трое моих товарищей можем быть вам полезны, ведь не секрет, что некоторые из ваших людей были ранены в схватке под Ла-Рошелью и еще не поправились. Мы их заменим.
Он представил своих спутников: Бреаж, корабельный плотник, Шарон, его компаньон по ловле рыбы, в прошлом тоже марсовой. Марангуэн, его зять, немой, как рыба, но не глухой — он, как и многие, поплавал юнгой на торговом судне, прежде чем заняться ловлей рыбы и лангустов.
— Мы хорошо знаем море, и у нас прямо руки чешутся — хочется залезть на реи, чтобы сплеснивать снасти и чинить паруса.
У Ле Галля был прямой, честный взгляд. Жоффрей де Пейрак не забыл, что именно он провел «Голдсборо» через опасный пролив, и понимал, что если кто и может установить связь между экипажем и протестантами, то только Ле Галль.
Однако он долго колебался, прежде чем послать за боцманом и рассказать ему о предложении гугенотов.
Уродец-боцман не разделял опасений своего хозяина, напротив, он был очень доволен. Его узкий, похожий на Рубец от удара сабли рот растянулся в некоем подобии улыбки, приоткрыв гнилые зубы. Он подтвердил, что людей не хватает. После того, как часть команды уволилась и сошла на берег в Испании, в экипаже каждый человек был на счету, сказал он, а пятеро раненных в сражении под Ла-Рошелью и вовсе зарезали его без ножа. Можно сказать, что приходится работать с половинной численностью команды. Отсюда и его, боцмана, плохое настроение, которое ему с большим трудом удается скрывать. В ответ на это признание матросы, прислушивавшиеся к разговору, разразились гомерическим хохотом. Потому что плохое настроение, а лучше сказать, злость, являлось у боцмана Эриксона состоянием всегдашним и неизменным и было даже страшно подумать, что будет, если он вдобавок перестанет его «скрывать».
— Хорошо, вы наняты, — сказал Рескатор четверым ларошельцам. — Вы знаете английский?
Они знали его достаточно, чтобы понимать команды боцмана. Рескатор оставил их в распоряжении Эриксона и вернулся на капитанский мостик.
Опершись на позолоченные перила мостика, он смотрел вперед и не мог оторвать взгляда от полоски света, которая прорезала вдруг наступившую темноту. Свет шел из щели над дверью, за которой размещались протестанты. Там, среди этих людей, чью враждебность он ощущает, живет Анжелика. С кем она — заодно с ними и против него? Или, как и он сам, одинока меж двух миров? И не принадлежит ни к одному, ни к другому?.. Сумерки, окутавшие корабль, быстро сгущались. Матросы зажгли фонари и сигнальные огни. Абдулла стоял на коленях и с осторожностью первобытного дикаря, стерегущего драгоценный огонь, раздувал рдеющие в глиняном горшке угли.
От невидимого во мраке моря исходила тяжкая, гнетущая тоска, порождение сумрачного Севера, и та томительная тревога, что поражала сердца древних викингов и всех моряков мира, у которых хватало отваги доплывать до края света, держа курс на неподвижную Полярную звезду.
Льдов уже можно было не бояться, ничто не предвещало бури. Но на душе у Жоффрея де Пейрака было неспокойно. Впервые за все время, что он плавал по морям, что-то на корабле ускользало из-под его власти. Какая-то незримая граница разделила «Голдсборо» надвое. Матросы тоже были встревожены, потому что понимали — капитан чем-то озабочен. И уже не в его силах было их успокоить.
Груз всех этих десятков человеческих жизней, за которые он был в ответе, вдруг навалился на него всей тяжестью, и он почувствовал, что устал.
Ему уже не раз доводилось подходить к перекресткам жизни, когда кончался один этап пути и надо было искать другое направление и все начинать заново. Правда, в глубине души он всегда знал, что на самом деле вовсе не начинает заново, а только продолжает давно намеченный путь, мало-помалу открывая таящиеся на нем неведомые горизонты. И все же каждый раз он должен был отказываться от привычного образа жизни, как змея сбрасывает старую кожу, и оставлять позади прежние привязанности и дружеские связи.
После этого рейса надо будет вернуть Абдуллу в его пустыню, он не перенесет жизни в северных лесах. Язон отвезет его к золотистым берегам Средиземного моря, его и старого марабута Абд-эль-Мешрата. Абдулла, бдительный страж, много раз спасал жизнь своего господина, а его привычки уважал, точно некие священные ритуалы. «Найду ли я хоть одного могиканина, который сумел бы приготовить мне кофе? Наверняка нет! Придется тебе обходиться без кофе, старый ты бербериец…» Подумав об Абд-эль-Мешрате, он представил себе, как тот сидит сейчас в своей каюте, которую специально для него оборудовали под ютом, постаравшись сделать ее как можно более удобной.
Его худое, истощенное аскетичной жизнью тело закутано в теплые меха и он наверняка неутомимо пишет. Ему шестьдесят два года, но его жажда знаний так остра, что когда его друг, граф де Пейрак, покидал Средиземное море, старик чуть ли не умолял взять его с собой, чтобы исследовать Новый Свет. Мудрый марабут с радостью пустился бы даже в кругосветное путешествие, чтобы доставить себе новые темы для размышлений. Такая открытость ума довольно редко встречается у мусульман… Абд-эль-Мешрат был слишком широко образован, чтобы нравиться такому фанатику, как его государь, султан Мулей Исмаил.
Жоффрей де Пейрак знал это и потому выполнил просьбу старика, которого любил. Он понимал, что увозя Абд-эль-Мешрата из Марокко, он, скорее всего, спасает ему жизнь.
Пятнадцать лет назад Абд-эль-Мешрат принял его в роскошном медресе, которое тогда принадлежало ему, человеку знатному, святому и высокомудрому, глубоко почитаемому всеми жителями Феса. Жоффрей де Пейрак прибыл туда из Сале на носилках. Сейчас ему живо вспомнилась та давняя встреча. Лежа у ног своего арабского друга, он с трудом верил, что завершил эту полную опасностей одиссею живым и что он, христианин, презренный неверный, находится в самом сердце таинственного Магриба. Прикованный к постели, чувствуя, что разум его изнемогает от непрестанной боли и тягот изнурительного пути по морю и пустыне, когда единственной его опорой и источником сведений о том, что творится вокруг, был верный мавр Куасси-Ба (а тот сам был напуган, очутившись среди себе подобных и, вращая глазами, повторял: «Все они тут дикари»), граф не раз мысленно спрашивал себя, что ждет его в конце этого бесконечного путешествия.
И наконец — встреча с Абд-эль-Мешратом, его другом, с которым он некогда познакомился в Испании, в Гранаде. Он сразу узнал хрупкую фигуру арабского доктора, теряющуюся в просторной белоснежной джеллабе, его лысеющий лоб над огромными круглыми очками в стальной оправе, которые придавали ему забавное сходство с совой.
— Мне не верится, что я наконец встретился с вами и притом — в самом Фесе, — почти беззвучно прошептал Жоффрей де Пейрак. Несмотря на все усилия, он не мог говорить громче. — Я думал, мы встретимся на берегу, тайно. Неужели лгут те, кто уверяет, что королевство Марокко и особенно Фес закрыты для христиан? Или ваша власть сильнее, чем власть султана, по мнению которого христианин, попавший в его владения, должен стать либо рабом, либо мертвецом? Почести, которые мне здесь оказывают, вполне убедили меня, что я пока ни тот, ни другой. Долго ли продлится эта иллюзия?
— Будем надеяться, что долго, мой дорогой друг. Ваше положение действительно исключительно, ибо вы находитесь под тайным покровительством. Мне удалось добиться его для вас главным образом благодаря вашей учености. Но чтобы оправдать надежды, которые на вас возлагают, вам необходимо как можно скорее выздороветь и приступить к работе. Мне поручили вас вылечить. Скажу вам также, что и для вас, и для меня это вопрос жизни и смерти, ибо в случае неудачи я могу поплатиться головой.
Графу хотелось узнать побольше об этих покровителях, которых, несмотря на свою репутацию человека набожного и высокоученого, побаивался его арабский друг, однако дальнейшие разъяснения он смог получить лишь тогда, когда лечение было почти завершено.
А пока его задачей было встать на ноги, и он посвятил себя этому с упорством, которое всегда составляло основу его характера.
Он мужественно переносил лечение, выполняя все назначения и физические упражнения, которые без устали прописывал его друг. Ему было интересно самому оказаться объектом научного эксперимента, и это помогало ему не сдаваться, когда боль и уныние побуждали его отступить.
Когда Абд-эль-Мешрат впервые склонился над его ранами, лицо его сначала помрачнело, но затем мало-помалу прояснилось, хотя вид этих язв мог вызвать только отвращение.
— Хвала Аллаху! — воскликнул он. — Рана на левой ноге, самая серьезная, еще не закрылась.
— Она не заживает уже много месяцев.
— Хвала Аллаху! — повторил Абд-эль-Мешрат. — Теперь я могу не только поручиться за ваше полное выздоровление, но более того, уверен, что сумею избавить вас от увечья, которое омрачило всю вашу молодость… Помните, как в Гранаде, осмотрев вашу ногу, я сказал, что если бы, когда вы были ребенком, вас лечил я, вы бы никогда не стали хромым?
И он объяснил, что европейские врачи борются только с видимостью болезни, что при виде раны они думают лишь об одном — как добиться, чтобы ее поверхность побыстрее зарубцевалась. Им неважно, что под этой тонкой пленкой, которую природа стремится как можно быстрее соткать сама, остаются полости, больные, несросшиеся ткани, что приводит к атрофии и непоправимым уродствам. А вот каноны арабской медицины, черпая из мудрости древних, из искусства африканских знахарей и египетских бальзамировщиков, напротив, предписывают для каждого вида ткани свой срок рубцевания. Чем глубже рана, тем важнее сдерживать процесс ее заживления, и ни в коем случае нельзя его ускорять.
Вполне удовлетворенный тем, как протекало начало лечения, Абд-эль-Мешрат объяснил также, что так как к ране, по счастью, не прикасался ни один хирург, все разорванные и надорванные мышечные волокна уже срослись как следует. И поскольку, благодарение небу, раненый избежал такого страшного осложнения, как гангрена — единственной подлинной опасности при такого рода длительном лечении — он, Мешрат, лишь завершит дело, так хорошо начатое мэтром Обеном, палачом короля Франции и так счастливо продолженное долгими скитаниями, в которые его подопечный пустился после перенесенных пыток, чтобы избавиться от своих мучителей.
Подобно арабским ювелирам, Абд-эль-Мешрат отделывал свое творение с величайшей тщательностью. «Скоро вы будете ходить так красиво, что ваша походка произведет впечатление даже на самых высокомерных испанских грандов!» — говорил он.
Измученный Жоффрей де Пейрак вовсе не требовал столь многого. В прошлом он сумел настолько приноровиться к своей хромоте, что вполне смирился с мыслью, что встав на ноги, будет хромать еще сильнее. Лишь бы скорее начать ходить, скорее вновь обрести привычную силу и возможность владеть не только руками, но и ногами. Хватит валяться, он и так уже стал развалиной, и его силы убывают с каждым днем! Чтобы убедить его соблюдать необходимые ограничения вплоть до достижения окончательного результата, Абд-эль-Мешрат растолковал ему, что изменить походку для него очень выгодно, ибо так ему будет легче сбить со следа своих врагов. Если однажды он решится вновь ступить на землю французского королевства, кто сможет узнать в человеке, чья походка ничем не отличается от походки других людей, того, кого когда-то называли Великим лангедокским хромым? Мысль о столь неожиданной уловке весьма позабавила Жоффрея де Пейрака и убедила его во всем следовать предписаниям врача; с тех пор он принялся так же настойчиво, как и Абд-эль-Мешрат, добиваться результата, близкого к совершенству. Несмотря на болеутоляющие бальзамы и настойки, ему пришлось выдержать долгие муки. Рана под коленом оставалась открытой и болела, а он должен был сгибать и разгибать ногу, приучая ее действовать. Абд-эль-Мешрат заставлял его часами плавать в бассейне, чтобы нога не утратила гибкости и, главное, чтобы рана не закрылась. Порой ему хотелось только одного — спать, а от него требовали подвигов, не меньших, чем во время его бегства и возвращения в Париж. Врач и его помощники были неумолимы. К счастью, арабский ученый, человек тонкого ума, умел понять своего пациента, хотя их принадлежность к различным цивилизациям, казалось, могла бы воздвигнуть между ними непреодолимую преграду. Но они оба уже сделали немало шагов навстречу друг к другу. Абд-эль-Мешрат безукоризненно владел французским и испанским. А граф немного знал арабский и быстро совершенствовался.
Сколько дней протекли так, в белом спокойствии магрибского дома? Даже сегодня он этого не знал. Недели? Месяцы? Год?.. Он не считал. Время тогда приостановило свой бег.
Никакие шумы не проникали за высокие стены дворца; туда не входил никто, кроме вышколенных, молчаливых слуг. Казалось, что окружающий мир исчез. Недавнее прошлое с мраком и холодом тюремных камер, зловонием Парижа и каторжной тюрьмы в Марселе постепенно застилалось дымкой и начинало казаться Жоффрею де Пейраку каким-то причудливым, страшным видением, порождением его болезненных кошмаров. А реальность — яркая, пронзительная — это темно-синее небо над зубчатыми стенами патио, аромат роз, усиливающийся в послеполуденный зной, возбуждающий в сумерках, аромат, к которому примешивается запах олеандров и иногда — жасмина.
Он был жив!
Глава 19
Настал день, когда Абд-эль-Мешрат рассказал ему наконец о покровителях, чье могущество позволяло ему, христианину, жить в самом сердце владений ислама, точно в магическом круге, где с ним не могло случиться ничего дурного. Из этих откровений он понял, что его врач считает партию выигранной, и его выздоровление теперь просто вопрос дней.
Арабский лекарь рассказал ему о войнах и мятежах, которые залили кровью королевство Марокко. Граф с немалым удивлением узнал, что даже в Фесе время от времени совершаются массовые казни. Достаточно было подняться по лестнице и заглянуть за стены дворца, чтобы увидеть виселицы и кресты, которые почти никогда не пустовали — на них только менялись жертвы. Это были предсмертные конвульсии царствования Мулея Арши, у которого его брат Мулей Исмаил вырвал власть с жадным нетерпением молодого грифа.
Теперь править будет Мулей Исмаил. И он желает привлечь к себе на службу его, Жоффрея де Пейрака, крупного христианского ученого.
«Он или скорее тот, кто его представляет и руководит его действиями с детских лет, — его министр, евнух Осман Ферраджи».
Тайный советчик нового властителя, еще нетвердо сидевшего на троне. Осман Ферраджи был по происхождению черный семит; в детстве он был рабом марокканских арабов. Умный и хитрый, он знал, что его всегда будут попрекать его расовой принадлежностью, если он не сумеет стать незаменимым.
И он вынашивал множество хитроумных замыслов, с проворством и точностью паука ткал свою паутину, то встряхивая одну нить, то вдруг забрасывая и закрепляя другую, чтобы в конце концов задушить жертву, которую перед тем ловко лишил всякой способности к сопротивлению.
Чернокожий министр внимательно следил за всеми интригами, которые плелись среди знати и в народе, состоявшем из арабов, берберов и черных мавров. И знати, и простонародью были чужды бережливость и благоразумие, они презирали торговлю, разоряли себя войнами и расточительством, тогда как ум евнуха был весьма тонок и он отлично разбирался в коммерции и самых сложных экономических комбинациях.
Новый султан Мулей Исмаил недавно завоевал известные еще из Библии земли на берегах Нигера, где некогда добывали золото рабы царицы Савской. Власть нового государя отныне простиралась до лесов Берега пряностей, где в тени гигантских деревьев обнаженные негры мыли золото в реках, добывали его из дробленого камня и даже работали в золотоносных шахтах глубиной в триста футов.
Осман Ферраджи рассматривал это золото как основное средство укрепления власти своего воспитанника, ибо власть предыдущего султана расшаталась прежде всего из-за его неумения управлять финансами. Новый султан был в этих делах так же несведущ, как и его предшественник, однако Осман Ферраджи ручался, что если завоеванные мечом Мулея Исмаила золотые рудники будут процветать, как во времена Соломона и царицы Савской, царствование его будет долгим.
Первое разочарование постигло министра, когда эмиссары, посланные им на юг, доложили о необыкновенной лености и злонамеренности черных племен. Золото было им нужно лишь для того, чтобы приносить его в жертву своим богам или делать из него побрякушки — единственное, чем прикрывали наготу их женщины. Что же касается тех, кто пытался заставить их изменить свое мнение на сей счет, то таких они быстро отправляли на тот свет с помощью яда.
Однако только они, эти черные язычники, поклонявшиеся идолам, знали секреты золота. Если принуждать их силой, они просто покинут шахты и прекратят добычу. Таков был ультиматум, который побежденные предъявили победителям.
Великий евнух как раз был озабочен этими известиями, когда его шпионы перехватили письмо, посланное Жоффреем де Пейраком ученому марабуту из Феса.
— Будь вы просто одним из моих христианских друзей, мне было бы довольно трудно вас защитить, — пояснил Абд-эль-Мешрат, — ибо в скором времени Марокко захлестнет волна религиозной нетерпимости. Мулей Исмаил провозгласил себя мечом Мухаммеда! По счастью, в своем письме вы упомянули о наших давних работах с благородными металлами. Это пришлось как нельзя более кстати.
Звезды, с которыми посоветовался Осман Ферраджи, поведали ему, что Пейрак послан ему Судьбой. Он уже прочел по ним, что правление узурпатора, которого он посадил на трон, будет долгим и что при нем страна будет процветать. Теперь же небесные светила открыли великому евнуху султана, что в этом процветании огромную роль сыграет один чародей, чужестранец и изгнанник, ибо подобно Соломону он владеет тайнами Земли. Будучи вызван и допрошен, Абд-эль-Мешрат подтвердил предсказание звезд. О золоте и его добыче христианский ученый, его друг, знает больше, чем кто-либо из ныне живущих, сказал он. С помощью химии он может извлекать золото из породы даже тогда, когда при самом мелком дроблении не удается обнаружить ни единой блестящей частицы.
Тотчас же были даны распоряжения доставить в Марокко этого полезного человека, которого счастливая — для Мулея Исмаила — судьба вынудила бежать из французского королевства.
— Отныне ваша особа священна и неприкосновенна в землях ислама, — продолжал свой рассказ арабский врач. — Как только я объявлю, что вы поправились, вы поедете в Судан с вооруженной охраной и даже, если сочтете это необходимым, с целой армией. Вам будет предоставлено все. Но взамен вы должны будете как можно скорее прислать его превосходительству великому евнуху несколько слитков золота.
Жоффрей де Пейрак задумался. У него явно не было другого выбора кроме как согласиться пойти на службу к мусульманскому государю и его визирю. Приняв их предложения, он осуществит свои желания — желания ученого и путешественника. Он уже много лет мечтал увидеть те земли, в которые его сейчас посылали и о которых ему часто рассказывал родившийся там Куасси-Ба.
— Я соглашусь с радостью и даже с восторгом, — сказал он, — если буду уверен, что от меня не потребуют перейти в ислам. Я знаю, что ваша религия столь же непримирима, как и моя. Крест и Полумесяц ведут между собой войну уже более десяти веков. Что же касается меня, то я всегда с уважением относился к форме обрядов, посредством которых люди считают нужным поклоняться своему Создателю. Я хотел бы, чтобы этот принцип применялся также и ко мне. Какое бы пятно ни легло из-за меня на имя моих предков, я не стану прибавлять к нему еще и звание ренегата.
— Я предвидел ваши возражения. Если бы речь шла о самом Мулее Исмаиле, ваше желание вряд ли бы исполнилось. Султан наверняка предпочел бы нового слугу Аллаха на земле золоту в своих сундуках. Однако у Османа Ферраджи, хотя он и добрый мусульманин, иные устремления. Служить вы должны прежде всего ему, а он не потребует от вас ничего такого, чего вы не смогли бы принять.
И старик весело заключил: