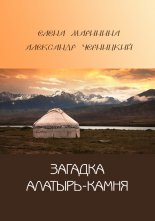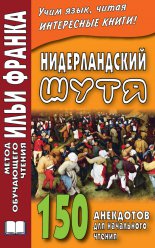Анжелика и ее любовь Голон Анн

— Но он.., он был хромой! — вскричала Анжелика. — Можно остричь волосы, скрыть под маской лицо, но нельзя короткую ногу сделать длиннее.
— И тем не менее мне повстречался хирург, которому удалось сотворить со мной это чудо. Хирург в красном.., вы тоже имели счастье с ним познакомиться!
И так как она, ничего не понимая, молчала, он бросил ей:
— Палач!
Теперь он шагал взад и вперед по каюте и говорил, будто беседуя с самим собой:
— Мэтр Обен, палач, производитель публичных казней, а также и иных, менее славных и более грязных дел в городе Париже. О, это человек весьма искусный! Вот кто сумеет мастерски разорвать вам нервы и мышцы и возвратить вас на путь истинный, которым повелел следовать наш король. Моя хромота была вызвана стяжением сухожилий на задней стороне колена. После трех сеансов на дыбеnote 11 это место превратилось в сплошную рваную рану и больная нога наконец-то сравнялась по длине со здоровой. Какой же у нас превосходный палач и какой добрый король! Разумеется, сказать, что преображение произошло тотчас, значило бы солгать. Завершением этого произведения искусства, столь блестяще начатого палачом, я обязал прежде всего моему другу Абд-эль-Мешрату. Зато теперь я знаю, что с небольшим вкладышем внутри сапога моя походка почти ничем не отличается от походки других людей. Когда после тридцати лет хромоты чувствуешь, что твердо стоишь на ногах, это ощущение весьма приятно.
В жизни не думал, что мне когда-нибудь выпадет счастье его испытать. Нормальная походка, которую огромное большинство людей воспринимают как нечто само собой разумеющееся, для меня — каждодневная радость.., мне нравилось прыгать, выделывать акробатические трюки. Я мог свободно предаваться всему тому, чего так хотелось сначала мальчику-калеке, потом — мужчине, вид которого отталкивал. Тем более, что ремесло моряка предоставляет для этого много возможностей.
Он говорил как бы для самого себя, но его пронзительный взгляд ни на миг не отрывался от покрытого восковой бледностью лица Анжелики. Она продолжала смотреть на него так, словно ничего не слышит, не понимает. Он предполагал, что когда он откроет ей, кто он, она будет потрясена и подавлена, но то, что он наблюдал сейчас, далеко превосходило самые мрачные его ожидания.
Наконец губы Анжелики дрогнули.
— А голос?.. Как можете вы утверждать… У него был удивительный, несравненный голос. Что-что, а его я помню очень ясно…
В ее ушах необычайно явственно звучал тот голос из далекого прошлого.
Напротив нее, у другого конца длинного банкетного стола, стоит человек в красном бархатном камзоле; его лицо обрамлено роскошной черной шевелюрой, белые зубы сверкают в улыбке, и под сводами старинного дворца в Тулузе звенит его волшебное бельканто…
Ах, как ясно она сейчас слышит его! Даже голова болит от отдающихся в ней звуков… На миг Анжелика снова ощутила то восторженное исступление, которым некогда наполняло ее душу пение Жоффрея, и ее охватила невыносимая тоска по тому, что было.., и по тому, что не сбылось…
— Где его голос? Где Золотой голос королевства?
— МЕРТВ!
Из-за горечи, с которой он произнес это слово, его голос еще мучительнее резанул слух Анжелики. Нет, она никогда не сможет связать это лицо с этим голосом.
Рескатор остановился перед нею и заговорил снова — более мягко, почти с нежностью:
— Помните, в Кандии я сказал вам, что некогда сорвал голос, потому что позвал того, кто был от меня очень далеко — Бога… И в обмен на голос он дал мне то, что я у него просил — жизнь… Это произошло на паперти Собора Парижской Богоматери. Тогда я был уверен, что пришел мой смертный час.., и я воззвал к Богу. Воззвал слишком громко, хотя к тому времени у меня уже не осталось сил… И мой голос сорвался — навсегда… Что ж. Бог дал. Бог взял. За все надо платить…
Сомнения вдруг оставили Анжелику. Его слова воскресили перед ней ту страшную и незабываемую картину, которая принадлежала только им двоим: смертник в длинной рубахе, с веревкой на шее, стоит на паперти Собора Парижской Богоматери, куда его привезли для публичного покаяния перед казнью пятнадцать лет назад.
Этот несчастный, доведенный до последней степени изнеможения, так что палачу и священнику приходилось поддерживать его, чтобы он не упал, был одним из звеньев невероятной цепи обстоятельств, соединяющей блестящего тулузского сеньора с тем пиратом, который стоял перед нею сейчас.
— Но в таком случае… — проговорила она, — и в голосе ее послышалось несказанное изумление, — вы.., мой муж?
— Я был вашем мужем… Но что от этого осталось сейчас? Мне кажется — немногое.
Его губы тронула чуть заметная усмешка, и Анжелика тут же его узнала.
Вопль, который она так часто издавала в мыслях: «Он жив!» снова переполнил ее сердце, однако теперь в нем звучали тягостные предчувствия, разочарование. А радости, той радости, что ослепительным светом вспыхивала в ней прежде и столько лет питала ее мечты, не было совсем…
«Он жив… Но в то же время он мертв: человек, который любил меня.., который пел, а теперь не может больше петь. И эту любовь.., и эти песни — ничто уже их не воскресит… Никогда».
У Анжелики стеснилось в груди, словно ее сердце и впрямь готово было разорваться. Она попыталась глубоко вздохнуть, но не смогла. Черная бездна поглотила ее, но и на пороге беспамятства ее не покинуло ощущение, что с нею произошло нечто страшное и вместе с тем — прекрасное.
Глава 8
Когда она пришла в себя, это ощущение владело ею безраздельно. Ощущение непоправимой катастрофы и в то же время — невыразимого счастья, от которого все ее существо то пронизывал холод, то охватывало чудесное тепло, и душа то наполнялась мраком, то озарялась сияющим светом. Она открыла глаза.
Счастье было здесь, перед нею, в облике человека, стоящего у ее изголовья, в лице, которое она больше не отказывалась узнать.
Лицо мужчины зрелого возраста, суровое, с резкими чертами, кажущееся более правильным из-за того, что шрамы на левой щеке несколько сгладились — да, это был он, Жоффрей де Пейрак!
Тягостнее всего было то, что он не улыбался.
Он смотрел на нее бесстрастно и с выражением такого отчуждения, словно теперь уже он не узнавал ее. Однако затуманенное сознание Анжелики упрямо цеплялось за мысль о том, что чудо, о котором она столько мечтала, свершилось — и она безотчетно потянулась к нему.
Он слегка поднял руку, останавливая ее.
— Прошу вас, сударыня, не считайте себя обязанной изображать страсть, которая, возможно, — я этого не отрицаю — некогда жила в нас, но которая давно уже угасла в наших сердцах.
Анжелика застыла, как будто он ее ударил. Время шло, и в наступившей тишине она вдруг очень явственно расслышала похожий на раздирающее стенание вой ветра в вантах и парусах, и этот тоскливый звук мучительно отдался в ее сердце.
Когда он произносил свои последние слова, на его лице промелькнуло то же высокомерное выражение, что и у могущественного тулузского сеньора былых времен. И Анжелика узнала того знатного сеньора в его нынешнем обличье искателя приключений. Это был он, ОН!
Должно быть, она смертельно побледнела.
Он подошел к шкафчику в глубине салона и открыл дверцу. Со спины это был всего лишь ее знакомец Рескатор, и на мгновение в душе Анжелики забрезжила надежда, что все это только дурной сон. Но он вновь приблизился к ней, и в полусвете полярной зари неумолимый рок опять явил ее взору забытое лицо ее мужа.
Он протянул ей бокал.
— Выпейте коньяку.
Она отрицательно мотнула головой.
— Выпейте, — настойчиво повторил он все тем же суровым, хриплым голосом.
Чтобы не слышать больше этого голоса, она залпом осушила бокал.
— Теперь вам лучше? Но почему вам стало дурно? От проглоченного коньяка у Анжелики захватило дух, она закашлялась и не сразу смогла отдышаться. Его вопрос помог ей немного собраться с мыслями.
— Вы спрашиваете — почему? Узнать, что человек, которого я оплакивала столько лет, жив, что он стоит передо мною — и вы еще хотите, чтобы я…
На смуглом лице на миг блеснули по-прежнему белые, великолепные зубы. Это в самом деле была улыбка Жоффрея, последнего из трубадуров, но омраченная то ли грустью, то ли разочарованием.
— Пятнадцать лет, сударыня! Вдумайтесь в это! Пытаться обмануть себя было бы с нашей стороны недостойной и глупой комедией. За эти годы оба мы — и вы и я — прожили иную жизнь и познали иные увлечения.
Правда, которой она упорно отказывалась посмотреть в лицо, внезапно пронзила ее, словно холодный, острый кинжал.
Она нашла его, но он ее больше не любит! Много-много лет она представляла его себе в мечтах, и ей всегда виделось одно и то же — как он протягивает к ней руки. Ее мечты — теперь она это ясно понимала — были всего лишь пустыми фантазиями, наивными, как и большинство женских фантазий. Жизнь высекает свои письмена на твердом камне, а не на мягком воске, из которого лепятся бесхитростные мечтания. Ее запечатлевают удары острого, тяжелого резца, безжалостные, причиняющие боль.
«Пятнадцать лет, сударыня! Вдумайтесь в это!»
Он любил других женщин…
Может быть, он женился? На женщине, которую полюбил страстно, гораздо сильнее, чем когда-то любил ее?
На ее висках выступил холодный пот. Ей показалось, что еще немного — и она снова потеряет сознание.
— Почему вы открылись мне сегодня?
Он приглушенно засмеялся.
— В самом деле — почему именно сегодня, а не вчера и не завтра? Я уже сказал вам: чтобы покончить с тем нелепым положением, в котором мы оказались. Я ждал: быть может, вы меня все-таки узнаете, однако пришлось признать, что вы тихо и окончательно похоронили память обо мне, ибо вашу душу явно не смущали никакие, даже самые легкие сомнения. Вы расточали свои заботы вашему дорогому раненому гугеноту и его детям и, право же, хотя ни один муж, пожалуй, не имел такой блестящей возможности понаблюдать, оставаясь неузнанным, за поведением своей ветреной супруги, эта комедия в конце концов все же показалась мне чересчур сомнительной. Или же я, по-вашему, должен был ждать, пока вы явитесь ко мне, как к капитану корабля и единственному здесь хозяину, а значит — и единственному представителю закона, дабы просить меня сочетать вас браком с этим торговцем? Этак мы завели бы нашу шутку слишком далеко, не правда ли.., госпожа де Пейрак?
И он рассмеялся своим хриплым смехом, который Анжелика уже была не в состоянии выносить.
— Замолчите! — крикнула она, затыкая уши. — Все это ужасно…
— Не смею возражать. Вот уж действительно крик души — откровеннее не бывает.
Он продолжал иронизировать. Ему было нипочем то, что, словно ураган, рвало и крушило ее сердце. Еще бы, ведь он успел давно свыкнуться со всем этим — как-никак он уже в Кандии знал, кто она такая. И потом — эта история, конечно, мало его волнует. Ведь тот, кто больше не любит, смотрит на вещи так просто…
К тому же при всей двусмысленности и драматичности их положения он в душе наверняка над ним потешается.
И в этом Анжелика тоже узнавала прежнего графа де Пейрака. Разве не смеялся он в зале суда, зная, что ему грозит костер!..
— Мне кажется, я сойду с ума! — простонала она, ломая руки.
— Не сойдете.
И как бы для того, чтобы ее успокоить, он заговорил с нарочитым безразличием:
— Не тревожьтесь, уж кому-кому, а вам не сойти с ума из-за такой малости. Полноте, ведь вы и не то еще видывали, и все же остались в здравом рассудке. Женщина, которая не уступила Мулею Исмаилу… Единственная, христианская пленница, которой когда-либо удалось бежать из гарема и из султаната Марокко… Правда, в этом вам помог ваш храбрый спутник.., этот легендарный король рабов.., как бишь его звали? Ах да: Колен Патюрель.
Задумчиво глядя на нее, он повторил:
— Колен Патюрель…
Это имя и странный тон, которым оно было произнесено, проникли сквозь туман, все еще застилавший сознание Анжелики.
— Почему вы вдруг заговорили о Колене Патюреле?
— Чтобы освежить вашу память.
Взгляд его горящих черных глаз притягивал к себе ее взгляд. В нем была неодолимая магнетическая сила, и несколько мгновений Анжелика была не в силах отвести глаза, точно птичка под завораживающим взглядом змеи. В ее мозгу молнией вспыхнула догадка:
«Значит, он знает, что Колен Патюрель любил меня.., и что я любила его».
Ей стало страшно и больно. Вся ее жизнь представилась ей вереницей непоправимых ошибок, за которые теперь ей придется дорого платить.
«Да, у меня были другие увлечения.., но они же ничего не значат!» — хотелось ей крикнуть с неподражаемой женской непоследовательностью.
Как растолковать ему это? Любые ее объяснения прозвучали бы путанно и неуклюже…
Плечи Анжелики поникли, словно на них каменной тяжестью легла вся ее прежняя, грешная жизнь.
Подавленная, она уронила голову и закрыла лицо руками.
— Вы же видите, моя дорогая, — уверения ничего вам не дадут, — пророкотал его глухой голос, по-прежнему казавшийся ей голосом незнакомца. — Повторяю вам: я не охотник до лживых комедий, которые вы, женщины, умеете так великолепно разыгрывать. Я предпочитаю видеть вас откровенно циничной — такой же, как я сам. А чтобы вполне вас успокоить, я даже скажу, что понимаю ваше потрясение. Какая ужасная неприятность: готовишься вступить в законный брак с новым избранником сердца, и вдруг объявляется давно забытый муж и в довершение всех бед, кажется, требует у тебя отчета. Не тревожьтесь — у меня этого и в мыслях нет. Разве я сказал, что буду препятствовать вашим матримониальным планам, раз уж вы так ими дорожите?
Ничто не могло бы оскорбить Анжелику больнее, чем это демонстративное проявление супружеской терпимости. Спокойно допустив, что она станет женой другого, он как нельзя более ясно показал — она теперь ему безразлична и он готов с легким сердцем пойти на то, что ей кажется богомерзкой ересью. Он превратился в закоренелого беспутного грешника. Нет, это немыслимо, невозможно! Он безумен — или это она сходит с ума?
Острое чувство унижения помогло ей овладеть собой. Она выпрямилась и устремила на него полный высокомерия взгляд, машинально сжав при этом руку, на которой когда-то носила обручальное кольцо.
— Сударь, для меня ваши слова лишены смысла. Пусть прошло пятнадцать лет
— но поскольку вы живы, я все равно остаюсь вашей женой, если не перед людьми, то перед Богом.
На миг черты Рескатора исказило волнение. В этой женщине, которую он отказывался признать своей женой, он вдруг снова увидел ту неприступную молодую девушку из знатного рода, которая много лет назад с таким упрямым и напряженным видом вошла в его тулузский дворец.
Более того, на мгновение перед ним предстал ослепительный образ блестящей светской дамы, какой она была в Версале. «Самая прекрасная из придворных дам, — рассказывали ему, — больше королева, чем сама королева».
В один момент он мысленно сорвал с нее тяжелые, грубые одежды и представил ее себе во всем блеске, в ярком свете люстр, с обнаженной, белой как снег спиной и безукоризненными плечами, с драгоценным ожерельем на шее, представил, как она горделиво выпрямляется — так же грациозно и надменно, как сейчас.
И это было невыносимо…
Он встал — вопреки всем его стараниям сохранить невозмутимость он чувствовал, что потрясен до глубины души.
Однако, когда после долгого молчания он снова обернулся к Анжелике, его лицо было все так же сурово и непроницаемо.
— Вы правы, — согласился он. — Вы действительно единственная женщина, которую я когда-либо брал в жены. Однако вы, как я слышал, не последовали моему примеру и очень быстро нашли мне замену.
— Я считала, что вы умерли.
— Плесси-Белльер, — произнес он медленно, будто пытаясь что-то припомнить. — Я до сих пор не жалуюсь на память и вспоминаю, что вы рассказывали мне об этом вашем драгоценном кузене, известном красавце, в которого вы были немножко влюблены. И как превосходно все сложилось! Освободившись от мужа, навязанного вам отцом, и к тому же хромого и неудачливого, вы смогли наконец исполнить мечту, которую давно лелеяли в тайниках сердца.
Анжелика безотчетно поднесла к губам сложенные как для молитвы ладони. Она не верила своим ушам:
— Неужели вы могли так думать о той любви, в которой я вам поклялась? — горестно сказала она.
— Вы были очень молоды… Какое-то время я вас развлекал. И не стану отрицать — вы были самой очаровательной супругой, какую только можно пожелать. Но я никогда — даже в те времена — не думал, что вы созданы для верности… Но оставим это… На мой взгляд, разбирать прошлое бессмысленно. Пытаться воскресить его — бесполезно. Однако, как вы мне только что заметили, вы все еще моя жена, и на этом основании я хочу задать вам несколько вопросов, которые касаются не только нас, но и других, тех, чьи интересы важнее, чем наши.
Его черные брови сдвинулись, глаза потемнели. Порой, в минуты веселья, пусть даже напускного, они казались почти золотистыми, но гнев или подозрение делали их взгляд мрачным и пронизывающим. Анжелика узнавала эту игру его лица, которое некогда так ее завораживало. «Да, это он, в самом деле он», — говорила она себе, изнемогая от рожденного этим открытием чувства и не понимая, что это — отчаяние или радость.
— Что вы сделали с моими сыновьями? Где мои сыновья?
Она растерянно переспросила:
— Ваши сыновья?
— Мне кажется, я выразился достаточно ясно. Да, мои сыновья. И ваши тоже! Те, чьим отцом, по-видимому, являюсь я. Старший, Флоримон, родившийся в Тулузе, в Отеле Веселой Науки. И второй, которого я не видел, но о существовании которого знаю — Кантор. Где они? Где вы их оставили? Не знаю почему, но мне представлялось, что я найду их среди тех гонимых беглецов, которых вы попросили меня взять на корабль. Мать, спасающая своих сыновей от несправедливой судьбы, — вот роль, за которую я наверняка был бы вам благодарен. Но ни один из плывущих с вами подростков не может быть моим сыном — ни по внешности, ни по возрасту. Кроме того, вы, как я заметил, занимаетесь только вашей дочерью. А где же они? Почему вы не взяли их с собой? С кем оставили? Кто заботится о них?
Глава 9
Ответить было для нее крестной мукой — ведь она должна подтвердить, что ее двух веселых мальчиков с ней больше нет, что они навсегда сгинули. Это ради них она трудилась, ради них страдала. Она хотела избавить их от нужды, восстановить во всех правах. Она мечтала увидеть их высокими, красивыми, уверенными в себе, блестящими молодыми людьми… Но она никогда не увидит их взрослыми. Они тоже покинули ее.
Она с трудом проговорила:
— Флоримон.., уехал.., давно… Ему тогда было тринадцать. Я не знаю, что с ним сталось. Кантор.., умер, когда ему было девять лет.
Это было сказано таким ровным, бесстрастным тоном, что можно было подумать, будто то, о чем она говорит, ей безразлично.
— Я ждал такого ответа. Он подтверждает мои догадки. Вот чего я никогда вам не прощу, — сказал Рескатор, гневно стиснув зубы, — равнодушия к судьбе моих сыновей! Они напоминали вам о том периоде вашей жизни, который вы желали забыть. И вы отдалили их от себя, чтобы они вам не мешали. Вы стремились к наслаждениям, искали любовных утех. И теперь без всякого волнения признаетесь, что о том из них, который, возможно, еще жив, вы ничего не знаете! Я многое мог бы вам простить, но это — нет, никогда!
Сначала Анжелика стояла, словно оглушенная, потом шагнула к нему, прямая, бледная как смерть.
Из всех обвинений, которые он ей бросил, это было самое страшное, самое несправедливое. Он упрекал ее в том, что она его забыла, и это была не правда. В том, что она его предала, и это — увы! — отчасти было правдой. В том, что она никогда его не любила, — это было чудовищно.
Но она не потерпит, чтобы ее называли плохой матерью, ее, которая ради сыновей подвергала себя таким опасностям, мукам и унижениям, что порой у нее возникало чувство, будто она отдает за них самую кровь из своих жил. Наверное, она не была очень нежной матерью, все свое время проводящей с детьми, но Флоримону и Кантору принадлежало самое заветное место в ее сердце. Рядом с ним… И он еще смеет ее упрекать! Столько лет проплавал по морям, не заботясь ни о ней, ни о детях, и только теперь — откуда что взялось — вдруг вздумал о них беспокоиться! Разве он вырвал их из нищеты, в которую ввергла невинных малюток его опала? Сейчас она его спросит, по чьей вине гордый малыш Флоримон всегда был ребенком без имени, без титула, бесправнее любого незаконнорожденного? Она расскажет, при каких обстоятельствах погиб Кантор. Это случилось по его вине! Да, по его вине. Потому что это его пиратский корабль потопил французскую галеру, на которой находился юный пах герцога де Вивонна.
Анжелика задыхалась от возмущения и боли. Она уже открыла рот, собираясь высказать ему все, — но тут судно резко накренилось, подхваченное особенно высокой волной, и ей пришлось ухватиться за стол, чтобы не упасть. Она держалась на ногах не так твердо, как Рескатор, который, казалось, был припаян к палубе.
И этой короткой паузы ей хватило, чтобы удержать готовые сорваться с губ непоправимые слова. Может ли она открыть отцу, что он виноват в смерти сына?
Разве мало несчастий судьба уже обрушила на Жоффрея де Пейрака? Его приговорили к смерти, лишили состояния, вынудили покинуть родину, превратили в скитальца, не имеющего иных прав, кроме тех, которые он смог завоевать свой шпагой.
И в конце концов, живя по беспощадным законам тех, кто должен убивать, чтобы не быть убитым, он стал совершенно другим человеком. Она не вправе его за это винить. С ее стороны было младенческой наивностью думать, что он остался прежним — жестокая жизнь требовала от него иного… Судьба и так его обездолила — зачем же наносить ему еще один удар: говорить, что он погубил их ребенка?
Нет, она не скажет ему этого. Никогда! Но она сейчас же — пусть путанно, бессвязно — расскажет ему то, чего он, похоже, не желает знать. О своих горьких слезах, об ужасе, который пережила она, юная, неопытная женщина, вдруг оказавшаяся в пучине нищеты, всеми покинутая. Она не расскажет ему, как погиб Кантор, но расскажет, как он родился, — вечером того самого дня, когда вспыхнул костер на Гревской площади, и как она, бездомная, отверженная горемыка, шла по заснеженным улицам Парижа, толкая впереди себя тачку, из которой выглядывали посиневшие от холода круглые маленькие личики ее сыновей.
Возможно, тогда он поймет. Он судит ее так сурово только потому, что ничего не знает о ее жизни.
Но когда он все узнает — неужели останется таким же бесчувственным? Смогут ли ее слова разжечь искру, которая, возможно, еще тлеет под пеплом в сердце, сокрушенном бременем стольких утрат? Сердце таком же израненном, как и ее собственное…
Но она хотя бы сохранила в себе способность любить. Сейчас она упадет перед ним на колени, будет умолять его. Она скажет ему все-все! Как она всегда любила его… Как пусто было ей без него, как все эти годы она продолжала смутно надеяться и мечтать, что когда-нибудь встретит его вновь. Разве, узнав, что он жив, не бросилась она безрассудно на его поиски, нарушив приказ короля и подвергнув себя бесчисленным опасностям?
Но тут она увидела, что внимание Рескатора обращено не к ней. Он с любопытством наблюдал за дверью салона, которая тихонько-тихонько приоткрывалась… Это было необычно — ведь ее бдительно охранял слуга-мавр. Кто же мог позволить себе войти к грозному хозяину без доклада? Ветер? Туман?
Снаружи дохнуло ледяным холодом, и в дверной проем клубами вплыл туман, тут же рассеявшийся от соприкосновения с теплым воздухом салона. Из-за этой неосязаемой завесы выступило крошечное существо: светло-зеленый атласный чепчик, огненно-рыжие волосы. Эти два ярких пятна с необыкновенной отчетливостью выделялись на фоне начинающейся за дверью серой мглы. За девочкой в зеленом чепчике стоял закутанный в бурнус сторож-мавр. Его черное лицо пожелтело от холода.
— Почему ты, позволил ей войти? — спросил Рескатор по-арабски.
— Ребенок искал мать. Онорина подбежала к Анжелике.
— Мама, где ты была? Мама, пойдем!
Анжелика плохо видела ее. Она оторопело глядела на обращенное к ней круглое личико, на умные раскосые, черные глазки. И облик дочери вдруг показался ей таким чужим, несходство с нею самой столь разительным, что на какое-то мгновение в ней ожили давным-давно забытые чувства: отвращение к ребенку, которого она родила против воли, нежелание признать его, неприятие своей собственной крови, смешанной в этой девочке с грязной кровью насильника, яростное и бессильное возмущение против того, что с ней, Анжеликой, сделали, жгучий стыд.
— Мама, мама, всю ночь тебя не было! Мама!
Онорина настойчиво повторяла это слово — а ведь прежде она пользовалась им редко. Защитный инстинкт, безотчетная боязнь потерять то, что всегда безраздельно принадлежало ей одной, подсказали ей это необыкновенное слово, единственное слово, способное вернуть ей мать, вырвать ее из-под власти этого Черного человека, который позвал ее и запер в своем замке, полном сокровищ.
— Мама, мама!
Онорина была здесь. Онорина — олицетворение всех тех измен, которые Жоффрей никогда ей не простит, печать, опечатавшая закрытые врата навек потерянного рая, — так некогда королевские печати на воротах Отеля Веселой Науки ознаменовали конец всего, чем она дотоле жила, всего, что составляло ее мир, ее счастье.
Картины минувшего и мучительные мысли о настоящем сливались в мозгу Анжелики воедино. Она взяла Онорину за руку.
Жоффрей де Пейрак смотрел на девочку. Мысленно он прикидывал ее возраст: три года? четыре?.. Стало быть, она не дочь маршала дю Плесси. Тогда чья? По его иронической, презрительной полуулыбке Анжелика догадалась, о чем он думает. Случайный любовник… «Красивый рыжий любовник!» Молва столько их приписывала ей, прекрасной маркизе дю Плесси, фаворитке короля… О рождении Онорины, как и о смерти Кантора, она тоже никогда не сможет сказать ему правду. Ее стыдливость восставала при одной мысли об этом. Сознаться в таком позоре — все равно что показать ему омерзительную язву, признак постыдной дурной болезни. Нет, она будет нести это в себе, навсегда скрыв, как скрывает глубокие шрамы, оставшиеся на ее теле и сердце.., след от ожога, вылеченного Коленом Патюрелем и смерть маленького Шарля-Анри…
Онорина, рожденная от безымянного насильника, — это расплата за все мужские объятия, которым она, Анжелика, не противилась и которых искала сама.
Филипп, поцелуи короля, безыскусная и возвышенная страсть бедного нормандца Колена Патюреля, короля рабов, грубые, но веселые утехи с Дегре, утонченные ласки герцога де Вивонна. Ах да, она совсем забыла Ракоци.., а в придачу к нему, наверное, и других…
Сколько лет прошло, сколько лет они оба прожили — вдали друг от друга, каждый по-своему… И того, что было, уже не забыть, не стереть.
Он непроизвольно поглаживал подбородок. Ему явно недоставало недавно сбритой бороды.
— Согласитесь, моя дорогая, — положение создалось весьма затруднительное.
Как может он сохранять этот иронический тон, когда она едва держится на ногах, так щемит у нее сердце…
— Мне хотелось прояснить его, но должен признать, что от моих попыток оно только еще больше запуталось.., нас с вами все разделяет.
— Идем, мама! Ну идем же, мама, идем, — повторяла Онорина, дергая мать за юбку.
— Вы, конечно же, вовсе не стремитесь к воссоединению, о котором несколько часов назад и не помышляли — ведь ваши мысли были целиком заняты другим…
— Мама, идем!
— Да замолчи ты! — крикнула ей Анжелика, чувствуя, что от всего этого кошмара у нее вот-вот расколется голова.
— Что касается меня…
Как бы взвешивая все «за» и «против», он обвел взглядом свою каюту с любовно подобранной дорогой мебелью и великолепными навигационными приборами
— убранством, среди которого протекала его бурная, трудная, увлекательная жизнь, в которой не было места Анжелике.
— ..Я старый морской волк, привыкший к одиночеству. Если не считать нескольких недолгих лет супружества, проведенных в вашем прелестном обществе, женщины всегда играли в моей жизни лишь эпизодические роли. Возможно, узнав это, вы почувствуете себя польщенной. Однако холостяцкое житье породило склонности, которые не очень-то располагают к тому, чтобы опять влезть в шкуру примерного супруга. Корабль мой невелик, в апартаментах места мало. И я предлагаю вам вот что… Давайте на время путешествия соберем все наши карты обратно в колоду и будем считать, что партия закончилась вничью.
— Вничью?
— Останемся каждый на своем месте. Вы — госпожой Анжеликой, в компании своих друзей, а я — здесь у себя.
Итак, Жоффрей от нее отрекается, он ее отвергает… Судя по всему, она ему просто не нужна. И он отсылает ее к тем, кого в эти последние месяцы она привыкла считать своими близкими.
— Может быть, вы еще потребуете от меня забыть все, что вы мне сейчас открыли? — спросила она саркастически.
— Забыть? Нет. Но в любом случае — не разглашать.
— Идем, мама, — твердила Онорина, продолжая тянуть Анжелику к двери.
— Чем больше я над этим думаю, тем больше убеждаюсь, что не в ваших интересах говорить вашим друзьям, что вы, хотя и очень давно, были моей женой. Они могут вообразить, будто вы к тому же — моя сообщница.
— Ваша сообщница? В чем?
Он не ответил. Его лоб прочертила резкая складка — он о чем-то размышлял.
— Возвращайтесь к ним, — бросил он сухо, словно отдавая приказ. — Ничего им не рассказывайте. Это бесполезно. Впрочем, они, скорее всего, просто решат, что вы не в своем уме. Пропавший и вновь обретенный муж увозит вас на своем корабле, не будучи тотчас же вами узнанным, — согласитесь, такая история у любого вызовет сомнения.
Он повернулся к столу и взял кожаную маску, которая защищала его изрезанное шрамами лицо от укусов соленых брызг и взглядов шпионов.
— Не говорите им ничего. Пусть они ни о чем не догадываются. Тем более, что эти люди не внушают мне доверия.
Анжелика уже была у двери.
— Поверьте, это взаимно, — процедила она сквозь зубы.
Уже стоя на пороге, в дверном проеме, держа за руку Онорину, она вновь повернулась и впилась в него жадным взглядом. Он снова надел маску — и это помогло ей яснее понять смысл его недавних слов.
Это был он и в то же время — другой человек, чужак. Жоффрей де Пейрак и Рескатор. Знатный сеньор-изгнанник и морской разбойник, которому пришлось расстаться с прежними привязанностями и жить только суровым настоящим.
Странно, но сейчас он казался ей более близким, чем минуту назад. Она чувствовала облегчение от того, что теперь может обращаться только к Рескатору.
— Мои друзья обеспокоены, монсеньор Рескатор, — сказала она, — потому что не понимают, куда вы их везете. Ведь это весьма необычно — не правда ли? — встретить льды неподалеку от Африки, где мы должны сейчас находиться.
Он подошел к черному мраморному глобусу, испещренному странными знаками. Положив на него руку — руку патриция, хотя теперь она была смугла, как у араба, — он медленно провел пальцем по инкрустированным золотом линиям. Наконец, после продолжительного молчания он словно вспомнил о ее присутствии и равнодушно ответил:
— Скажите им, что северный путь тоже ведет в Вест-Индию.
Глава 10
Граф Жоффрей де Пейрак, иначе — Рескатор, проскользнул в люк и быстро спустился по крутому трапу в трюм. Следуя за несущим фонарь мавром в белом бурнусе, он углубился в лабиринт узких коридоров.
Мерное покачивание нижней палубы под ногами подтверждало, что он был прав: опасность миновала. Хотя они шли в густом холодном тумане, который одел все реи и палубные надстройки тонким слоем инея, он знал — все будет хорошо. «Голдсборо» плыл по волнам легко, как судно, которому ничто не угрожает.
Он, Рескатор, отлично знал этот язык — знал, что означают различные скрипы и подрагивания корпуса и мачт — всего того, что составляет огромное тело его корабля, задуманного для плаваний в полярных морях и построенного по его собственным чертежам на главной верфи Северной Америки, в Бостоне.
Он шел, касаясь рукой влажного дерева, — не столько в поисках опоры, сколько для того, чтобы постоянно ощущать под ладонью могучий, способный противостоять любым опасностям корпус своего непобедимого корабля.
Он вдыхал его запахи: запах секвойи, привезенной с гор Кламат, из далекого Орегона, запах белой сосны с верховьев Кеннебека и с горы Катанден в Мэне — «его» Мэне — сладостные ароматы, которые не могла перебить проникавшая повсюду морская соль.
«Нигде в Европе нет такого прекрасного леса, как в Новом Свете», — подумал он.
Высота и мощь деревьев, великолепие сочной, глянцевитой листвы — все это стало для него подлинным откровением, когда он впервые увидел леса Америки — а ведь к тому времени его, казалось, уже трудно было чем-либо удивить.
«Открытие мира бесконечно. Каждый день мы убеждаемся, что в сущности еще ничего в нем не знаем… Всегда все можно начать сначала… Природа и ее четыре стихии всегда с нами, чтобы поддерживать наш дух и побуждать идти вперед».
Однако долгая схватка с враждебным морем и льдами, которую он вел прошедшей ночью, не принесла ему знакомого удовлетворения: он не чувствовал ни радости победы, ни воодушевления от того, что его душа обогатилась новым сокровищем, которого у него никто не сможет отнять.
Это потому, что затем ему пришлось выдержать другую бурю и она — хотя он и не желал себе в этом признаться — произвела в его душе немалые опустошения.
Мог ли он себе представить, что станет участником такого фарса, где не знаешь чего больше: гнусности или дурного вкуса! Произнести слово «драма» он все еще отказывался.
Он всегда стремился видеть всякую вещь в ее истинном свете. Истории, в которых замешана женщина, как правило, более походят на фарс, чем на драму. И даже теперь, когда речь шла о его собственной жене, женщине, которая, к его великому несчастью, оставила в его сердце более глубокий след, чем другие, он не мог подавить в себе желания саркастически рассмеяться, когда начинал мысленно выстраивать в ряд все сцены этой комедии. Объявляется пятнадцать лет как позабытая супруга, не узнав его, требует, чтобы он отвез ее в Америку, и наконец — того хлеще — собирается просить у него благословения на брак со своим новым возлюбленным. Как известно, случай — господин весьма изобретательный по части создания комичных ситуаций, но тут он, пожалуй, перешел все границы. Следует ли ему, Жоффрею де Пейраку, благословлять его за это? Благодарить, быть может? Довериться этому кривляющемуся шутнику, который только что, словно в насмешку, представил их глазам поблекший призрак прекрасной любви их молодости?
Ни он, ни она не желают возврата к прошлому. Но тогда зачем он открыл ей сегодня утром, кто он такой? Раз уж она так упорно его не узнавала, не проще ли было отпустить ее к столь любезному ей протестанту?
В помещении, куда он через мгновение вошел, было светло, и этот внезапный свет резанул его глаза той же острой слепящей болью, что и пронзившая мозг очевидная мысль.
«Глупец! Ради чего ты прожил сто разных жизней, для чего сотни раз избежал смерти, если до сих пор тщишься скрыть от себя правду о себе самом! Признайся, что ты не мог допустить, чтобы она стала женой другого, потому что ты бы этого не вынес».
Весь во власти гнева он обвел трюм угрюмым взглядом. Несколько усталых матросов спали в гамаках или на грубо сколоченных койках, поставленных возле лафетов пушек. Порты были открыты, потому что на этой батарее, спрятанной в тесном твиндеке, отсутствовала вентиляция. На время плавания Жоффрею де Пейраку пришлось разместить здесь часть экипажа, чтобы более удобное помещение под баком предоставить пассажирам.
Время от времени через какой-нибудь открытый порт вплескивалась морская вода и спящий под ним матрос недовольно ворчал сквозь сон.
Именно здесь проходила ватерлиния, и явственно слышалось, как в борта ударяются волны. Их можно было тронуть рукой и погладить, словно больших укрощенных зверей.
Он подошел к одному из портов. Проникающий сквозь него свет был окрашен в сине-зеленое из-за близости моря.
Всегда такой заботливый, когда дело касалось его команды, Жоффрей де Пейрак сейчас совсем о ней не думал. Громадные бледно-зеленые волны, более светлые на гребнях, более темные внизу, среди которых, казалось, то и дело коварно поблескивали льдины, неодолимо вызывали в его памяти зеленые глаза, чью власть над собою он так упрямо не хотел признать.
«Нет, я бы этого не вынес! — снова подумал он. — Чтобы отдать ее другому, нужно, чтоб она стала мне совсем безразлична. А она мне не безразлична!..»
Вот он и признался в этом самому себе, но такое признание едва ли облегчит для него ответ на вопрос: что делать дальше? Даже самое ясное осознание истины не всегда помогает найти лучшее решение. Кто-кто, а он мог бы сказать о себе, что ко времени вступления во вторую половину жизни научился подходить к своим душевным конфликтам достаточно беспристрастно и спокойно. Пути ненависти, отчаяния, зависти всегда казались ему бесплодными, и он их избегал. Дорогу ревности ему также удавалось обходить стороной — до того дня, когда его посланец принес ему весть о том, что его «вдова», госпожа де Пейрак, сочеталась счастливым браком с известным красавцем и распутником маркизом дю Плесси-Белльер. Тогда он сумел довольно быстро оправиться от разочарования. По крайней мере так ему казалось.
Но рана, как видно, была более глубокой, из тех скверных ран, что снаружи затягиваются слишком быстро, в то время как ткань внутри гноится или усыхает. Про такие случаи ему рассказал его друг, Абд-эль-Мешрат, когда лечил его ногу. Арабский врач не давал зияющей ране под коленом закрыться до тех пор, пока все: нервы, мышцы, сухожилия — не срастется с той скоростью, которую определила для человеческого тела природа.
Как бы то ни было, он страдал из-за женщины, которая больше не существует и не может возродиться.
Но тут, глядя на море, он опять вспомнил бездонные зеленые глаза и с грохотом захлопнул деревянную дверцу порта.
Стоявший за его спиной мавр Абдулла готовился потушить фонарь.
— Не надо, мы идем дальше, — бросил ему граф.
И вслед за мавром нырнул в еще один темный колодец — прорезанный в орудийной палубе люк. Такие спуски были ему до того привычны, что нисколько не отвлекали от мыслей.
Никаким напряжением воли он не смог бы сейчас избавиться от этого наваждения — мыслей об Анжелике. Впрочем, отчасти из-за нее ему и приходилось спускаться на самое дно трюма.
Раздражение, злость, растерянность — он и сам не знал, что из этого преобладает в нем сейчас. Но увы! — только не безразличие! Те чувства, которые возбуждала в нем женщина, пятнадцать лет назад переставшая быть его женой и всячески его за эти годы предававшая, и без того были достаточно сложны, а сегодня к ним добавилось еще и желание!
Что толкнуло ее на этот странный, неожиданный жест — рвануть корсаж и показать ему клеймо, выжженное на ее плече?
Его тогда поразил не столько вид этого позорного знака, сколько царственная красота ее обнаженной спины. Он, привередливый эстет, привыкший рассматривать и оценивать женскую красоту по всем статьям, был ею ослеплен. Прежде линии ее спины не были так безупречны — она еще только избавлялась от отроческой худобы и хрупкости. Когда он на ней женился, ей было всего семнадцать лет. Теперь он вспоминал, как лаская ее юное, едва сформировавшееся тело, иногда думал о том, как прекрасна станет Анжелика, когда вполне расцветет под воздействием прожитых лет, материнства и всеобщего почитания.
Но не он, а другие помогли ей расцвести и достичь нынешнего ее совершенства. И сегодня, когда он меньше всего этого ожидал, она вдруг явила ему тот пленительный образ, который он создал в мечтах много лет назад. Освобожденное от темных, плохо сшитых одежд, ее тело неодолимо вызывало в памяти статуи античных богинь плодородия, стоящие кое-где на средиземноморских островах. Сколько раз он любовался ими, говоря себе, что в жизни — увы! — такие фигуры встречаются редко.
Нынче утром, в полумраке салона ее красота потрясла его еще больше, чем тогда, в Кандии. Молочно-белая кожа, нежданно явившаяся его взору в хмуром сумраке туманной, тоже молочно-белой северной зари, движение плеч, полных, крепких и в то же время поражающих нежностью и чистотой линий, сильные, гладкие руки, не прикрытая волосами стройная шея, с едва заметной продольной ложбинкой, придающей ей какую-то невинную прелесть, — все это пленило его с первого взгляда, и он подошел к ней, пронизанный ошеломляющим чувством, что она стала еще прекраснее, чем раньше, и что она принадлежит ему!
Как она сопротивлялась! Как защищалась! Казалось, она забьется в припадке падучей, если он сейчас же ее не отпустит. Что же все-таки так ее в нем испугало? Его маска? Или догадка, что сейчас он откроет ей что-то такое, что будет ей неприятно?