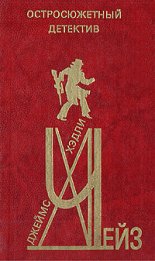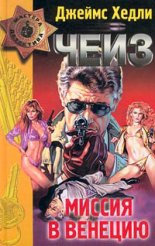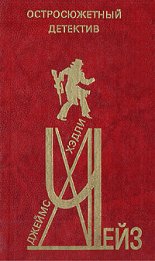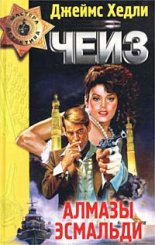НКВД. Война с неведомым Бушков Александр
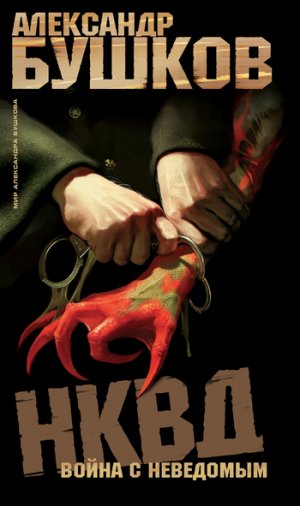
А дело было совсем плохо. Пришел военврач, пане Гершль – хороший был врач, из львовских довоенных, и, между прочим, доброволец. Родных у него извели почти всех, немцы во Львове, а литовцы на Виленщине, и счет у него был свой…
Посмотрел, потрогал рану, покачал головой… Она уже лежала без сознания, губы синели, и лицо становилось по-особенному белое… Отвел нас с Янушем в соседнюю комнату, снял свое легендарное пенсне – оправа чистого золота, довоенное, подарок от благодарных пациентов – и говорит примерно следующее:
– Как ни прискорбно, панове, но это один из тех случаев, когда медицина бессильна, выходного отверстия нет, пуля застряла где-то в области сердечной сумки, ритмы сердца затухающие…
Не знаю, как я выглядел со стороны. Наверняка хреновато. Януш стал, как собственный бюст – бледный, скулы закаменели. Но произнес спокойно:
– Можно что-нибудь сделать?
Пане Гершль – а пенсне он, теперь ясно, снял, чтобы не смотреть нам в глаза, он же был близорукий, добрых минус десять – опустил ученую голову:
– Думаю, могла бы помочь немедленная операция в хорошей клинике с соответствующим оборудованием, запасом крови… Иных вероятий у меня нет.
Мы с Янушем не перемолвились и словечком – только переглянулись. Поняли друг друга моментально: все, что подходило под определение «хорошая клиника», располагалось за полтыщи верст от нас. Имелся лишь обычный дивизионный медсанбат – и тот километрах в семидесяти. Мы бы ее не довезли. Видел я, что получается, когда пытаешься везти людей с подобными ранениями. На «виллисе», по лесным колдобинам. Растрясет моментально. Усиление внутреннего кровоизлияния – и концы…
Пане Гершль стоит, разводит руками… А вокруг нас вертится вышеупомянутый Янек Выга и лезет с совершенно антинаучной идеей:
– Пан майор, пан капитан… Давайте я вам в два счета приволоку этого… (И называет имечко того колдуна.) Точно вам говорю, он и не таких вытаскивал, ручаюсь честью и погонами, я своими глазами видел в тридцать шестом…
Сгоряча он едва не получил по зубам. Но вот потом… Я не помню во всех деталях, как получилось, что нас с Янушем это его предложение взяло. Не помню даже, что мы тогда говорили. Помню только собственное хаотическое мелькание мыслей. Понимаете, в такой ситуации схватишься за любую соломинку. Она уже белая, как смерть, губы синие, прозрачные… И если сделать ничего нельзя, так, может…
Короче, Выга с хлопцами мигом смотались на «виллисе». Пане Гершль остался при раненой, сидит, кротко посматривает на нас с непонятным видом – конечно, ему, как представителю, можно сказать, официальной медицины, поперек души подобные планы, но он, должно быть, видел, что с нами творится, не встревал…
Притащили мужика. Типус… Бородой зарос до глаз, возраст совершенно непонятный. Но глаза… Хитрющие, умные, посмотрит – как рублем подарит…
Заодно ребята приперли все, что имелось в его хозяйстве – сгребли в «сидор» всевозможные пучки трав, корешки какие-то, разные там причиндалы… Чтобы два раза не ездить. Что видели, то и грабастали.
Он подошел, нагнулся, заглянул Данке в лицо. Поскреб свои лохмы широченной пятерней. Забубнил что-то на мазурском наречии. Выга проворненько перевел:
– Боится. Говорит, поздно. Может быть поздно. Мол, если помрет, вы меня, чего доброго, пристрелите… поздновато и опасно.
Ну, Януш… Януш охулки на руки не клал. Вынул пистолет – у него был роскошный довоенный «вис» – медленно, демонстративно оттянул затвор. Молча. Ни словечка. Стоит, держит пистоль дулом вверх, смотрит на лесомыку… А за другим его плечом Янек Выга, внезапно вспомнив о личной гигиене, стоит и с отвлеченным видом чистит под ногтями кончиком эсэсовского кинжала… Тишина. Тяжелая, нехорошая, только Данута похрипывает чуть слышно…
Он понял, что, если откажется, мы его кончим тут же. И кончили бы, честное слово. Не было там другой власти, кроме нас, и все атрибуты власти висели у нас на поясе… Он понял.
Прожег меня взглядом, подошел вплотную и принялся что-то сосредоточенно бурчать. Я его не понял совершенно – у меня от напряжения вылетели из головы все польские слова, не говоря уж о его клятом наречии, которого я и не знал вовсе… Потом, когда Янек начал лихорадочно толмачить, я немного опамятовался…
– Он говорит, что времени совсем мало, а возможность есть, но весьма опасная, – толмачит Выга. – Говорит: в одиночку ему трудно, но, поскольку это ваша девушка, пан капитан, то вам ее и спасать. Не будет врать, большой риск есть и для вас, но иначе он просто не берется, хоть стреляйте…
Я только и сказал:
– Пусть поторапливается. Лично я на все согласен.
Лесовик бурчит что-то новое. Выгнал Януша, пана Гершля. Взял меня за пуговицу и талдычит что-то с расстановочкой, упрямо… Выга старательно переводит:
– Он говорит, панна Данута пойдет к реке. Если вы, пан капитан, сможете ее остановить, все, глядишь, обойдется. Как уж у вас получится. А сейчас он и меня выгоняет тоже, поэтому вы, я вас просто умоляю, слушайте его во всем…
И выкатился за дверь – по-моему, с превеликой охотой. Я, разумеется, остался. Космач тем временем переворошил все свои причиндалы, начал что-то мешать в чашке, накидал туда травы, сушеных цветков, настрогал каких-то корешков. Начал на все это нашептывать – водит руками над чашкой, бормочет что-то, время от времени вскинет глаза, кольнет меня взглядом с полным ощущением физической боли – и снова бормочет. И помаленьку мне стало казаться, будто у меня совершенно отнялись руки и ноги. Сижу на лавке, смотрю на Данку, а голова туманится…
Он вдруг оказался возле меня. Только что сидел на корточках над чашкой посреди комнаты – и вдруг стоит возле меня, вплотную. Сдернул меня с лавки, без всяких церемоний, за шиворот, как куклу, положил на пол. Я лежу, смотрю на него снизу вверх, чувствуя себя чем-то вроде тряпичной куклы…
Присел надо мной на корточки, приподнял мне голову, сдавил пальцами щеки, так что рот у меня разинулся сам собой. И стал вливать свое зелье – аккуратненько, струйкой, но вместе со всем этим гербарием, с корешками. Что удивительно, я ни разу не подавился, все как-то само собой проскальзывало в глотку…
Я его бормотанье начал понимать. Отчетливо. Он раза три повторил: мол, остановишь ее, прежде чем дойдет до реки – тогда, может, и получится…
И тут сознание у меня затуманилось окончательно. Перед глазами сомкнулась темнота. А когда я вновь стал что-то видеть, я уже был не в комнате, а неизвестно где. И не лежал уже, а стоял.
Место было насквозь незнакомое и странное. Какая-то большая равнина, словно бы кочковатая, как бы снегом покрытая – только «снег» этот был серого цвета и под ногами не скрипел, не проминался. Я переступил с ноги на ногу – никаких отпечатков. По-моему, никакой это был не снег, но что это такое, мне до сих пор непонятно. Казалось оно снегом, кое-где присыпавшим кочки, но под ногами не проминалось совершенно. Точнее я описать не могу, не могу, и точка…
И вокруг, вместо неба – такая же серость, сквозь которую не просвечивает никакого солнца. В отдалении, справа и слева, виднеется что-то вроде вертикальных черных полос – словно бы деревья, словно редколесье виднеется сквозь туман. Но это был не туман. Совершенно ничего похожего – просто серый окружающий воздух. И еще. Не было наверху никакого солнца, ничего, что давало бы свет, но отчего-то мне казалось, что на всем вокруг – тень. Повсюду лежит тень. Взгляд это не фиксировал никак, у меня просто было такое впечатление…
Тишина мертвая. Пусто… Потом я увидел – кто-то идет впереди, удаляется от меня. И я, опять-таки не знаю откуда и как, но понял, что это – Данка.
Что характерно: как я ни пытался ни тогда, ни потом, вспомнить детали, но совершенно не могу припомнить, как она была одета, в чем – в форме, как лежала на лавке, или в чем-то другом. Никак не могу вспомнить. Нет у меня этого в зрительной памяти, хоть ты тресни – а значит, нет и в мозгу. Помню только, что волосы у нее были распущены, свободно лежали по плечам, ее волосы, знакомые, роскошные, она была блондинка с легонькой рыжиной…
Я пошел за ней. Побежал. Бежалось совсем не так, как это порой случается в кошмарном сне – ну, знаете, когда пытаешься бежать со всех ног, но что-то мешает, и движения получаются замедленные до предела, плавные… Ничего подобного. Я чувствовал, что бегу нормально, как и должен бежать мужик молодой, тренированный, здоровый, как лось…
Но – не могу догнать! Я бегу, как на медаль, она впереди бредет неспешно, и все равно, расстояние меж нами, вижу с отчаянием, почти что и не сокращается…
То ли я кричал что-то, то ли наддавал молча – не могу сказать. Некоторые куски происходившего там совершенно не удается вспомнить. Воспоминания идут как-то рывками…
И вижу я, что местность впереди немного изменилась. Вместо кочек появились уже самые настоящие холмики и пригорки, покрытые в точности таким же серым то ли снегом, то ли пеплом. И впереди замаячила река…
Странная река, как и все там. Не особенно широкая, метров… ну, двести. Без малейшей ряби на поверхности. Даже не скажешь, что она течет. Как будто тянется бесконечная широкая лента из того же то ли снега серого, то ли пепла. И тем не менее ощущается, что это именно река.
А на той стороне, у самого берега, маячат… Не знаю, сколько их там было. Не знаю, как они выглядели. Не знаю, на что были вообще похожи. Понимал я тогда только одно: это они за ней пришли.
Бегу. Как я бегу… Кричу что-то вроде:
– Мать вашу так, это неправильно! Нельзя так, нельзя! Это все неправильно, господи, в бога вашу душу, кто тут над вами старший! Не хочу я, не хочу! Это моя Данка, мать вашу! С дороги, мать вашу, СМЕРШ идет, это мы, СМЕРШ, мы и не такое видели, что вы мне тычете вашу речку! Не отдам!
И я, знаете ли, добегаю. Нагоняю ее непонятно каким усилием. Мало того, обгоняю, заступаю дорогу. Лицо у нее уже не белое, нормальное, губы бледно-розовые – мне этот оттенок врезался в память на всю оставшуюся жизнь – глаза широко раскрыты, но, полное впечатление, она меня не видит. Идет себе, плывет над этим серым снегом… И – тишина…
То, что меж нами происходило потом, я опять-таки не могу описать обычными человеческими словами. Она идет к реке, а я ее не пускаю, отталкиваю, отодвигаю, отжимаю от реки – причем не в физическом понимании темы, не руками отталкиваю, не напираю грудь в грудь. Как-то так… Слово «мысленно» не подходит, поскольку моих тогдашних ощущений не исчерпывает… Просто – она упорно движется к реке, а я ее еще упрямее от берега отжимаю, напираю, превозмогая нешуточное сопротивление, и происходит это без всякого применения физической силы… И лицо ее передо мной, совсем близко…
И вдруг, в один нечаянный момент понимаю, что я ее определенно пересиливаю. Что медленно-медленно отодвигаю ее с того места, от берега. И – как напер…
Очнулся я на полу, в комнате. Голова раскалывается, в виски словно буравчики ввинчивают, в животе такое ощущение, словно я проглотил не пару щепоток тонко наструганных корешков, а целую охапку валежника, и теперь этот валежник торчит во все стороны, норовя изнутри проткнуть мне организм в двадцати местах… Встал кое-как, плюхнулся на лавку.
И вижу в комнате перемены!
Пане Гершль уже здесь, торчит над Данкой, точнее, не торчит, хлопочет, оживленный такой, даже бодрый, громко командует, а наши хлопцы мечутся, как черти, по его приказам, тащат бинты, еще что-то… Януш с Выгой тут же маячат, лица – довольные!
И тут меня отрубило. Напрочь.
Очнулся я через сутки, уже ближе к вечеру. И никаких особых ощущений в организме уже не было, даже голова почти не болела.
Ну, подхватился. Я у себя в комнате, оказывается, лежу в форме, только кто-то снял сапоги и пояс с портупеей. Входит Януш, без лишних слов наливает мне водочки. Я – хлоп! Уже вижу по его лицу, что дела наши не так уж плохи…
Так оно и оказалось. Когда я отключился, и хлопцы меня уволокли, Данка уже была в сознании. Не вставала, конечно, но уже и не выглядела покойницей. Смогла даже сказать что-то, пошевелилась…
Доктора, говорят, надо было видеть! Он держался, как мог, не поддавался полной и окончательной растерянности, но, рассказал Януш, не оставалось никаких сомнений, что наш пане Гершль совершенно сбит с панталыку. По его теперешним наблюдениям выходило, что пуля, очень на то похоже, не повредила ровным счетом никаких внутренних органов – а, наткнувшись на нижнюю часть лопатки, как-то так срикошетила, как-то так повернулась, что чуть ли не под кожей застряла. Одним словом, дело принимает качественно иной оборот. Не то чтобы «есть надежда», а ранение, можно говорить с уверенностью, из разряда легких…
А потому Данка уже давным-давно в медсанбате, подогнали два «виллиса», в один устроили ее, в другой набились автоматчики – и рванули в дивизию… Там, кстати, второй диагноз пане Гершля подтвердили буква в букву. И очень быстро извлекли пулю. И Данка уже через две недели к нам вернулась. И все было по-прежнему.
Вот только… Выга потом отвел меня в сторонку и рассказал. Этот лесной космач, когда уходил, велел мне передать, что, хоть я и показал себя во всей доблести – а обернуться могло, он гундел, по-разному – тетку не обманешь, тетка отсрочку дает под давлением обстоятельств, но ненадолго…
И он ведь, сука, был абсолютно прав…
Данка погибла в сорок седьмом. Когда война кончилась, ее послали на так называемые «возвращенные земли» – те, что отошли от Германии к Польше. Обстановочка там была… Еще почище, чем у нас в Мазурах тогда.
Мы с ней виделись несколько раз до того, у нас ведь все так и продолжалось украдочкой. Я служил советником при соответствующих органах, в Гданьске. Получилось в точности по песне: дан приказ ему на запад, ей в другую сторону…
И вот что, хотите верьте, хотите нет, со мной случилось в тот самый день…
Вышел я из здания нормально, хотел сесть в машину. И тут меня как бы пробило. Как бы рвануло сразу в нескольких местах – остро, больно, жгуче. И ноздри как бы залепило четким, пронзительным запахом дыма, от кашля наизнанку вывернуло…
И тогда, не умею объяснить, почему, когда эта боль прошла и гарью больше не пахло, я вдруг уверился с невероятной, даже отчего-то спокойной ясностью, что вот в этот самый миг где-то очень далеко отсюда Данку убило насмерть, наповал…
Закричал даже, не сдержался. Водитель выскочил из машины, кинулся ко мне, рвал на ходу кобуру – он потом говорил, что я рычал не по-человечески, и он сгоряча решил, что в меня пальнули из-за угла, но выстрела он почему-то не услышал… А я стоял, держась за стенку, весь был мокрый от пота, и знал, точно знал, что ее убило только что…
И ведь это была доподлинная правда… В тот самый день, по времени примерно совпадало. Лесные сделали засаду, подстерегли машину воеводской беспеки. Шарахнули гранату с ходу, вдарили по машине из дюжины стволов… Всех положили наповал. Машина выгорела напрочь. Точно, дым и гарь… Поганое было время, хотя и считалось мирным, и без всяких киношных красивостей.
Я так полагаю, все это со мной случилось оттого, что я ведь был с ней там. Где? А хрен его знает. Там. Не стал я ближе к какой бы то ни было мистике, но, боюсь, придется мне еще разок прошагать по той равнине… Да и вам тоже.
А может, и – всем…
Часть четвертая
Собственное
След дракона
Предания занимают середину меж историей и поэзией. Содержанием их служит всегда действительная быль, но рассказ, переходящий из поколения в поколение, из века в век, часто носит на себе печать сказки.
Т. Н. Грановский
Один из самых запоминающихся и диковинных героев сказов Бажова – Великий Полоз. Он предстает то в облике огромного змея с человеческой головой, то в виде пусть и сугубо людском, но все равно странном, необычном, пугающем. Он способен навсегда «увести» золотую жилу в неведомые земные недра – подальше от алчных душонок, а вот тех, кто ему придется по сердцу, наоборот, одарит золотом. В повествовании Бажова владыка недр выглядит стопроцентным сказочным персонажем, ничем не отличающимся от Бабы-Яги, Жар-Птицы или говорящей щуки. Однако…
Известная собирательница фольклора, свердловский (ныне, конечно, екатеринбургский) ученый В.П. Кругляшова десятки лет изучала предания и легенды Урала – в тех местах, что и Бажов, порой слушая тех же стариков, что поведали небывальщины Бажову. Так вот, собранный ею материал при внимательном изучении представляет совсем другого Полоза, не в пример более крепко привязанного к реальности.
Впрочем, не будем забегать вперед. Начнем с рассказов, и в самом деле совершенно сказочных.
А.Ф. Щипанов: «Слыхал я, люди про Полоза рассказывают. Говорят, будто Полоз указывает золото. Если человек хороший, то Полоз покажет ему, где золото, а если плохой – наведет на ложный след. Когда Полоз ползет, то после него остается золотистый след. Сказывают, многие теряли голову от этого золотистого следа. Начинали копать, но ничего не находили. Главное – это заметить место, где Полоз исчезнет. Там и золото. Неправда, конечно, все это».
А.А. Антронова: «Раньше в Полевском было много золота, а сейчас нет, и все потому, что змей Полоз золото отвел. Нашли полдневские мужики жилу и стали то золото мыть, а полевские узнали и пришли на ту же жилу. Повздорили меж собой мужики крепко, до кулаков дело дошло. Вдруг выполз Полоз, обогнул мужиков кольцом и провалился сквозь землю. С тех пор и не стало золота в Полевском, сколько ни искали».
В.В. Хмелинин: «Змей связывали с именем Полоза. Полоз оставлял следы на траве. Видели какие-то следы. Кто-то пройдет, остается мятая колея, но никто не видел самого змея. Что-то в этом было таинственное, и связано это с золотом. Таинственным местом, где обитал этот Полоз, было Гальенское громадное болото, простирающееся на десятки километров. Торф, трясина. В центр не пройдешь. ЛЕГЕНДА О ПОЛОЗЕ НЕ СОЧЕТАЕТСЯ С ЗОЛОТОМ, ТАК КАК ЗОЛОТА НИКОГДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В БОЛОТЕ».
Последняя фраза не случайно выделена мною крупными буквами. Потому что в ней скрыт своего рода мостик, своеобразный переход от чистейшей воды сказов к свидетельствам, где сказочного, собственно говоря, и нет вовсе. Рассказчик верно подметил характерную черту: часто, очень часто легенда о золоте с Полозом не сочетается вовсе! А вот те самые «следы на траве» появляются частенько, но в них уже нет ничего сказочного…
Я.Д. Раскостов: «Про Полоза слыхал, раньше говорили про него. Жил он в лесу, но прихожденье по ночам в деревню было. На снегу след оставался. Многие этот след видели. Говорили еще, что он как будто мог сжигать жаром и у него еще какое-то притяженье и было. „Притягивал“ людей».
(Любопытно, что за тысячи километров от Урала, в Африке, местное население в рассказах наделяет своего легендарного то ли змея, то ли ящера той же способностью: неведомым образом «притягивать» людей.)
А.Г. Пастухов: «Это давно было, я еще мальчишкой был (Рассказчик – 1894 г.р. – А.Б.) На Вараксином логу у нас покос был. Один раз приехали на покос – там выжжена полоса, как бревно протащили горячее. Я у отца спрашиваю: „Тятя, что это такое? Кто прополз?“ „Полоз“. А я говорю: „Что за Полоз?“ „А это большая змея, ей не попадайся, она может задавить“. И мы боялись даже спать. Я у отца спрашиваю: „А почему тут Полоз прополз?“ „А тут раньше богатое золото было, теперь вынуто, может, еще есть. Вот он и кружит возле этих ям“».
Как видим, и этот рассказ можно назвать сочетанием сказочного и реального. С одной стороны, отец мальчика повторяет старинные поверья о связи Полоза с золотом. С другой же, совершенно буднично предостерегает сына от встречи с «большой змеей», лишенной всякой мистики, как предупредил бы о медвежьем месте или гадючьем зимовье…
С.А. Борисова: «Полоз здесь был. Его даже моя мать видела. Трудолюбивая была. Сено на покосе оставлено было, пошла траву посмотреть. Смотрит, а траву всю припалило. Голову змей поднял, как зашипит. Мать километров двадцать отбежала, тогда вздохнула».
П.А. Сауров: «Про Полоза слыхал. Полоз как пройдет, так после него словно бревно толстое провезли – так продавливает. После него трава остается желтой. А почему желтой? В ём какие-то ядовитые вещества есть».
Этот мотив – то ли выжженный, то ли оставленный некоей ядовитой слизью след – возникает снова и снова. На первый взгляд, он-то и служит доказательством сказочности Полоза – подобные змеи науке неизвестны. Но почему-то рассказы насыщены массой совершенно реалистических подробностей, лишенных всякой мистики, даже приземленных…
П.П. Зюзев: «Полоз – это змей. Показывается много, да не каждому. Полоз в камнях, в пещерах живет. Пещера как ровно выкладена камнями. Даже боялись около этого места ходить. Он на зиму, что потребно, заготовлял. А вот для чего он жил, сказать не могу. Там, где Полоз жил, ничего около этого места не добывали. Говорили, что, если подойти близко, он может задушить либо похитить человека».
Т.А. Вараксин: «Есть такой Полоз – змея большая, метров шесть в длину. Пройдет – листы свернутся и трава как выжженная. У него, у змея, хобот большой, голова над землей поднята. Он может человечка захлестнуть и задавить. А богатство указывает ли? Так это кто его знает – мы не видели».
Ф.С. Рябухин: «Один мужичок рассказывал, что я, мол, видел, как Полоз прополз, одна сакта[18] осталась. Мужик только это и видел. Про Полоза говорят, что он толстый и длинный. Боялись его все, как бы не встретиться».
А.М. Будатов: «Про Полоза я, конечно, слышал. Мы жили у одного старичка. Он рассказывал, что его дедушка видел Полоза. Он метров десять длиной и толщиной с бревно. Еще другой старичок рассказывал. Это в Уфалее было. Полоз прошел по Ивановскому прииску, там потом золотые россыпи нашли. И мой дедушка, мол, повстречался с Полозом на покосе. Где он прошел – трава опалена была. Дедушка мой потом долго болел – испугался очень».
Не правда ли, мифологический персонаж понемногу теряет черты сказочного героя? Чем дальше, тем больше…
Ф.И. Шептаева: «Полоз – это как змея, голова у него змеиная, на шее белый галстук. Шипит тоже как змея. Если осердится, так надувается, делается толстый-толстый. Жил в лесу, в горах. На людей не нападал, если они его не тронут. Змей много там, где золото. И ПОЛОЗ ТАМ НЕ ЖИВЕТ. Он хлеб ел. Кто в лес идет, уж неси с собой хлеба, вдруг Полоз встретится. Я сама несколько раз его видела. Ходили по ягоды. Батюшки, змея шипит! Скорее хлеба ломаешь и бросаешь, он ест. А в то время уж убираешься. Убивать Полоза нельзя. Если убьешь одного, то другие Полозы в дом приползут, всю скотину передавят. Уж непременно выведут скотину. А если кто его и не трогает, и он не тронет. Питался он травкой, корешками».
Н.Г. Тупицын: «У нас покос был на Ржавце. Отец с матерью косили, выкосили, стали суп варить. Он и вышел, Полоз-то. Сами будто видели. Трава сгорела там, где он прошел. Он метров двадцать прошел: ползет – во рту у него копалуха[19] – прополз и ушел в болото клюквенно. Ползет, а голова-то поднята все время на полметра от земли, и в хайле копалуха».
Н.А. Прокопьев: «Слышал я одну историю про такого зверя. Боялись его все. А один мужик встретился с Полозом. Шел он стараться, золото искать. Весной дело было. Идет лесом, по дороге. Видит, две сосенки стоят рядом и Полоз меж ними на солнышке развалился. Испугался мужик. Думает: „Если идти мимо него, все равно удавит“. А назад возвращаться уже поздно. У него на плече лопата железная была. Что делать? Вскинул он быстро лопату да как хватил Полоза по голове, голова отлетела. А Полоз хвостом как хватил по сосне, так от сосны дым пошел. Сам мужик испугался до того, что два месяца болел».
Право же, полное впечатление, что речь идет не о мифическом чудище, а о каком-то насквозь реальном, прекрасно известном животном, не более сказочном, нежели медведь или лось, со своими, разумеется, специфическими повадками. При определенных условиях оно может задушить, убить, но специально за человеком не охотится (чем Полоз схож повадками с крупными варанами и анакондами. Вопреки нашумевшим фильмам случаи нападения анаконды на человека за целое столетие можно пересчитать по пальцам). Более того, при известной сноровке и решимости Полоза можно убить прозаической лопатой. Как хватил, голова и отлетела… Ничего похожего на сказочных драконов, склонных питаться царевнами и членораздельно переругиваться со странствующими рыцарями. «Копалуха в хайле» – предельно бытовая деталь…
Кстати, еще не факт, что змея достигала в длину именно аж шести метров. Давным-давно известно: крупная змея всегда кажется наблюдателю длиннее, чем она есть. В свое время рассыпалось немало легенд о пятнадцатиметровых южноамериканских анакондах: едва исследователь подступал к змеиной коже с прозаическим сантиметром, выяснялось, что на самом деле «исполинша» была длиною метров в пять. Таковы уж свойства человеческого восприятия – что на Амазонке, что на Урале.
Так что же такое Полоз – некий уральский удав метра три длиной? Возможно, некогда на Урале обитали не только относительно большие змеи, но и рептилии вроде гигантских варанов. В рассказе Шептаевой перед нами предстает скорее варан: змеи (за исключением нескольких видов индийских кобр) не способны «раздуваться». А вот варан, как и многие другие ящерицы, рассердившись, как раз надувает шею, «делается толстый-толстый». Быть может, речь вообще идет о двух разных видах – крупной змее и некоем «сухопутном крокодиле». Мелкие змеи и ящерицы испокон веков обитают и на Урале, и в Сибири, впадая зимой в спячку. Не стоит делать скоропалительных выводов, но все, что известно о биологии крупных рептилий, отнюдь не противоречит версии о их существовании в зоне умеренного климата. Уж если перебирать версии, то «уральский дракон» мог оказаться потомком динозавров – а последние, установлено, были (по крайней мере, некоторые виды) не пресмыкающимися, а теплокровными, следовательно, температура их тела не зависела от температуры окружающей среды, и это помогало выжить в зоне холодов.
В конце концов, вараны индонезийского острова Комодо, достигающие пяти метров в длину, были признаны европейцами за реальные создания только после первой мировой войны. До этого свидетелей попросту высмеивали, зачисляя в сумасшедшие или Мюнхгаузены…
Что еще любопытнее: если внимательно изучить фольклор прилегающих районов, «уральские драконы» отнюдь не выглядят чем-то из ряда вон выходящим. Много сотен лет от Урала до Балтики с завидным постоянством рассказывали о неких ящерах, опять-таки почти всегда лишенных мифологических черт, больше напоминающих реальных рептилий, описанных кем-то, кто хорошо знал их повадки и, возможно, видел своими глазами. Ящер занимает центральное место в фольклоре коми-пермяцких народов, присутствуя в вышивках, шаманских бляшках, древнем литье, рисунках. В IХ–Х веках нашей эры новгородские словены поклонялись некоему загадочному богу-ящеру – причем, судя по летописям, этот «бог» не владел членораздельной речью, не требовал на ужин непорочных девиц из хороших семей и не собирал с поселений налога в виде серебра и мехов. Наоборот, вел он себя подобно вполне реальной крупной рептилии: в образе «лютого зверя крокодила» обитал в реке Волхове, частенько нападая на лодьи, топя их, пожирая людей. По иным источникам, его в конце концов прикончили и закопали без божественных почестей где-то на берегу…
Псковская летопись рассказывает о весьма необычном событии: в лето 7090 (1502 г. от Р. Х.) «изыдоша коркодилии лютие звери из реки и путь затвориша; людей много поядоша. И ужасошеся людие и молиши Бога по всей земли. И паки спряташися, а иных избиша».
Иные исследователи, пытаясь хоть как-то объяснить загадку, выдвинули версию: дескать, некие иноземные купцы зачем-то привезли на Русь несколько крокодилов, каковые сбежали и, освоившись в русских реках, стали нападать на людей. Однако эта гипотеза выглядит мало правдоподобно. Во-первых, в летописи речь идет явно о событии, которое можно назвать нашествием «лютых» крокодилов. Вряд ли наши предки, располагавшие к тому времени огнестрельным оружием (вспомним отважного мужичка с железной лопатой, даже без ружья) стали бы пугаться пары-тройки привозных ящеров, которые и не могли быть особенно большими: ради простоты перевозки иноземные купцы наверняка прихватили бы небольших, молодых крокодильчиков. Во-вторых, в старинных русских документах попросту не встречаются упоминания о иностранных торговцах, привозивших рептилий. В-третьих, столь крупный отечественный специалист, как академик Б.А. Рыбаков, посвятивший водяному богу-ящеру целую главу в своем труде «Язычество Древней Руси», писал, что «речь идет о реальном нашествии речных ящеров».
Возможно, эти «речные крокодилы», прекрасно знакомые нашим далеким предкам, в силу каких-то сбоев в обычном механизме существования чрезмерно размножились. И мигрировали, подобно леммингам. В любом случае речь идет о масштабном нашествии опасных рептилий: люди ужаснулись «по всей» Псковской земле, значит, угроза была нешуточная…
В том же XVI веке посол австрийского императора Сигизмунд Герберштейн в своей книге «Записки о московитских делах» подробно описывает неких крупных ящериц, неизвестных современной науке, которым язычники-литовцы поклонялись, как богам. Эти «боги» опять-таки ведут себя совершенно небожественно, всего-то в определенные часы вылезая из укрытия, чтобы попить приготовленного для них молока. Книга Герберштейна до сих пор считается одним из ценнейших источников российской историографии, а ее автор на барона Мюнхгаузена ничуть не походил. Вот что он писал конкретно: «Там и поныне очень много идолопоклонников, которые кормят у себя дома как бы пенатов[20], каких-то змей с четырьмя короткими лапами наподобие ящериц, с черным и жирным телом, имеющих не более 3 пядей в длину (60–75 см – А. Б.). В положенные дни люди очищают свой дом и с каким-то страхом всем семейством благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище». Ничего особенно сказочного – в иных местностях Юго-Восточной Азии точно так же кормят священных для местного населения кобр, привыкших в определенные часы выползать к принесенной пище.
И, наконец, уже в наши дни известия о случайных встречах с небольшими речными ящерами порой приходят из малообитаемых районов Псковской и Новгородской областей, знаменитых огромными болотами.
Конечно, трудно поверить, что некие крупные рептилии и до сих пор обитают в болотах Псковщины или в уральской тайге. Вполне возможно, они существовали, но вымерли, и наши далекие предки (впрочем, судя по уральским былям, не такие уж далекие) сталкивались с последними особями вымирающих видов. Как бы там ни было, то постоянство, с которым сотни лет обитатели огромных территорий, простирающихся от Балтики до Урала, сохраняли рассказы о «ящерах» и «полозах», заставляет задуматься. Можно вспомнить, сколь длинен список крупных животных, всего сто лет назад считавшихся плодом расстроенного воображения вралей-охотников или сказками туземцев. Комодские вараны, целакант, карликовый бегемот, медведь-кадьяк… Вплоть до начала двадцатого столетия ученые и не подозревали о существовании гигантской горной гориллы! В 1900 году, в местах, считавшихся прекрасно исследованными, исхоженными естествоиспытателями вдоль и поперек, английский капитан Гиббонс обнаружил дотоле неизвестного белого носорога. Не землеройку или белку, а животное весом в две тонны, достигавшее в холке двух метров…
Практика к тому же показывает, что порой реальнейшее животное способно приобрести в глазах обитателей данной местности черты мифологического чудовища: например, того же карликового бегемота, зверя, в общем, безобидного, негры считали «ядовитым» и панически боялись к нему даже прикоснуться. В разных частях света прямо-таки мистическими свойствами наделяли гиену и росомаху, волка и комодского варана. Так что, возможно, сообщения о реальном Полозе, то ли ящере, то ли змее (а быть может, и змее, и ящере) примешались позднейшие наслоения чисто сказочного плана. Сказка тесно переплелась с рассказами очевидцев.
Однако предания о волках, способных человеческим голосом беседовать со странствующими царевичами, еще не делают волка мифологическим животным. И так далее, примеров можно подобрать много.
Районы дикие, необжитые, где в буквальном смысле не ступала еще нога человека, весьма обширны – что за Уралом, что на Урале. И не исключено, что где-то в уральской горной тайге и сейчас греется на солнышке реликтовое животное, именуемое Великим Полозом – и по своей неразумности представления не имеющее, что молва наделила его способность оборачиваться человеком и «отводить» золото…
Эка невидаль…
Геологические были о странном. Быль о машине-невидимке.
Это случилось в середине лета 1977-го года. Лето это памятно, в первую очередь, даже не своими странностями, о которых рассказано ниже, а тем, что именно тогда в Красноярском крае из магазинов начисто исчез шоколад. К этому привыкли не сразу, вот это выглядело по-настоящему странно: долгие годы шоколада в магазинах было хоть завались, и вдруг он исчез в одночасье, сначала показалось, это ненадолго, но выяснилось – лет на десять.
Ладно, не будем отвлекаться. Наш отряд тогда, как говорят в геологии, стоял на крохотной таежной речушке, у склона огромной и пологой, километров десять в диаметре, сопки, сплошь заросшей лесом. По другую сторону сопки – деревня. Из деревни к лагерю вокруг сопки вели две дороги, с высоты птичьего полета, надо полагать, смотревшиеся огромными полукружьями. Дорога с правой стороны сопки и дорога с левой. По какой из двух ни пойдешь от лагеря – придешь в деревню. По какой ни пойдешь от деревни… Ну, соответственно.
Место это, как в первый же день выяснилось, было медвежьей территорией. Медведь – зверь оседлый, отгораживает себе строго определенную территорию и, подобно средневековому феодалу, считает ее своим законным и неотъемлемым владением. Другим медведям внутрь отмеченных границ заходить категорически не рекомендуется – иначе хозяин постарается пустить их клочками по закоулочкам. Людям гораздо проще. Сытый и здоровый медведь никогда не трогает без особой нужды ни людей, ни домашнюю скотину, если люди соблюдают несложные правила.
Позже выяснилось, что здешний топтыгин был не просто феодалом, а наследственным хозяином. Поколении, кажется, в четвертом. И прадедушка его, и дедушка и папаша (а может, прабабушка, бабушка и мамаша, в такие тонкости никто не вдавался) обитали в этих самых местах с довоенных времен. С деревенскими медведь поддерживал своего рода нейтралитет: в селе он не пакостничал, коров, во множестве шлявшихся по тайге, никогда не трогал, а деревенские, в свою очередь, воздерживались от актов вооруженной агрессии по отношению к династии топтыгиных. Городские охотники в те времена туда не добирались. Так что всем было удобно, всем было хорошо, и людям, и косолапому.
В первый день, когда мы только прибыли и разбили палатки, мишка, естественно, возмутился в точности так, как вознегодовал бы какой-нибудь мелкий барон, узнавши, что неподалеку от стен его родового замка устроила табор неведомо откуда нагрянувшая цыганская орда. Битых трое суток «хозяин тайги» бродил где-то по вершине сопки и орал средь бела дня, что твой Змей Горыныч – пугал и выпроваживал, авось да уберемся. Рычанье и рявканье, надо сказать, впечатляло – сильнее медвежьего рявканья по психологическому воздействию только, пожалуй, вопли рыси в ночной тайге.
И тем не менее отряд и не подумал менять дислокацию. Мы прибыли туда месяца на три, не меньше, нам предстояло вдумчиво и скрупулезно провести электроразведку именно на этом участке. Рабочие планы подразделений министерства геологии испокон веков составлялись без учета медвежьих эмоций…
За три дня медведь кое к чему присмотрелся. Определенно сообразил, что ни у кого из непрошеных гостей нет ружей и, судя по поведению, охотиться они не собираются вовсе (такие вещи косолапый понимает прекрасно). И не мог не отметить также, что двуногие регулярно ходят по своим, строго определенным маршрутам. И не мог не сделать вывод: люди прибыли по каким-то своим делам, с его делами не пересекающимися вовсе.
В том, что медведь рассуждал именно так, убеждают последующие события. На четвертый день медвежьи обиженные вопли уже не раздались, и все три с лишним месяца, что мы прожили у речушки, мишка вообще не дал о себе знать. Никуда он не ушел, конечно – просто не давал более о себе знать ни ревом, ни следами. Сосуществовал с нами настолько незаметно, что, если не знать о нем заранее, можно было подумать, будто его там и нет.
Ну, это лирика… Итак, мы стояли на речушке. Два-три деревянных барака, оставшихся от каких-то предшественников, полдюжины палаток, пять-шесть молодых специалистов обоего пола с новехонькими дипломами о высшем и среднем специальном образовании, да два десятка работяг, сиречь нас. В общем, именно этот лагерь описан в романе «Охота на Пиранью» – примерно так он, заброшенный нами по окончании работ, должен был выглядеть.
Пора о необыкновенном. Так вот… В тайге, надобно вам знать, скучновато, если ты не шатаешься по ней идиотом-туристом, а обосновался на все лето работать от зари и дотемна. Небольшая прогалина, примыкающая к речушке, а вокруг – сплошная стена тайги. Ближайшая цивилизация в виде деревеньки – в пяти километрах. Скука. Любому мизерному развлечению будешь рад. Поэтому, когда время от времени, пару раз в неделю, из областного центра приезжала наша машина, весь народ, заслышав на дороге урчание мотора, живенько вылезал из палаток и бараков.
Вот и тогда – вылезли. Столпились. Узкая дорога в одну раздолбанную колею, где с трудом протиснется одна-единственная машина, да и то задевая бортами кузова за ветки, просматривалась метров на сто, а далее резко поворачивала вправо, так что полагаться приходилось исключительно на слух. И все двадцать пять человек прекрасно слышали, как совсем близко надрывается мотор, как скрежещут шестерни в ветхой коробке передач. Совсем близко раздавались эти звуки, под самым носом, за поворотом. Вот-вот появится машина…
Она так и не появилась. Более того, мотор вдруг замолчал и больше уже не работал. Воцарилась неописуемая таежная тишина. Полагая, что наш старенький ГАЗ-51 накрылся медным тазом буквально в паре сотен метров от лагеря – а иного логического вывода на основании того, что мотор сначала работал, а потом умолк, и нельзя было сделать – самые нетерпеливые бодрым шагом двинули навстречу.
И не обнаружили за поворотом никакой машины. Более того, не обнаружили ее вообще. Недоуменно матерясь, прошагали в сторону деревни еще не менее километра – но никакой машины не обнаружили.
Она так и не появилась в тот день. Прибыла только через сутки. Такие дела. Повторяю: обе дороги, что правая, что левая, соединявшие деревню с лагерем, представляли собой стиснутые тайгой колеи без каких бы то ни было ответвлений, поворотов, съездов и обочин. Едва-едва протиснуться одной машине. Выехав из деревни, можно попасть исключительно в лагерь. Выехав из лагеря, можно попасть исключительно в деревню. Развернуться на этой колее было физически невозможно – для любой мирной гражданской машины, я имею в виду. Только танк способен был там развернуться, снеся пару дюжин деревьев…
Естественно, имела место некоторая оторопь. Ведь, с одной стороны, чуть ли не три десятка человек прекрасно слышали, как совсем рядом, ну, метрах в двухстах самое дальнее, завывает изношенным мотором старенькая машина, переваливаясь по буграм и колдобинам. С другой стороны – те, кто пошел на звук, не обнаружили вблизи каких бы то ни было транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания… Ясен ребус?
И ведь дня через два все это в точности повторилось, вновь повергнув весь отряд в злое, тягостное недоумение. Снова близенько, вот туточки, за поворотом шумит мотор, скрежещут передачи, тужится потрепанная машинешка, пытаясь одолеть колдобины и рытвины, вот-вот покажется из-за поворота… а вот вам шиш! В один прекрасный момент звук мотора умолкает, словно повернули некий выключатель, и ни звука более не слышно. До следующего раза. Невидимая машина с завидным постоянством стремится к лагерю и, не доехав до него пары сотен метров, исчезает неведомо куда…
Бога ради, только не надо логических, рациональных, материалистических объяснений! Их попросту нет, понимаете? Версию о том, что это попросту долетал до нас шум мотора ездивших где-то поблизости машин, отмели почти сразу же. Потому что «поблизости» не было ни машин, ни дороги с оживленным движением. До деревни, повторяю еще раз, было километров пять – и еще километрах в восьми далее располагалась самая оживленная ближайшая трасса…
Мы ведь очень быстро, осатанев от этих мистических непонятностей, выкроили время и принялись экспериментировать – при полном попустительстве начальства, которому самому было интересно. Благо наш шофер, с настоящей машины, оставшись ночевать в лагере и на следующий день обеими ушами слушавший «невидимку», своими ногами отмахав с километр дороженьки, всецело проникся ситуацией…
В общем, шофер ездил, а мы слушали. Экспериментальным, сиречь строго научным путем было установлено:
а) шум мотора настоящей машины слышен в лагере (исключительно тогда, когда она находится не далее чем в трехстах метрах от лагеря;
б) если отъехать дальше, мотора в лагере не слышно;
в) шум моторов других, посторонних, далеко проезжающих машин до лагеря попросту не доносится.
Итак, путем строгого эксперимента…
А «невидимка», сволочь такая, продолжала мотать нервы. Если не каждый вечер, то уж через пару дней на третий – это как закон. Возможно, кому-то это и смешно читать, не спорю, никаких привидений с синими рожами, никаких оборотней, леших…
Но нам тогда, честное слово, было не до смеха. Мы попросту злились. Однажды, когда раздался поблизости шум мотора – ну метрах в двухстах, не дальше, как обычно! – наш шофер, тоже изрядно осерчав, вскочил в свой раздолбанный «газон» и помчал навстречу «невидимке» со всей скоростью, какую позволяла разбитая колея.
И ничего не увидел, кроме пустой дороги.
Позже, когда выдалось свободное время, осторожненько поговорили в деревне с местными. Они эту загадку обсуждали скупо, нехотя и без всякого удивления. Оказалось, им это прекрасно знакомо, и настолько давно, что успело наскучить. Ну да, говорили они, ничуть не удивляясь. А как же. Ездит такая… невидимая. И давненько, между прочим, ездит, времен с довоенных. И никто ее никогда не видел, а вот слышать слышали многие. Ни вреда от этого ездуна, ни, понятно, пользы.
Это было проявление классического крестьянского менталитета – отнюдь не сугубо российского, а, пожалуй, интернационального. Крестьянин испокон веков – приземленнейший практик. Он попросту старается не уделять внимания вещам, событиям, явлениям, которые не оказывают реального, непосредственного влияния на его жизнь. Ездит невидимая машина – и черт с ней, коли не вреда от нее, ни пользы…
Правда, один хитрый и пьющий старикашка, попробовал было таинственным шепотком плести небылицы про лично им виденного синерожего шофера. Будто, мол, этот ездун обожает приглашать в кабину случайных встречных – и кто, мол, сядет, тот и пропадет с концами…
Но доверия этот, с позволения сказать, источник не вызывал ни малейшего. Во-первых, откровенно путался: то у него в кабине ездил синий гниющий мертвяк, то голый скелет. И во всем остальном имелись существенные разночтения, детали всякий раз менялись. Во-вторых, из десятка наших «интервьюируемых» о привычке шофера заманивать в кабину неосторожных путников говорил один этот старикашка. Все остальные повторяли одно и то же: машина-невидимка болтается по таежным дорожкам давно, лет сорок, многие ее слышали, но никто никогда не видел, и ни пользы от нее, ни вреда…
Вот такая история. Возможно, она и не впечатляет в сравнении с похождениями Малдера и Скалли (да и в сравнении со многими свидетельствами, в этой книге приведенными допрежь). Не впечатляет – если вас не было среди тех двадцати пяти, кто своими ушами слышали не единожды шум мотора совсем близко… Шум мотора машины, которой не было.
Финал? Да, собственно, не было никакого финала. Махнули рукой. Не писать же в Академию наук: «Товарищи ученые, доценты с кандидатами! Пишут вам простые советские геологи числом не менее двадцати пяти. У нас тут каждый вечер ездит машина-невидимка, и задолбала она нас вконец, так что пришлите экспедицию, только чтоб главным был непременно профессор с бородой, иначе несолидно…»
Ага… Им что там, в Академии наук, подтираться больше нечем, кроме как такими письмами? Туалетная бумага имеется…
В общем, мы попросту махнули рукой на этого чертова невидимого ездуна. Мы туда приехали не загадки природы разгадывать, а выполнять конкретную работу, за что, между прочим, полагались приличные деньги. Своих забот было по горло. На шум мотора по вечерам больше не обращали внимания, и точка…
С некоей попыткой объяснения – не этой загадки, но чем-то схожей – я столкнулся лет двадцать спустя. Один мой знакомый жил с напарником в таежной охотничьей избушке, и каждую ночь им чертовски досаждало долгое, совсем близкое петушиное кукареканье. Звуки вроде бы самые что ни на есть житейские – вот только до ближайшего жилья, где имелись бы курятники, нужно было идти на своих двоих километров пятьдесят. Обитатели охотничьей избушки, к слову, вели самый что ни на есть трезвый образ жизни – они туда пришли не водку жрать, а промышлять соболя. Опытные были охотники, профессионалы. И вот, извольте… Зима, полсотни километров до ближайшей деревни – а петухи орут поблизости каждую ночь…
В общем, они поступили точно так же, как мы в свое время – стали жить так, будто никакого петушиного пенья и нет вовсе. Благо, кроме этого назойливого кукареканья, более ничего странного так и не произошло.
Так вот, уже позже один городской человек с ученой степенью, услышав о загадочном петушином пении и о невидимой машине, пытался уверить, будто все дело в том, что в атмосфере существуют некие «звуковые каналы», переносящие-де мирные бытовые звуки аж за десятки километров…
Что ж, объяснение как объяснение, не хуже и не лучше любого другого. Беда только, что ученый человек очень быстро нам же и проговорился: означенные «звуковые каналы» – не введенная в научный оборот истина, а его собственная гипотеза, экспериментального подтверждения пока что не имеющая. Что, по-моему, научную ценность объяснения несколько снижало…
Так что… А что, собственно, «так что»? Все было именно так, и все осталось неразгаданным…
А вообще, в тех местах, о которых я пишу, с давних пор добывали золото. Для кого-то это не объяснение, но как для кого… Там, где добывают золото, знаете ли, частенько… блазнится, как выражались в старые времена. Маячит. Видится. Причем порой это нечто оказывает, знаете ли, активное воздействие на свидетелей – в отличие от нашей машины, не причинившей никому ни малейшего вреда.
Такой уж металл это золото – металл, за который люди гибнут чаще и охотнее, нежели за все другие металлы…
И, что характерно, ни у кого из нас почему-то не было страха при явлении машины-невидимки. Не было, и все тут. Это лишь усилило наплевательское отношение к наблюдавшемуся феномену, чью загадку постичь так и не удалось. Вот если бы ночами пугало, если бы в палатку лезли синие рожи, а за спиной взрывались нелюдским хохотом замогильные голоса, если бы нелюдские огни светились, и дым шел до самого неба, а идолы сами собой выкапывались бы из земли…
А что до настоящего страха… Был у нас в отряде пустой, вредный мужичонка. Не любили его за то, что выпив не более наперстка, начинал цепляться ко всем подряд с неясными ему самому претензиями, что-то ныл оскорбительное, за грудки хватался – одним словом, был хлипок и неопасен, но надоедлив, как комар. Пару раз ему подвешивали по сусалам, а потом, когда надоел вконец, решили проучить всерьез…
И вот вам декорации. Наш склочник (а он, на чем розыгрыш и базировался, наутро ничего не помнил из вчерашнего) просыпается прямо у палатки, где вчера и заснул, не добредя до спального мешка. Голова трещит, во рту эскадрон ночевал – ну, симптомы все насквозь привычные, оно бы и ничего, вот только неподалеку лежит смирнехонько и неподвижно накрытое брезентом нечто, по форме крайне напоминающее утоплый труп мертвого человека. И с одного конца сапоги из-под брезента высовываются, носками в небо. И сидит над нашим склочником начальник отряда с карабином на коленях. И, едва мужичонка пытается встать, рявкает:
– Лежать, мать твою! А то пальну!
И тут же – отряд в полном составе. Лица у всех мрачные, удрученные, головами покачивают: мол, надо же… м-да, ситуация…
Склочник, уже чувствуя неладное, все же вновь пытается встать. И снова окрик:
– Лежать, не шевелиться! До приезда милиции лежать! Да, брат, ну и натворил ты… А впрочем, какой из тебя брат, тварь такая…
Как писал классик Успенский (который Михаил) – жить всегда страшно, а с похмелья тем более.
Унылая ситуация.
Человечка начинает корежить: ребята, да вы что, да я…
Лежать, орут два десятка глоток. Лежать, тварь! Лежать, морда, с-сука позорная! Лежать, выродок! Пока участковый из деревни доберется, мы тебя сами порвем… при попытке к бегству! Какого парня порешил, гнида!
Мужики?! Да вы что?! Да нешто я…
Ты, падло, ты, волк позорный! Ты Володьку, козел, тварь, вчера вечером ножичком под сердце саданул! Вон он, Володенька, друг наш милый, под брезентом бездыханным покоится! И за участковым уже послано в деревню, и ножик твой – вот он, и светит тебе, надо полагать, голимая вышка. А ты чего же, гад, хотел от жизни и прокурора после таких фокусов, путевку в Сочи и блондинку в койку? Сука, какого парня замочил… Не доведем до властей, сами порвем…
Вот это был страх, судари и сударыни! Всем страхам страх. Стра-ах… Дай вам бог, хорошие мои, в жизни не видеть физиономии, сведенной этаким вот страхом…
Злая, кончено, была шуточка, жестокая, но очень уж этот организм всех достал. Ну, мы ж не звери, мы его в таком состоянии держали пару минут, не более, чтобы не рехнулся и не помер от разрыва сердца…
По размышлении, этот сморчок должен был нам быть только благодарным. За ту нечеловеческую радость, что ему довелось испытать, когда ему показали, что нет под брезентом никакого трупа, а лежат там только свернутые фуфайки, и пустые сапоги к ним прилажены. Вот это было счастье, радость… Ни убийства, ни грядущей стенки!!!
Это – о настоящем страхе. А невидимая машина, от которой не было никакого вреда, кроме шума и загадочности… Эка невидаль!
Быль о бабуле
Произошло это в тех же местах, но пару недель спустя.
Я сейчас уже не помню, зачем мы отправились в деревню втроем. Что не за водкой, это точно – деньки стояли погожие, рабочие, и за неделю мы, сдельщики, заколачивали больше, чем молодой специалист с дипломом получал жалованья в месяц. Какая тут водка?!
Солнышко, ясное небо, тишина, благодать, птички чирикают, белки шебуршат, ручеек журчит, из-за сосны соболь выглянул, в него шишкой запулили, он и спрятался… Белый день, нынче весело шагать по просторам… Трезвые все трое, и давненько уж, веселые и бодрые…
Дорога, по которой мы шли, одна из вышеупомянутых двух дорог, что соединяли лагерь с деревней, была несколько своеобразной, не похожей на вторую. В свое время ее пробили тяжелыми бульдозерами к выработанному ныне и заброшенному золотому прииску – пробили посреди глухой тайги, поскольку в давние суровые годы затрат считать было не принято. Державе нужно золото, и точка…
И потому дорога имела такой вид: шириной метра четыре, не более, по обе стороны – крутые обрывы высотой метра в полтора, практически отвесные, а уж над обрывчиками – тайга. Чувствовалось, раньше здесь была узенькая тропинка, а потом ее как следует расширили и углубили, так что получилось нечто вроде канавы. Чтобы влезть по этим обрывчикам наверх, к деревьям, даже нестарому, сильному и ловкому человеку пришлось бы чуточку потрудиться, проявив чудеса акробатики. Представьте себе эту канаву, эти обрывчики со свисающими корневищами как можно детальнее…
Ну, в общем, мы встретили старушонку. Самую обыкновенную, явно деревенскую – откуда же ей еще взяться? «Здорово, бабуль!» «Здравствуйте, сынки!» «За ягодами, бабуль?» «В деревню, сыночки?» Вот и весь разговор, а чего тут рассусоливать? Вот если б это была деваха в платьице, мы б задержались, а так… Довольно быстро, после обмена еще парочкой вежливых фраз, бабка пошла себе дальше, от деревни, а мы, соответственно, в деревню.
Я уже не помню, что мы забыли в лагере – но что-то забыли, и нужно было вернуться. Кажется, не все письма, что должны были отправить, захватили с собой. В общем, мы очень быстро решили вернуться. Через… Примерно через столько времени, сколько нужно, чтобы докурить сигарету «Прима» почти «до фабрики». Минута, две, три? Уж не более трех минут.
Возвращаемся, идем назад…
Нету бабки! Нету. Нету бабки на дороге-канаве. Нету на дороге никакой бабки. Ясно вам? Нет бабки, не-ту-ти! А ведь она должна на дороге быть! Давно мы, три здоровых молодых балбеса, должны были ее догнать, вот и лагерь показался… нету бабки! Нигде нету!
Это сейчас, через двадцать шесть лет, мне уже не страшно. А тогда страшно было всем. Стоят три трезвых, здоровых, но уже не бодрых и не веселых молодца, переглядываются молча, и по спинам, знаете ли, холодочек… Потому что нету бабки. Неведомо куда пропала с дороги. Прикажете поверить, что наша бабуля одним лихим прыжком, не хуже десантника, взлетела на обрывчик высотой самое малое в полтора метра, ухватилась за свисавшие корни и пропала в тайге? Это после того, как мы видели, какая она старая? Как плетется?
Ни тогда, ни теперь в это насквозь материалистическое объяснение не верилось. Никак не под силу было старушонке вскарабкаться на тот обрывчик. Не могла она этого сделать, ни за что не могла!
Нету бабки. Белый день, птички щебечут, белки шмыгают, ручей журчит, а по спине – холодок…
А на вид бабка была самая обыкновенная. Ничего удивительного, это только в фильмах вроде «Вия» у таких бабуль нос крючком, глаза как плошки. В обыденности вид у таких вот бабуль насквозь обыкновенный. И глаза частенько – добрые-добрые…
Мы ни тогда, ни потом об этом случае не говорили ни со своими, ни с деревенскими. А зачем? Что, собственно, произошло? Бабуля шла по дороге, а потом ее не стало. И все. Нам она, в конце концов, ничегошеньки не сделала, как и мы ей. Ну, исчезла совершенно необъяснимо… Значит, так ей было надо.
Бывает… А что тут еще скажешь?
Быль о непрошеных гостях
Эта история случилась годом спустя, летом 1978-го. Мы тогда приехали в вымирающую деревеньку: два десятка домов, вытянувшихся вдоль озера, полтора тракториста, два с половиной механизатора, полдюжины стариков и старух, половина домов уже необитаема… Тогда это называлось: «неперспективная деревня». Было этакое модное поветрие: «укрупнять», изволите ли видеть, сельские населенные пункты, свозить народ на жительство в «перспективные» деревни, наплевав при этом на неперспективные. Обернулась эта затея для сибирской деревни новыми бедами, а придумала все госпожа Заславская. Ну да, гвардеец перестройки. Только тогда она была еще не госпожой, а специалистом по сельскому хозяйству при ЦК КПСС. Ну и насоветовала, сучара драная…
В общем, именно эта деревушка описана в третьей части романа «Волчья стая», если кому интересно – не только деревушка, но и вся наша тогдашняя бригада вкупе с автором этих строк. Единственное (зато принципиальнейшее) отличие в том, что в реальности никакого клада мы не находили, а потому, как легко догадаться, вовсе не перерезали и не перестреляли друг друга. Кто и помер впоследствии – исключительно от водки.
Ладно, не будем растекаться мыслию по кедру…
Бригада наша, состоявшая из четырех человек, заняла одну из давненько пустовавших избушек. И однажды мы все четверо отправились заготавливать дрова для кухни. Срубили дюжину берез, напилили на чурбаки, покидали чурбаки в машину и с чувством исполненного долга вернулись в деревню. Плотно пообедали после трудов праведных… и выпили, ага. Поллитра водки на четверых. То есть – по сто двадцать пять грамм. По полстакана на человека. Всего-то… И легли подремать после лесоповала, сытного мясного обеда и чарочки. Время было – меж тремя и четырьмя пополудни, погода прекрасная, солнечно, ясный день. Чтобы не беспокоили нас, приуставших, сотоварищи по отряду, дверь изнутри заложили на большой железный крючок.
Я не спал и не бодрствовал – так, подремывал. И в некоторый момент это началось.
Сначала кто-то явственно и шумно ходил в сенях. Потом крючок (державший дверь прочно и качественно), судя по звуку, слетел. Будто дверь с изрядной силой дернули. Лень было вставать, и открывать глаза тоже лень, так что я лежал себе, благо беспокоиться не было ни малейших причин: деревенька, никаких тебе беглых разбойников и зверей, белый день вокруг…
Выглядело это так…
Нет, «выглядело» – слово неудачное. Я же не открывал глаз. Обстояло – так вернее. Судя по звукам, обстояло все так: какой-то мужик бродил по небольшой единственной комнатке, тяжело ступая, брюзгливо ворча: мол, набезобразили, все вверх дном перевернули, ходят тут всякие, носит их нелегкая… Самое интересное – я не мог разобрать ни единого членораздельного слова, но отчего-то совершенно точно знал, что смысл бормотанья именно таков, каким я его описал. До сих пор не могу объяснить, почему и откуда я это знал – знал, и точка. Ни слова не разбирал, но смысл понимал. Вяло констатировал в полудреме, что это, должно быть, хозяин избушки, мужичок с ноготок лет пятидесяти, этакий полуидиот с детским безбородым личиком. У него было две избушки, в одной сам обитал, а эту, пустующую, сдал нашей бригаде. Помню прекрасно, что я тогда чуточку удивился: чего он, собственно, придурок, разворчался? Никакого беспорядка мы ему не устраивали. Неоткуда взяться беспорядку – когда мы приехали, изба была совершенно пустая. Мы, наоборот, сколотили столик и нары…
Потом показалось, что он не один. Что с ним вместе ходит еще и женщина, тоже ворчит, женским сварливым голоском…
А потом – подбросило.
В буквальном смысле. Взметнулся я на нарах, словно уколотый шилом в известную часть организма. Этот толчок, этот импульс, этот рывок я до сих пор не в состоянии описать внятно: не страх, не тревога, не злоба на мешавшего дремать идиота… Черт его знает… Просто – подбросило. Что-то вдруг подбросило на нарах, что-то заставило выхватить нож (ножны были на поясе), что-то потянуло прямиком к печке. И тут же раздалось рядом:
– МУЖИК ЗА ПЕЧКОЙ!
Это, оказалось, остальные трое соскочили с нар прямо-таки синхронно – и мы вчетвером окружили печку. Как во сне. Как в наваждении. Почему-то все четверо, не сговариваясь, поступили одинаково – окружили печку. Продолжалось это наваждение совсем недолго. Все разом словно бы опамятовались, осознавая себя посреди совершеннейшей реальности. Не было никого в избе, кроме нас четверых. Мало того: дверь была закрыта, как мы ее и закрывали, крючок прочно сидел в петле, как мы его и накинули…
Впечатлениями обменялись молниеносно, по горячим следам. Все четверо пережили одно и то же: слышатся тяжелые шаги в сенях, звонко слетает крючок, некий мужик начинает болтаться по избе, бурчать недовольно, слов не удается разобрать, ни единого словечка, но смысл бурчанья отчего-то кристально ясен: ходят тут всякие, носит тут всяких, заявились, набезобразили… и словно бы женщина с ним, реплики подает время от времени… Потом – тот самый толчок, опять-таки одновременно, синхронно поднявший всех четверых и заставивший ловить «мужика за печкой»…
Вот такая история. Алкоголь в качестве вызвавшего ее фактора отметаем моментально: ну что такое поллитра водки на четверых взрослых людей, к тому же перед принятием стопарика пообедавших обильно и сытно?
И потом, никто и никогда не слыхивал о групповых алкогольных галлюцинациях. Даже если предположить, что мы до этого дня с месяц пили запоем – одинаковых «глюков» в таких случаях даже у двух людей не бывает, не то что у четверых. Алкогольные галлюцинации – вещь сугубо индивидуальная. Мы ведь, повторяю, выпили по полстакана, а до того месяца полтора в рот не брали…
Водка тут ни при чем. Нас было четверо, и пережитые нами эмоции, ощущения, впечатления походили друг на друга, как горошины из одного стручка.
Мы прожили в этой избушке еще месяц и более ничего странного не наблюдали ни в ней, ни вообще в деревне. Вот разве что…
Понимаете, бывают хорошие места, нормальные, а бывают – плохие. Не могу объяснить разницу во вразумительных формулировках, скажу одно: полагаю, любой человек с опытом работы в тайге, вообще в глухомани, поймет, о чем я. В тех местах, что описаны в двух предшествующих былях, несмотря на вышепомянутые странности, отчего-то было тем не менее хорошо. Хорошие были места, спокойные. Вот там-то, оказавшись в тайге в полном одиночестве, я себя чувствовал, как и другие, прекрасно. Браво отмахивал немаленькие концы, не ощущая ни малейшего дискомфорта, ни малейшего душевного неудобства. Был словно бы как дома – в глухих местах, на медвежьей территории (а в ином случае – на рысьей), в краях, где разъезжают невидимые машины и неизвестно куда деваются дряхлые бабки.