Бомба в Эшворд-холле Перри Энн
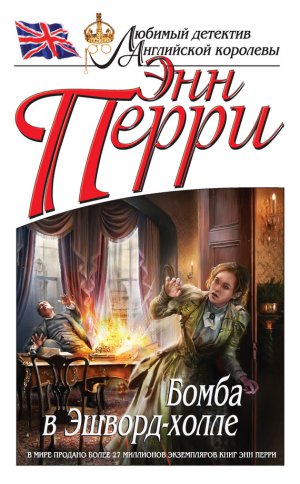
– Иногда, Грейси, вы очень мудры. – И он легко коснулся ладонью ее плеча. Она почувствовала его прикосновение, и ей даже почудилось тепло, исходящее от его руки. Он сказал, что она мудрая, но голос у него будто бы грустный…
– Вы все думаете о зиме? – спросила девушка. – Но не забывайте, что весна тоже придет. Все должно приходить в свою очередь, а иначе будет беспорядок, да и вообще ничего не будет.
– Да, для цветов придет весна, но если зима у человека в сердце, то весна туда не приходит. И так же для голодных людей. Они могут не прожить зиму, не дотянуть до весны.
Грейси все еще оглядывала многоцветные ряды.
– Вы опять об Ирландии говорите? – спросила она. Ей не хотелось знать ответ, но не могла же она стоять вот так, рядом с этим юношей, и делать вид, что не замечает его тревог. Она никогда не уходила от реальности.
– Если бы вы знали, как все это печально, – сказал Хеннесси тихо. – Это горькая печаль, Грейси, это слезы. Смотрю на все эти цветы и думаю, что можно смеяться, танцевать, – а потом вспоминаю о могилах. Иногда одни так быстро сменяются другими…
– Но в Лондоне так тоже случается, – напомнила ему Фиппс, сама не понимая, хочет ли она утешить ирландца или, наоборот, возразить ему. Но она не собиралась забывать, кто она родом и откуда. В Клеркенуэлле, где она выросла, тоже достаточно и голода, и холода, и хозяев, которые мошенничают и жадничают, и ростовщиков, и хулиганов, и крыс, и сточных канав с нечистотами, и вспышек холеры и тифа. Сплошь и рядом встречаются больные рахитом и туберкулезом.
– Лондон тоже не золотом вымощен, знаете ли, – добавила девушка. – Я сама видела детей на пороге, замерзших насмерть, и мужчин, таких голодных, что они готовы глотку кому-нибудь перегрызать из-за буханки хлеба.
– И вы все это видели? – как будто удивился Финн.
– Только не в Блумсбери, – заверила его Грейси. – В Клеркенуэлле, где я жила, пока не попала к миссис Питт.
– Да, бедность и нищета есть во многих местах, – уступил ее собеседник. – Но самое страшное – это несправедливость.
Горничная едва не заспорила с ним. Ее саму многое приводило в ярость, заставляло печалиться и ощущать беспомощность. Но ей не хотелось не соглашаться с Финном Хеннесси. Она бы с такой радостью делила с ним все, что важно в этой жизни: вместе с ним любовалась цветами, вдыхала запах влажной зелени и беседовала о разных хороших вещах, и о дне завтрашнем, но не вчерашнем…
– Какие цветы вы выбрали? – спросил молодой человек.
– Не знаю. Я еще не решила. А как вы думаете?
Девушка повернулась и в первый раз подняла на него глаза. Финн был красив – волосы мягкие и черные, как ночь, и темные глаза, которые то смеялись, то словно всю ее обволакивали. Она почувствовала, что немного задыхается от волнения.
– А как насчет вот этих больших мохнатых хризантем? – спросил ирландец, не трогаясь, однако, с места.
Надо было подумать, подойдут ли эти цветы для комнаты Питтов, но в голове у Грейси стоял сумбур. Она помнила только о том, что цветы нужны и что лучше бы взять не пестрые, а однотонные.
– Я возьму вот те белые, большие, – ответила служанка, хотя совсем не была уверена, что сделала правильный выбор. – Они только распускаются и такие красивые, а за красными слишком далеко идти.
– А может, вон те, золотисто-коричневые? – предложил Хеннесси.
– Но этот цвет не ко всему пойдет. Нет, возьму белые.
– Я сорву их. – Юноша обошел ее кругом и стал выбирать лучшие хризантемы.
– Смешно, что у нас здесь и Падрэг Дойл, и Карсон О’Дэй, – сказал он, с улыбкой срывая первый цветок.
– Да? Но разве они не подходящие люди для того, что сейчас идет?
– Да, конечно, если вообще существуют на свете такие «подходящие». Ведь все это бывало уже много раз, вам известно?
– Да? И вы хотите сказать, что ничего из этого не выходило?
Финн сорвал еще цветок, вобрал в себя, вдыхая, его аромат и протянул его Грейси. Она взяла и поднесла к лицу влажные лепестки. Запах был божественный.
– Нет, так ничего и не получилось, – сказал молодой человек очень тихо, почти шепотом. – Знаете, жили на свете двое влюбленных: Нисса Дойл, молодая девушка-католичка, лет девятнадцать ей было, как вам сейчас…
Грейси не спешила поправлять его и признаваться, что ей уже целых двадцать.
– Она всегда смеялась и была полна надежд, – продолжал Финн, словно забыв о сорванном цветке. – Случайно она познакомилась с Дристаном О’Дэем. И лучше бы этого не случилось. Он был протестантом, беспощадным и яростным, как северный ветер в январе, и вся его семья была такой, беспощадной, как лезвие ножа.
Он рассмеялся, но веселья в его смехе не чувствовалось.
– Для них папа римский был наместником дьявола на земле, а все церковные обряды – порочны, как сам грех, – продолжал он. – Но Нисса и Дристан встретились и полюбили друг друга по всем древним законам: они одинаково видели красоту и волшебство мира и ласку в небесах, и любили петь старые песни, и танцевать до упаду.
Юноша оперся о дверной косяк, внимательно глядя на Грейси, не отрывая взгляда от ее глаз. Она знала, что сейчас он делится с ней своими самыми дорогими и сокровенными верованиями и мыслями.
– Они тоже надеялись, что установится мир и они найдут хорошую, достойную работу, – говорил Финн. – У них будет маленький домик, они станут воспитывать детей – в общем, мечтали о том же, о чем могли бы мечтать и вы, и я. О долгих вечерах вместе, когда окончены труды и когда есть время поговорить, да и просто посидеть молча, зная, что любимый человек рядом…
Хеннесси подал девушке цветок и стал выбирать следующий.
– И что случилось? – спросила его собеседница.
– Когда было уже слишком поздно, они узнали, что находятся в противоположных станах. Но тогда это уже ничего для них не значило, – хотя значило, и очень много, для всех остальных.
– Для их семей? – спросила Грейси со страхом. – Но как они могли помешать? Никто не может заставить разлюбить. Это ее отец вмешался?
– Нет.
Теперь юноша смотрел на нее в упор:
– До этого не дошло. Об этом узнали англичане. Мы почти уже заключили друг с другом договор, но им хотелось, чтобы мы, ирландцы, никогда не помирились бы между собой. Они хотели нас разделить. Разделить – и властвовать.
Лицо его исказила болезненная гримаса, а голос упал до хриплого шепота:
– И они использовали их обоих для своей выгоды.
– Как так? – прошептала мисс Фиппс.
– Все сделал один английский военный. Его звали Александр Чиннери. Он был офицером, лейтенантом одного из англо-ирландских полков. Он притворился другом Дристана О’Дэя.
Теперь молодое лицо Финна было полно такой боли и ненависти, что он стал совсем не похож на себя, и Грейси почти испугалась.
– Вот в этом все его двуличие и сказалось, – хрипло пояснил он. – Он мог свободно доставлять Ниссе письма О’Дэя. Никто ничего не подозревал. И он пообещал им помочь бежать и достать лодку. Это случилось летом, а Дристан был хорошим моряком. Он мог бы доплыть на лодке до острова Мэн: они решили бежать туда.
Грейси не сводила взгляда с лица ирландца. Она не слышала, как ветер швыряет листья о стекла оранжереи, и даже не видела, как эти листья кружатся в воздухе.
– И что потом? – прошептала она.
– Нисса была красивой девушкой, – сказал Хеннесси тихо, – как миссис Гревилл, как теплый луч солнца осенью.
Глаза его наполнились слезами:
– Чиннери встретил ее, как условились. Понимаешь, она ему поверила. И пошла с ним туда, где они должны были встретиться с Дристаном. А одна она не могла пойти, потому что было слишком опасно.
Последнее слово он словно выплюнул, будто оно жгло ему язык, и повторил:
– Одной ей идти ночью было опасно.
Мисс Фиппс ждала, пока Финн овладеет собой, чтобы продолжать:
– Он отвел ее к скале, на берег, где должна была, по его словам, ожидать лодка. Дул сильный морской ветер… – Он снова на некоторое время замолчал, а потом надтреснутым голосом закончил: – Там он изнасиловал ее и убил.
Грейси показалось, что ее ударили.
– И отрезал ее прекрасные волосы, – добавил Финн, глядя не отрываясь на девушку, как будто оранжереи с ее стеклами, отражающими свет, рядов с цветами в горшках, ярких красок и ветра снаружи – всего этого для него не существовало. – И там, на берегу, он ее и оставил. Там и нашли ее родные, – завершил он свое повествование.
– О, Финн! Это ужасно! – выдохнула горничная, будучи не в силах подобрать какие-то другие, более выразительные слова. Внутри у нее все онемело. Предательство, как черное облако, пригасило все краски дня. – А что сделал бедный Дристан? – испуганно спросила девушка.
Она боялась услышать ответ, но все-таки должна была его узнать.
– Он ее нашел, – ответил Хеннесси едва слышно и сжал кулаки так, что побелели суставы, – и сошел с ума от горя. Бедный доверчивый человек, он даже и не узнал, что все это наделал Чиннери.
На крышу оранжереи слетел дрозд. Коготки его застучали по стеклу, но молодая пара внутри ничего не слышала.
– Но что он сделал? – повторила Грейси.
– Он совершенно потерял голову и напал на католический церковный приход. Он убил обоих ее братьев и ранил третьего, прежде чем английские солдаты захватили его и расстреляли.
Финн глубоко вздохнул:
– Это произошло седьмого июня, тридцать лет назад. Конечно, через некоторое время обе стороны поняли, что произошло. Англичане отправили Чиннери в Англию и спрятали. О нем больше никто ничего не узнал. Наверное, они боялись за его безопасность, – заметил он с горечью. – Ведь если бы какой-нибудь ирландец его нашел, то, конечно, убил бы и прославился, как герой, по всей стране.
– Это ужасно, – сказала Грейси. Горло у нее больно перехватило, слезы щипали глаза, и она с трудом сглотнула. – Это просто страшно.
– Но это Ирландия, Грейси. – Ее собеседник сорвал еще цветок и вручил ей. – У нас даже любовь бессильна.
При этих словах он улыбнулся, но в глазах у него стояла боль, которую делила и его юная слушательница, боль за людей, погибших тридцать лет назад. Давность времени ничего не значила. Утрата жгла их сердца, будто все случилось только сегодня. Ведь на месте тех возлюбленных могли быть и они.
Финн наклонился так близко к девушке, что она ощущала его тепло, и поцеловал ее в губы – медленно, нежно, словно хотел запечатлеть в памяти каждую секунду, пока длился этот поцелуй. А затем взял цветы из ее рук, положил их на скамью, тихо обнял Грейси и поцеловал снова.
Когда наконец он отодвинулся, сердце у девушки стучало, как молоток, и она открыла глаза, в полной уверенности, что увидит сейчас нечто прекрасное. Так оно и было. Ее друг улыбался.
– Бери свои цветы, – сказал он еле слышно, – и будь очень осторожна, Грейси Фиппс. В этом доме царит несчастье, и кто может сказать, что жертв больше не будет? А ты не знаешь, как мне ненавистна сама мысль, что ты тоже можешь пострадать.
Он поднял руку, коснулся ее волос, а потом быстро отвернулся и пошел прочь к двери, оставив ее одну. Девушка сорвала еще несколько хризантем и полетела с цветами к дому, едва касаясь ногами земли. Ее губы все еще хранили прикосновение его губ.
Шарлотта скорее откусила бы себе язык, чем ответила Эмили так, как ей очень хотелось ответить. Да, все, что миссис Питт проповедовала Кезии Мойнихэн, – прекрасно, но вряд ли она смогла бы ей это повторить, рассорившись с собственной сестрой, когда в сердце своем знала и понимала, почему та волнуется. Да, миссис Рэдли ужасалась при мысли, что существует смертельная угроза для Джека, но она боялась также, что он не сможет соответствовать тем меркам, которыми она его мерила, или тем стандартам, что он установил для себя сам из-за этого несчастного совещания.
Шарлотта обнаружила Кезию в утренней гостиной, как ей и сказала Эмили. Та сидела на узком высоком табурете, и юбка ниспадала вокруг нее пышными складками. Миссис Питт вошла совершенно непринужденно и села у камина, словно ей холодно. Хотя на самом деле она была сердита.
– Как вы думаете, погода прояснится? – спросила Шарлотта, поглядев в окно на довольно чистое небо.
– Погода? – слегка улыбнулась мисс Мойнихэн.
– И все остальное тоже, – согласилась Шарлотта и откинулась на спинку стула. – Дела обстоят довольно скверно, не так ли?
– Сквернее быть не может, – пожала плечами Кезия, – и, честно говоря, не представляю, что положение улучшится. Вы читали газеты?
– Нет, а что? Там есть что-нибудь интересное?
– Только последние сообщения о процессе Парнелла – О’Ши. Не думаю, что после такого скандала Парнелл долго продержится, какой бы вердикт ни вынес суд.
Лицо у Кезии ожесточилось. Шарлотта догадывалась, о чем она сейчас думает и какое это имеет отношение к Фергалу. Он безумец – так рисковать своей репутацией!
Мисс Мойнихэн стиснула кулаки и воззрилась на огонь.
– Когда я думаю, чем пренебрегает мой брат, я готова его возненавидеть, – сказала она с горечью. – Теперь я понимаю, почему мужчины награждают друг друга тумаками. Наверное, чувствуешь большое облегчение, когда ударишь изо всей силы того, кто тебя взбесил.
– Да, это верно, – подтвердила миссис Питт, – но, думаю, такого рода облегчение длится очень недолго, да и потом ведь надо за него расплачиваться…
– Ах, как вы рассудительны! – заметила ее собеседница, впрочем, без малейшего восхищения.
– Я, как говорится, слишком часто отрезала себе нос, досадуя на лицо, чтобы думать, будто я действительно рассудительна, – сдерживая себя, ответила Шарлотта.
– Мне трудно это себе представить.
Кезия взяла кочергу и, слегка отклонившись в сторону, стала яростно расшевеливать пламя.
– Это потому, что вы делаете поспешные выводы о других людях и вам очень трудно вообразить их действительные чувства, – ответила Шарлотта, с удовлетворением давая выход накопившемуся раздражению. – Мне кажется, что вы и сами страдаете от недостатка, который осуждаете в брате.
Ирландка словно застыла на месте, а затем очень медленно обернулась. Лицо у нее было красным, то ли от гнева, то ли от жара, идущего из камина.
– Это самая большая глупость, которую я от вас слышала за все время! – заявила она. – Мы с братом совершенно разные люди. Я всегда следовала заповедям веры и осталась преданна своим сторонникам ценой утраты единственного человека, которого любила, повинуясь приказанию Фергала. Но он все отбросил прочь, предал всех нас и совершил акт прелюбодеяния с замужней женщиной, к тому же паписткой-католичкой, нашим врагом!
– Я имела в виду вашу неспособность поставить себя на место другого человека и понять, что он чувствует, – объяснила Шарлотта. – Фергал ведь не понимал, как истинно и верно вы любили Кэйзала. Он все рассматривал только с точки зрения верности и преданности образу жизни ваших близких. И, не испытывая ни малейшего сочувствия к вам, он велел вам отказаться от возлюбленного.
– И я это сделала! Да простит меня Бог…
– Но, может быть, сам он до теперешнего момента никогда не любил – страстно, всем сердцем, безрассудно, как вы когда-то?
– Разве это извиняет его? – отрывисто спросила Кезия, и ее светлые глаза загорелись.
– Нет. Но он просто ничего не понимал и даже не умел вообразить, что такое любовь.
Мисс Мойнихэн усмехнулась:
– О чем это вы?
– Вы сами были так безумно влюблены; неужели вы не способны представить, каково его чувство к Айоне, даже если не можете с ним смириться?
Ирландка ничего не ответила и снова отвернулась. Теплый отблеск пламени лег ей на щеку.
– Если можете сказать честно, совершенно честно, – то скажите, вы рассердились бы на него так сильно, если бы не любили Кэйзала и вас не заставили бы от него отказаться? – опять заговорила миссис Питт. – Может, это не столько гнев в вас сейчас говорит, сколько боль?
– Ну и что, если так? – Кезия все еще держала в руке кочергу, словно это меч. – Разве я поступаю несправедливо?
– Справедливо. Но что вы получите в результате?
– Что вы имеете в виду?
– Что будет, если вы не простите Фергала? – пояснила Шарлотта. – Я совсем не хочу сказать, что эта связь в порядке вещей – разумеется, нет. Айона – замужняя женщина. Но она за это и расплатится. И не вам назначать цену. А отвергая Фергала, вы разрываете родственные связи.
– Не знаю… Я…
– Вы станете счастливее, разорвав их?
– Нет… конечно, нет. Вот уж действительно, вы задаете странные вопросы!
– Ваш разрыв с Фергалом сделает кого-нибудь счастливее, умнее, храбрее, добрее и так далее?
Кезия заколебалась:
– Ну… нет…
– Тогда зачем вы все это делаете?
– Потому что… он так… несправедливо поступил! – вскричала мисс Мойнихэн в сердцах, словно этот ответ должен был быть очевиден. – Он так снисходителен к себе! Он совершенный лицемер, а я ненавижу лицемерие!
– Никто его не любит. Хотя иногда оно забавно, – согласилась Шарлотта.
– Забавно?! – Ирландка удивленно подняла брови.
– Да. Неужели вы совсем лишены чувства юмора?
Кезия уставилась на собеседницу. Какое-то время она молчала, но потом, наконец, ее зеленоватые глаза блеснули и кулаки разжались.
– Нет, вы самая странная женщина из всех, кого я когда-то встречала.
Миссис Питт слегка поежилась.
– Наверное, я должна быть этим весьма довольна.
Мисс Мойнихэн улыбнулась:
– Ну, это не слишком любезный комплемент, должна признаться, но, по крайней мере, нисколько не лицемерный!
Шарлотта взглянула на газету, лежащую на столе.
– Если мистер Парнелл утратит свое положение вождя, как вы думаете, кто его заменит?
– Думаю, Карсон О’Дэй, – ответила Кезия. – У него для этого есть все необходимые качества. И это человек с хорошей родословной. Его отец – блестящий руководитель, но сейчас он уже стар. А в свое время он был очень авторитетным лидером. Абсолютно бесстрашным.
Она несколько успокоилась, отдавшись во власть воспоминаний, и теперь словно видела внутренним взглядом нечто давно минувшее.
– Помню, отец взял нас с Фергалом на политический митинг, на его выступление, – стала рассказывать она. – Папа сам был одним из лучших проповедников на севере страны. Он мог стоять на кафедре, и его голос гремел вокруг, как пенный морской вал, такой мощный, что мог сбить с ног.
Голос ее звучал громче и взволнованнее:
– Он мог своей речью ввергнуть в ад или вознести на небо, где все сияет вечным блеском, и ангелы Господни поют Ему вечную хвалу, где царит непреходящая радость. И, напротив, в аду вы видели зримую тьму и огнь всепожирающий, и обоняли серное удушливое зловоние греха.
Шарлотта не перебивала Кезию, но ей хотелось поближе придвинуться к огню. Подобная страсть ее пугала. В этой страсти не было места для мысли и, разумеется, для малейшего сомнения в своей правоте. Если занять подобную общественную позицию, то обратного пути уже нет, независимо от того, что говорит позднейший жизненный опыт. Такая позиция не оставляет возможности для внутренних перемен, для отступления или духовного роста.
– Да, он был замечательный человек, – повторила мисс Мойнихэн не только Шарлотте, но и себе. – И вот отец повел нас послушать Лаэйма О’Дэя. Это, говорят, его брата, Дристана, застрелили англичане за его любовь к Ниссе Дойл.
– Застрелили? Но почему? Кто она такая?
– Папистка. Но это старая история. Они с Дристаном О’Дэем полюбили друг друга. Это происходило тридцать лет назад. Английский солдат Александр Чиннери, друг Дристана, предал его, изнасиловал и убил Ниссу, а потом бежал в Англию. Дристан напал на братьев Ниссы, и произошла кровавая бойня. Два брата были убиты, и сам Дристан тоже погиб. Его, конечно, убили англичане, которые хотели замести следы преступления. И ни одна из противоборствующих сторон так и не смогла простить другой участие в этой бойне. Дойлы считали, что Дристан соблазнил Ниссу, и только и твердили об этом. А семья О’Дэй утверждала, что это Нисса, напротив, соблазнила Дристана. Все О’Дэи ненавидят националистов. Карсон – второй сын Лайэма О’Дэя. Старший сын, Дэниел, болен туберкулезом и не боец. Это он должен был возглавить дело освобождения. Однако теперь это выпадает на долю Карсона. Но в нем нет такой пламенной убежденности, как в Дэниеле. – Она улыбнулась. – Я видела Дэниела еще молодым, до болезни. Он был так же красив, как его отец… Но, возможно, даже лучше, если это будет Карсон. У него более трезвая голова. И он хороший дипломат.
– Но вы не во всем с ним согласны, правда?
Кезия снова улыбнулась:
– Конечно, нет. Мы же ирландцы! Но мы все же достаточно близки друг к другу, чтобы противостоять папистам рядом с О’Дэем. А уж потом мы разберемся друг с другом.
– Очень мудро с вашей стороны, – заметила Шарлотта.
Мисс Мойнихэн метнула на нее взгляд и вдруг резко рассмеялась:
– Да, я понимаю, что вы хотите сказать!
В то же утро, несколько позднее, миссис Питт стояла неподалеку от Джека на террасе, куда выходили двери гостиной, когда с балкона упала гипсовая ваза с плющом. Она пролетела на расстоянии меньше трех футов от головы Джека и разбилась вдребезги на каменных плитах, а землю и обрывки плюща разметало на несколько шагов во все стороны.
Джек очень побледнел, но сделал вид, что это случайность, пустяк, и запретил свояченице даже упоминать о происшествии в разговоре с Эмили.
Она пообещала ему молчать и, войдя в дом, вдруг почувствовала, что вся дрожит и отчаянно замерзла, несмотря на то что снаружи ярко сверкало солнце.
Питт ехал поездом в Лондон. В обычных условиях полицейский наслаждался бы такой поездкой. Он всегда с удовольствием смотрел в окно на пробегающие мимо деревенские пейзажи, ему нравились запах дыма, стук колес и ощущение невероятной скорости. Но сегодня он размышлял над тем, что скажет Джону Корнуоллису, и ему хотелось добраться до столицы как можно быстрее.
Оправданий у Томаса быть не могло. Ему не удалось спасти Эйнсли Гревилла, и даже теперь, три дня спустя после преступления, он все еще не мог представить доказательства вины не известного до сих пор убийцы. После исключения тех, у кого было алиби, под подозрением оставались Дойл и Мойнихэн, но суперинтендант понятия не имел, кто же из них виновен.
– Доброе утро, Питт, – мрачно поприветствовал его помощник комиссара полиции, когда Томас вошел в его кабинет.
– Доброе утро, сэр, – ответил суперинтендант, садясь на предложенное место у огня. Это была любезность со стороны Корнуоллиса – он держался с подчиненным как будто бы на равных, не усадив его напротив за столом. Однако этот добрый жест нисколько не облегчил ни угрызений совести, испытываемых Питтом, ни ощущения обманутого им доверия.
– Что случилось? – спросил Джон, немного наклоняясь вперед и безотчетно соединяя кончики пальцев. Огонь камина освещал его щеки и голову. Лысина удивительно шла этому человеку, и в профиль его резкие черты лица казались бронзовым старинным барельефом.
Томас рассказал обо всем, что казалось ему безотлагательным. Все это было очень важно, однако сведения эти не вели ни к чему определенному.
Когда он окончил рассказ, Корнуоллис воззрился на него с задумчивым видом:
– Значит, убить из политических причин мог Мойнихэн. Его отец был достаточно сумасшедшим протестантом. А сын, очевидно, считает, что любое урегулирование проблемы ведет к упадку протестантского приоритета, и, вероятно, так оно и случится. Но в то же время это приведет к установлению гораздо более справедливых порядков, чем теперь, и, следовательно, к миру, к большей безопасности и к благосостоянию всех и каждого. – Он покачал головой. – Но ненависть укоренилась там очень сильно; она гораздо глубже всех разумных и нравственных оснований и даже надежды на лучшее будущее. – Джон закусил губу, пристально глядя на Питта. – Другой кандидат в убийцы – Падрэг Дойл. Он мог убить из политических резонов либо в отместку за обращение Гревилла с его сестрой.
Но на лице суперинтенданта выразилось сомнение.
– Вы действительно считаете, что прегрешения Гревилла против жены настолько серьезны, что могли побудить ее брата к убийству? – уточнил его начальник. – Очень много мужчин дурно обращаются со своими женами. А Эйнсли ее не бил, не ущемлял в расходах и публично не унижал. Он всегда был в высшей степени скрытен. И она не подозревала об изменах, вы говорите?
– Нет…
Корнуоллис откинулся на спинку стула. Голова у него слегка тряслась.
– Если бы она застала его в постели с соперницей, которую он любил, она могла бы убить его в порыве ярости, совершить преступление из страсти, – продолжил рассуждать помощник комиссара. – Хотя женщины редко совершают подобные преступления, особенно женщины того воспитания, что получила Юдора. Ей было что терять, Питт, и, убив мужа, она могла ничего не получить взамен. Если только не желала освободиться и выйти замуж за кого-нибудь другого… Но у вас ведь нет подобных подозрений?..
– Нет, – поспешно откликнулся Томас. Он ни в чем не подозревал Юдору и вообще не мог представить ее способной на насилие. – Она… Вы ее когда-нибудь видели? – спросил он своего шефа.
Корнуоллис улыбнулся:
– Да. Она очень хороша. Но даже красивые женщины могут сильно страдать, если их предают. Именно красивые больше всех и страдают, потому что изначально не верят, будто такое может случиться с ними. Их гнев сильнее, чем у прочих.
– Но он ничего такого не делал в Эшворд-холле, – резко ответил суперинтендант.
– Мы же обсуждаем его прошлые поступки. Однако ни одна из его связей не угрожала ее положению жены. Как вы сказали, все это было удовлетворением желаний, а не любовью.
– Но тогда почему вы считаете, что Дойл мог убить Гревилла, чтобы защитить сестру?
Томас молчал.
Джон прищурился.
– В чем дело, Питт? У вас еще есть какие-то соображения, ведь иначе вы бы не подняли этот вопрос. Вы же не меньше меня способны узреть безосновательность своих суждений! Даже больше.
– Мне кажется, она боится, что это Дойл, – медленно ответил суперинтендант, впервые выражая свои подозрения вслух. – Но, может быть, я ошибаюсь насчет мотива убийства и оно было политическим… связанным с ирландским национализмом, как думают все прочие.
– Не все, – пожал плечами Корнуоллис. Он, видимо, смутился, потому что на щеках у него показался едва заметный румянец. – Сегодня должны вынести приговор по бракоразводному процессу О’Ши.
– Вы не знаете, какой он будет?
– Я думаю, они удовлетворят требования О’Ши, и на законных основаниях. Его жена, несомненно, виновата в длительной адюльтерной связи с Парнеллом. Единственный вопрос заключается в следующем: повинен ли сам О’Ши в этой интриге или же он действительно обманутый муж.
– Неужели? – Томас мало читал об этом процессе; до сих пор у него не было на это ни времени, ни какого-либо интереса. Он и теперь не был уверен, что этот процесс имеет хоть малейшее отношение к событиям в Эшворд-холле.
– Хорошо хоть, мне не надо судить, кто здесь прав, а кто виноват, – с несчастным видом ответил Корнуоллис. – Но если бы пришлось…
Он заколебался. Помощник комиссара очень стеснялся разговоров на подобные темы. Он всегда считал, что некоторые стороны своей жизни мужчина должен хранить в тайне, и его крайне смущало их публичное обсуждение.
– Но мне трудно поверить в доказательства невиновности Парнелла, тем более что эти доказательства граничат с фарсом, – сказал он наконец, и рот его искривился в гримасе, одновременно ироничной и презрительной. – Он вылезает в окно, когда муж входит в дом, а потом сам вновь появляется на пороге дома, словно только что приехал… Нет, это ниже достоинства человека, который собирается возглавить движение за единство нации и представлять свой народ в парламенте.
Питт удивился, и это, наверное, выразилось у него на лице.
Корнуоллис еле заметно улыбнулся:
– Такое впечатление, что у этого человека нет ни малейшего чувства юмора, ведь он мог бы подать себя в суде, как этакого обаятельного ветреника, которому удалось безнаказанно улепетнуть. Так ведь нет – он совершает проступок, но с миной праведника, и его застигают на месте преступления.
– Это погубит его репутацию? – спросил суперинтендант, тщательно всматриваясь в лицо начальника.
– Да, – ответил тот категорично, а затем, подумав, добавил: – Да, я почти в этом убежден.
– Тогда национальному движению потребуется новый вождь?
– Да, и если не сразу, то в довольно близком будущем. Парнелл еще некоторое время может продержаться, но его власть кончена. Мне так кажется. Могут в это верить и другие, если вы это имеете в виду. Но в любом случае данный процесс замедлит общественное объединение, если на переговорах в Эшворд-холле не будет достигнуто соглашение, что зависит главным образом от Дойла и О’Дэя – и от того, в какой мере этому будут способствовать или, наоборот, противодействовать Мойнихэн и Макгинли.
Питт глубоко вздохнул:
– В первое же утро пребывания в Эшворд-холле сестра Мойнихэна отправилась говорить с ним о стратегических планах. Она, по-видимому, так же много думает о политике, как и он. Но, придя к нему, обнаружила его в постели с женою Макгинли.
– Что? – У Джона был ничего не понимающий вид.
Томас повторил сказанное.
Корнуоллис уставился на огонь, поскреб своей худощавой, но сильной рукой голову, а потом снова повернулся к Питту.
– Сожалею, но дать вам больше людей в помощники я не могу, – ответил он тихо. – Мы все еще храним смерть Гревилла в тайне. Надеюсь, что к моменту обнародования этого известия мы сможем также сообщить и о том, что поймали убийцу.
Суперинтендант знал, что ничего другого его шеф и не мог сказать, но сердце у него сжалось. Он чувствовал себя так, словно его вталкивают в постоянно сужающийся тоннель.
– Есть ли новая информация в связи с делом Денби? – спросил он.
– Немного. – На этот раз наступила очередь Джона выглядеть виноватым. – Мы проследили все его перемещения за несколько дней перед убийством, и нам теперь известно, что в последний вечер он был в пивной «Собака и Утка» на Кинг-Уильям-стрит, – рассказал он. – Его видели, когда он разговаривал с молодым светловолосым человеком, а затем к ним подошел мужчина среднего возраста, широкоплечий и с не совсем обычной походкой: он шаркал, словно у него были кривые ноги. – Корнуоллис пристально посмотрел на своего собеседника и добавил: – Бармен сказал, что у него также какие-то странные глаза, очень светлые, но блестящие.
– Но кебмен, который покушался на жизнь Гревилла, тоже… – выдохнул Томас. – Да, вот еще причина, почему мне обязательно нужно отыскать этого черта!..
– Нам, Питт, – поправил его Джон, – и мы найдем его в Лондоне, а вы постарайтесь узнать, кто же из этих четырех ирландцев убил Эйнсли Гревилла. Мы должны это узнать до того, как они уедут из Эшворд-холла, – ведь мы не сможем задержать их там больше чем на несколько дней.
– Да, сэр, – кивнул Томас.
Глава 7
Грейси придала хризантемам живописный вид и поставила вазу на стол в гардеробной, а затем скользнула по лестнице вниз, словно в чудесном полусне. Она не видела в холле портретов, на которых изображались предки первого мужа Эмили, не замечала и самих деревянных панелей. Перед глазами у нее стояло другое: стекла оранжереи, отражающие свет. Она чувствовала запах земли и сырых листьев и по-прежнему восхищалась бесконечными цветочными рядами. Ей то хотелось припомнить каждое слово разговора с Финном, то, уже в следующий момент, все эти слова не имели для нее никакого значения. Главным сейчас было ее чувство и тепло, разливающееся в ее душе. Девушка знала: если будешь чересчур задумываться, что это все означает, то прекрасное ощущение может исчезнуть. Есть ноты, а есть музыка. И если волшебство красивой мелодии рассеется, то останутся лишь черные закорючки на белой бумаге, а музыка умолкнет…
Горничная шла, перекинув через руку вечернее платье Шарлотты. Из-за маленького роста ей трудно было держать его повыше, чтобы его трен[10] не волочился по полу.
– Грейси!
Она почти не слышала зовущего ее голоса.
– Грейси!
Наконец служанка остановилась и обернулась. За ней вниз по лестнице бежала взволнованная мисс Эванс.
– Что случилось? – спросила мисс Фиппс.
– Что ты делаешь? – спросила Долл, взяв ее за руку. – Мы не должны носить платья по парадной лестнице! Что, если кто-нибудь выйдет из двери! Вот ужас! Для этого существует черная лестница. А по этой можно спуститься, если кто-нибудь пошлет тебя в передние комнаты.






