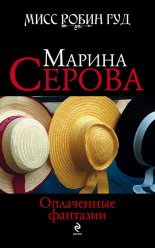Русская красавица Ерофеев Виктор
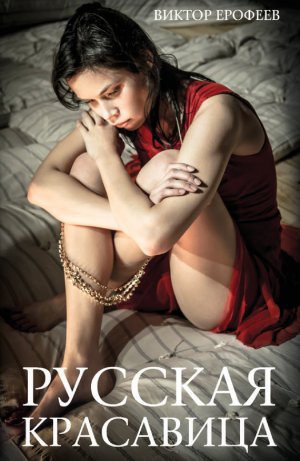
Нет, я и раньше, конечно, знала, но чтобы так знаменит, чтобы так во всем, не верила, не представляла, я тебя еще больше полюбила за твой некролог, за то, что ты был и воин, и сеятель, и пахарь, и знаменосец, как никто не будет впоследствии, и все это мы потеряли, но наследие твое навсегда останется стальным штыком из арсенала надежнейшего оружия дальнего прицела, я сидела и плакала, и на ум приходили твои выражения, которыми ты меня удостаивал, называя золотой рыбкой, разговоры об искусстве, увлекательные поездки на дачу, приходили на ум твои ласки и твоя любовь. Ты гигант был, не зря называла тебя я своим Леонардиком, и как тебе это нравилось! как верно я угадала! потому что интуиция, и мне радостно было считать, что ты умер, распростершись надо мной, что ты криком последним приветствовал нашу любовь, и что я первая побреду за гробом, во всяком случае, мысленно, и первая брошу на гроб ком земли с фешенебельного кладбища, где каждая могила отзывается громким гулом земного пути и прорыты траншеи для тесного общения между собой, и покойники телефонизированы, только жаль, что нет кипарисов, и ворота на вечном замке стерегут их беседу.
Но не получу я пропуска в эту долину скорби, не выдадут мне мандат на право посещения дорогого тебя, заваленного подотчетной гвоздикой и ведомственными венками, не пропустят меня в тот зал, где среди медалей и почетного караула ты в своем выходном костюме, скрывая ссадины и бури любви, будешь выставлен перед толпой общественности, школьников и солдат (было много солдат), где, кручинясь, утрутся именитые ветераны и секретари культуры, где от живых цветов и речей закружится голова, нет, туда меня не допустят…
В убогом черном платье, простоватая, без макияжа, будто совсем тебе посторонняя, я приду попрощаться с тобой наряду с остальными. В руках букетик белых калл.
Возложу букетик под шорох негодования, незаметно перекрещу тебя, не похожего на себя, нехорошо раздобревшего умершим лицом, бедная жертва неудачной реанимации, и какой-нибудь пошлый остряк прошипит мне вслед, что не каллы, а пять кило апельсинов мне бы нужно тебе принести, но выловит меня своим метким незаплаканным глазом мадридский гастролер Антончик, что кричал про меня как про гения чистой любви и махал яйцами перед моими усталыми веками с робкой надеждой на взаимность – жалкий человек! – и какие-то люди неслышно подойдут ко мне и задержат, и будут их лица свирепы, будто я не тебя провожаю, родного мне человека, а посягнула на фамильное серебро, и подхватят меня под руки, как вдову, и опять выведут с позором, а Антошка-шпион донесет своей пиковой маме, и она поклянется мне отомстить, будто не я, а она слышала его предсмертные вопли, будто не меня, а ее он любил, и водил на концерты, и угощал в подмосковных укромных кабаках, будто я не имею на это право, и начну я сердиться в волосатых ручищах охраны, а они меня под руки выведут и отправят домой, пока вся эта чужая публика не отдаст ему последнего долга.
А я-то думала: хватит у нее великодушия, что заплачем мы с ней на могиле общего мужа, потому что не деньги хотела делить, не имущество, но единственно душевное чувство, потому что любила его, а он меня, и предлагал жениться, только свято охранял свой семейный очаг, жалел Зинаиду, будучи человеком не только гениальным, но и отзывчивым, он себя всего раздарил, выходя из сиреневого марева телевизора, а в себе носил тоску, страх за будущее, потому и скрывал свои чувства, потому и писал, и выступал, и доказывал, что нельзя прикасаться к ранам, потому что они гнойники, потому не права мелкота, мелко плавающая братия, что всегда недовольна, потому что воля истории пересилит ум молодой и неразвитый. И как Егор, с дачи выгнанный, от вина распоясавшийся, стал рассказывать про него анекдотцы, что не прочь был и похамить, если кто от него зависел, и ногами потопать, и перед Люсей, покорной прислугой, предстать в виде неожиданном и даже игривом, чем смущал до стыда молодую девицу, да только Люсю не больно смутишь! – ей бы только портвейну налакаться да глаза потаращить, я поняла, что никто, ни один человек, включая в первую очередь его семейку уродов, не могли понять главное в нем, только мне он открыл это главное: эту безмерную муку за людей, ему так хотелось, чтобы жили они побогаче! А Егор, как он умер, говорит: ничего, дескать, он не хотел, хитрожопый! И забудут, мол, его через день, на сороковины не соберутся, а если соберутся, то чтобы пожрать на дармовщинку, потому что покойник любил пожрать.
Это верно. Любили мы с ним пожрать, и благоговели официанты от наших заказов, понимая, что перед ними не безденежный человек, не фитиль, а сам Владимир Сергеевич, который в еде шуток не допускал, жрали много и вкусно, кто еще мог сравниться с ним в этом искусстве пожрать! и от этой обильной и щедрой пищи так прекрасно сралось, словно это поэма!
Никто его не понял и не простил, только все порывались плюнуть на свежевыкопанную могилу, потому что неправда, что любят у нас покойников, а любят у нас только тех покойников, которых не любят при жизни, а которых при жизни любят, после смерти – пуговица отрезанная. И если бы Зинаида Васильевна пригласила меня на поминки, я простила бы все! все! – я была бы ей первой заступницей, первой подругой, я бы с ней вспоминала его выражения глаз, его мысли и руки, пахнущие дорогой заграничной кожей, и клеветники, недостойные его ногтя, были бы публично посрамлены, но случилось обратное, выпал мне жребий перейти в их стан, потому что наступил конец моему вековечному долготерпению, потому что замыслили меня вытолкать без извинений из зала, где он, не дали принести в скромный дар мои белоголовые каллы, нет, не знала смирения подлая душа Зинаиды! И осталась я при своих воспоминаниях, при его криках, когда ему некому было, как только мне, искричаться, зарыв под подушку телефон, на который всегда смотрел с подозрением, и радовался, что нашла и для него подходящее слово: падла! – да, я падла! – радовался он. – Падла! Падла! – Кто еще посмеет так о себе, это ли не по-христиански? И теперь, как дочь православной церкви, свидетельствую, стоя над пропастью своего решения родить рокового моего херувима: – Так никто еще себя не поносил! – Да, я видела всяких деятелей, которые рвали на себе волосы, отдаваясь минутному мутному покаянию, но что их слова по сравнению с кнутом и нагайкой моего Леонардика, родившегося не в том веке, когда искусства цветут вокруг полных возрожденческих ног Монны Лизы, близ чертогов любви и весенних грез? А его последняя задумка, насчет полковника, пристрелившего, как Тютчев, свою незаконную связь, разве здесь нет того глухого отзвука катастрофы? разве здесь не бродит его тоска?!
Да, он любил, и если Зинаида Васильевна, выживши из ума, угрожала ему самоубийством, на которое не было способно ее ожиревшее тело, так он был просто святой, кто еще мог бы терпеть весь этот скрипучий корабль своей дачи, всех этих паразитов и приживалок, глубоко неверных людей, посреди которых мне было противно находиться, и не случайно меня вывели из душного прощального зала, хотя я ничего не сказала и ни на что решительно не посягнула, я хотела пройти незаметно, как проходит чистая любовь, а они меня за руки и – поволокли, и вдобавок называли меня хулиганкой, и дедуля, попав с ними в заговор, ничего мне об этом не сказал. Так почему мне печалиться, если он умер, испугавшись меня, как заразы, и бежавший туда, где футболист играет, а время стоит?
И околевай себе на больничной койке, Тихон Макарович, хотя по-христиански я не против того, чтобы ты вылечился и продолжал свою мелкую жизнь старпера, потому что не девочка я и жизнь моя – не малина! Я надела убогое, нищее платье, я не мазалась, не причесывалась, я была красивее всех в этот скорбный день моего унижения! Но не дали почувствовать превосходства. Тесен мир. И уже Виктор Харитоныч, мой давнишний и преданный покровитель, нахмурил козлиное свое личико, готовя дурное дело расправы, и заерзала от нетерпения сорвать с меня покрывало, залезть с головой под простыню, подышать воздухом моей несчастной любви Полина Никаноровна, растлительница иллюзий. Уж она постарается навести на меня напраслину! уж она порадуется моим слезам, приготовя весь этот позор, а Харитоныч? Ну, что Харитоныч? Он понуро отведет глаза в сторону и начнет заседание, и я, неподготовленная, в пестром летнем платьице, вдруг узнаю о себе много нового, вдруг распустят про меня ползучие слухи, и собрание под тишину унижения будет исключать меня из мира живых людей и туда гнать, куда поезда ходят пустые, ненагруженные, в логово моего одноглазого папочки, что совсем уже утратил дар разумной речи, в логово неотесанного родителя, променявшего жизнь на затишье, похожее на пожизненную смерть.
Но прилетит из Фонтенбло птица-Ксюша, доступная глубокому удовольствию, тяжелому кайфу, и предложит мне выход и дерзкую выходку, и я соглашусь, и она позвонит X., делавшему только ради нее отступление от своего благородного пристрастия к расе мужчин, чтобы он взял с собой все свои принадлежности и примчался бы к нам, и при этом сказала: – В этом особенном чувстве X. ты найдешь для себя удачу. Он заснимет все так, что останутся одни кружева художества, а от вульгарности ты ускользнешь! – И была она права, моя мудрая Ксюша, и не мне жалеть, хотя предчувствую, что перешла тот порог, когда люди понимают людей, а все почему? – потому что мой сад был прекраснее многих, и повадились в него ходить многие, и многие подозревали, что топчут его еще слишком многие, и не доверяли друг другу, и не верили моей искренности, слишком прекрасный был сад, слишком сладостные были в нем плоды, и осталась я со своими плодами надкушенными, и стали они гнить то с одного бочка, то с другого, потому что красавице жизнь посреди уродов тоже, знаете ли, не радость!
И когда подоспел симпатичный фотограф X., тонкий мастер и друг петербургской элиты, да только нечувствительный к женщинам, что меня, однако, заинтриговало, потому что, кроме Андрюшки, на которого я могла смело положиться и даже спать вместе, как спят с новорожденным, не доверяла я этим нечувствительным мужчинам, видя в них смутную для себя обиду, то есть как это так! И не верила им, полагая, что просто не могут, а они, оказалось, могли, но совсем не хотели, и мы были у них, как на голой ладони, и приехал тогда X. со своей новомодной аппаратурой, с принадлежностями почти что диковинными, будто для подводной охоты, весь в вельвете, ногти овальные, полный старинной нежности к нашей Ксюше, несмотря на причуды, и Ксюше нравилось, она подчеркивала и не скрывала, как победительница, и Ксюша ему говорит: – Так вот и так. Сможешь сделать? – X. подумал и отвечает: – Попробуем!
12
Но любовник – не тот, с кем спишь, а тот, с кем утром сладко проснуться, и Виктор Харитоныч знал это и не мог мне простить, а когда Зинаида Васильевна, роняя вдовью росу, заграбастала жирную пенсию и нажаловалась на меня, чтобы обелить своего погубленного супруга, который прожил со мной с лишком два года и был счастлив, как цуцик, и умер с достойным криком, когда Зинаида Васильевна сделала свое черное дело, я пребывала в полнейшем неведении, я оплакивала пропажу и перечитывала некролог в свое утешение, и дедуля, Тихон Макарович, жил бок о бок незаметной жизнью стахановца и помалкивал, словно он непричастен, а когда Виктор Харитоныч радушно, с интимными вибрациями пригласил меня заглянуть к себе в кабинет, то даже смутного подозрения у меня не промелькнуло, а подумала я, что никак он не может угомониться, и, видать, настал час платить за вольготную жизнь, только зря он, подумала я, афиширует наши сношения и тщеславится мной на глазах коллектива и Полины Никаноровны, которая всегда считала, что женщина без лифчика все равно что не женщина, а последняя тварь, так как бюст у Полины Никаноровны давно вышел из повиновения, и никогда нам не понять друг друга, хоть пуд соли съедим за общим столом во время поездок по ярмаркам и балаганам, где в автобус, куда нас ведут переодеваться, ломятся, как за мясом, а Наташа, божия сыроедка, говорила, суча быстрыми руками пряжу отвлеченных слов, что мясная философия правит миром и сквозь мясо плохо виден Бог и вопросы вечности, и когда она шла, отвергая мясо, она видела состав воздуха и улыбалась ему, и даже микробов видела, а Вероника хвалила ее и кормила своего Тимофея мясом, чтобы он был сильный и злой, а когда Виктор Харитоныч, козлиная голова, пригласил меня на свидание, я, конечно, почуяла недоброе, нюх у меня, слава богу! – и решила отклонить приглашение, да он настаивал, да так усердно и нежно, что я решила, что ему невтерпеж, или что прослышал и хочет выведать, любил он всегда, чтобы я ему порассказывала, посравнивала достоинства, у кого что и как, хлебом не корми, только расскажи про достоинства и отклонения, и я его развлекала тем, что рассказывала, и ему очень нравилось, что министр не то чтобы тяжелой, но и не легкой промышленности, человек удивительных качеств, был обижен на меня за то, что сидела на званом пикнике у Москва-реки по-турецки, сняв мокрую тряпочку купальника, подаренного все той же Ксюшей Мочульской, которая мясную философию тоже критиковала и тоже, как та сыроедка, ядовито высказывалась о засилии времени, да только я знала такую вечность, где не только глубины, но и благости нет, то есть одна непролазная топь, в которой гибнут самосвалы и любопытный соседский мальчик на корточках, и меня он обжег, этот трос, по щеке поцарапав, и глубинки мне этой, спасибо, не надо, а Ксюша, взращенная на вырезке и детских девичьих шалостях, неполная девятиклассница, с подругой обменивалась поцелуями, а мой одноглазый папаша стерег меня и держал в черном теле не совсем бескорыстно, и я все мимо ушей: насчет Бога, которого плохо, мол, видно сквозь мясо, спасибо большое! а Виктор, значит, Харитоныч получал удовольствие от затруднений министра и дивился его легкомыслию, потому что тот верил, что я воспитываю детей дошкольного возраста, такое занятие, и от души хохотал хриплым басом, а как села посреди пикника по-турецки, лицом к Москва-реке, ощутил неудобство и нарушение этикета, потому что был не один, а с компанией, у которой шашлык встал поперек горла, если не сказать большего, а мне плевать: я сижу, и мне весело, а министр вскорости умирает от рака, но перед этим со мной примирился и даже познакомил со своей престарелой мамой, это, мол, Ира, о которой тебе рассказывал, а был он, что характерно, вдовец, и маме я очень понравилась, только он умер, сгорел от болезни, я ему еще передачи носила, у него в палате цветной телевизор стоял, а доктор мне говорил: даже если он на ноги встанет, все равно мужчиной ему не бывать, а я говорю: ну, и не надо! а доктор мне на это: вы – благороднейшая женщина!
Так сказал мне этот доктор, а министр тут взял да умер, не вылечился, несмотря на больницу, сгорел в месяц, полное невезение, а если бы вылечился, то обязательно женился Александр Прокофьевич, замечательный, светлый человек, только строгий, и никогда не мог простить, что сидела по-турецки, и все спрашивал с мукой: ну почему ты сидела по-турецки? зачем? – а я уже – главное! – маме его престарелой была представлена, чин чинарем, и мы даже втроем обедали на белой крахмальной скатерти, и вазы хрустальные, и очень-очень я ей понравилась, старушке, и Виктор Харитоныч, уважавший чины, радовался за меня и еще пуще воодушевлялся и обещал непременно перевести меня в королевы на сцену, а вместо этого ничего не получилось, и написал он цидулку моим покровительницам, где оправдывался, что я, мол, по собственному желанию, ввиду большой утраты, и Зинаида Васильевна смахнула слезу и осталась ни с чем, потому что прославили мою любовь, публично о ней возвестили в туманных выражениях, но кому надо, тот поймет, а пока вызывает он меня вкрадчивым голосом и ни о чем не предупреждает, на одиннадцать часов, так что я тепленькая, прямо с постели ему, удивленная его желанием, и приезжаю. Смотрю: волнение, и все смотрят в мою сторону, думала – на бусы, бусы надела латиноамериканские, аметистовые, от Карлоса, чтобы этому ублюдку приглянуться, а смотрю – все смотрят, и его секретарша меня проводит в зал, где у нас демонстрации, и накрыт зеленый стол, только не для банкета, и за ним уже Виктор Харитоныч и другие представители, и Нина Чиж. Я хорошо знала Нину Чиж. Она любила трубочки с заварным кремом и не знала, из какого точно места мы писаем, и, когда у нее случился цистит, она меня спрашивала, и я поделилась, а так мы были не очень близки, и Полина тоже сидит и на меня смотрит с неисчерпаемым торжеством, и Сема Эпштейн тоже тут как тут, Виктор Харитоныч глаза отводит и говорит, что, мол, давно назрела необходимость обсудить и пришла пора, и передает слово Полине-суке-Никаноровне, которая, являясь моей непосредственной начальницей, должна, мол, выразить общее мнение, и вскакивает с места Полина Никаноровна и бежит на самодельную трибуну к микрофону, будто комментировать мой наряд, и все будут пялиться и шушукать, а я еще ничего не понимаю, но думаю, чего это все пришли, и даже из дверей высовываются закройщики в дубленых жилетах и с булавками в зубах, и разного возраста швеи-мотористки в легких полупрозрачных блузках – чего это все повылезали из своих нор? никогда еще не было столько шума в нашей конторе с тех пор, как загорелся архив в отделе кадров, а я села нога на ногу, а Полина как закричит на меня, что не следует, мол, и что бусы нацепила, а незнакомый мне человек, на которого, вижу, Виктор Харитоныч всеми силами оглядывается и подражает, тоже говорит, что непорядок и сядьте, наконец, как положено! ну, я села, и Полина начинает про то и про се, про дисциплину и облик, внешний и внутренний, что, мол, внешний мы и так уже только что видели, бусы всякие, а что внутренний такой же, если не хуже, а стало быть, интересно спросить, что, мол, Тараканова думает, на что надеется, только вроде уже поздно спрашивать, потому что не раз, мол, спрашивали, не раз призывали и беседовали, и она сама, и вот Виктор Харитоныч тоже, были такие, мол, беседы, про облик, а только все хуже дело шло, и дисциплина хромала из рук вон, и это пагубно отражалось, а работа специфическая, глаз да глаз, и если досуг отличается безобразием, то это влияет на всех, а не просто личное дело, и вот оказывается, что отличается, что, мол, поступали всякие сигналы, со всех концов, да и я сама не раз видела, когда в поездках со сложным заданием случались непозволительные вещи в виде мужчин, а также алкоголя, причем вплоть до спирта, и ставилось это на вид, особенно мужчины, которые буквально облепляли, как пчелы, да мед, простите за выражение, прогорклый! не наш! и отсутствие дисциплины, о чем всенародно объявлено, и мы обращали внимание, да только это завуалированное тунеядство, скажем прямо, и незнакомый человек, на которого Виктор Харитоныч стойку делает, поддакивает, и зал, то есть мои, значит, товарки, внимает, и Полина сообщает, что кончилось, что называется, терпение, и пора, мол, решать, и бусы мне не помогут, и нечего ими размахивать, да и порядок в одежде известен, а что у нее бюст живет самостоятельной жизнью и свешивается при купании, она не затронула, но на меня свалила и это, а я все сижу и хлопаю глазами, еще не совсем проснувшимися, потому что, как Ксюша, сном не пренебрегала и невыспавшейся жить не любила, а тут Нина Чиж, что трубочки с заварным кремом любила, покраснела от волнения речи и лепечет, что, мол, ладно бы, если курение и мужчины, которые, как пчелы, да только иное тоже, и, дескать, нам это в корне чуждо и непонятно, откуда только такие берутся, а Сема Эпштейн, что заранее выступил, сообщает, что всегда сомневался, да только окружена, мол, была нездоровым климатом, даже – как бы сказать? – преклонения, да что, мол, перед кем, дескать, удивлялись, не перед обманом ли оптическим, потому что климат такой нездоровый, как бы бросает камень в огород Виктора Харитоныча, да только тот и в ус не дует, а сидит, возмущается и ведет собрание, а закройщики со шпильками в зубах из дверей выглядывают, и я чувствую: дело-то как оборачивается! и тут ни с того ни с сего выбегает Нина Чиж, тоже мне представительница, ну, ладно, Эпштейн, ему что, он по заграницам ездок и местный законодатель, а Нина-то Чиж, представительница несложившейся судьбы, которую я из жалости водила смотреть на оркестр в ресторане, где ее никто не пригласил, пока мы по Нечерноземью путешествовали, и она ни с того ни с сего сообщает, что, случись вдруг война с китайцами, записалась бы Ирина Тараканова в добровольцы и бусы сняла бы? Вопрос, мол, серьезный, особенно в свете событий, а Полина спешит добавить, что, глядишь, Тараканова записалась бы не в добровольцы, а в любовницы к пресловутому генералу Власову, такая бы вышла накладка, а мы ее держим, и не полное ли кощунство, что она служит рекламой нашего с вами образа и подобия, походки и даже, если хотите, прически, а с кого, собственно, брать пример? Эпштейн кричит: не с Польши ведь!
А я кричу: ну, это слишком! А сама думаю, на что, мол, они намекают, на какого Власова, то есть я знала, не дура, но он-то при чем? Всколыхнулся мой патриотизм и кричу: – Неправда! Это слишком! – А они мне в ответ, что не слишком, а все правильно, и что мне, мол, молчать пора, а не бусами трясти, а я ими трясу и людей ставлю в понятное недоумение, за что и держите ответ перед собравшимися мужчинами и женщинами, и что мне на это, мол, нечего возразить, потому что и так все ясно, а Нина Чиж еще объявляет, что ладно бы, если мужчины и алкоголь и в гостинице постель взъерошенная, а вот если замешаны тут и женщины, да не с лучшей, прямо-таки сказать, стороны, то вот здесь совсем облик проступает зловещий и угрожающий, и Сема Эпштейн говорит, что пощады не будет, а незнакомый человек по фамилии Дугарин даже весь налился кровью и так выразительно на меня посмотрел, что я присмирела и даже отказываться от клеветы не решаюсь, а мне говорят, что это также и в моих интересах послушать, как будто мои поступки не слишком скромны и красивы, а им ли судить? да я промолчала и слушаю тихо.
И потянулась их тогда полная череда, один красивее другого, и все меня сватают в любовницы пресловутого генерала и обнаруживают во мне все новые недостатки, и критикуют, и даже закройщики с недошитыми нарядами выступают, и превозносят свои изделия, и просят, чтобы я эти изделия своими ухищрениями не позорила и не надевала, а я и не слишком хотела, тоже мне дерьма пирог, но все-таки странно мне слышать, а Виктор Харитоныч все возмущается и отводит глаза, а Полина Никаноровна не выдержала и расплакалась от накопившейся нелюбви ко мне, не выдержала, и тогда Нина Чиж стала ее утешать и предлагать трубочки с заварным кремом, и они стали прожорливо есть на глазах у всей публики, как будто в булочной, а мне даже бусами не дают пошевелить, слетелись на меня, вши лобковые, а я сижу и не отбиваюсь, прислушиваюсь, и уже отшумел Сема Эпштейн, и уже померк в своем неуемном гневе неизвестный человек по фамилии Дугарин, тоже приведший некоторые примеры моих опасных влияний на коллектив, что проглядели вы ее и даже, может быть, перехвалили, позарясь на внешность и недооценив внутреннего содержания, и подумала я, что дело клонится к концу, стихает стихия, да не тут-то было: выпархивает на арену мой ангел-хранитель, мой защитник частных интересов, Станислав Альбертович Флавицкий, и говорит, прикартавливая, сладким голосом.
Станислав Альбертович. Я только с виду чужой, а по настроению очень отчетливый, и я, дорогие мои пациенты, неоднократным образом делал Ирине Владимировне аборты и сбился со счета. Не берусь подсчитать, потому что сбился со счета и точной цифры не помню, хотя медицинская тайна перед вами не играет большого значения, потому что вы – воля пославшего вас тред-юниона.
Виктор Харитоныч. Несомненно.
Полина Никаноровна (плачет). У-у-у-у-у!!!!!
Нина Чиж. Бом-бом-бом!
ДугариН. Дальше.
Станислав Альбертович (с воодушевлением). И всякий раз поражался!
Виктор ХаритоныЧ. Правильно!
Станислав Альбертович. Я не похож на Ирину Владимировну Тараканову ни сном ни духом, но хорошо припоминаю ее слова о нежелании рожать детей в неволе, хотя как доктор не желаю зла, а желаю, чтобы одумалась.
Полина Никаноровна. Не одумается!
Генерал Власов. Она была моей спутницей связи.
Сема Эпштейн. Преступница! Тавра на тебе нету!
Станислав Альбертович.
Мы, люди в белых халатах,
Мы гневно осуждаем бабушку русского аборта!
Мы, люди в белых халатах,
Бабушку русского аборта не пустим в свой дом!
Полина Никаноровна. Я – Полина Никаноровна.
Станислав Альбертович. Очень несказанно рад!
Зал. Дружба. Дружба-а-а-а-а!!!!!
Закройщики. Гляди, ребята, генерал!
Генерал Власов (в кандалах, по щиколотки в воде, весь в мышах). Всеми преступными помыслами обязан Ирине Владимировне Таракановой, итальянской проходимке, сожительнице Муссолини.
Закройщики (плачут и поют).
Таракан и паук
В нашем доме живут.
Кандидаты наук,
Таракан и паук —
Педерасты!!!
Нина Чиж. Бом-бом-бом!
Полина Никаноровна и Станислав Альбертович целуются у всех на глазах.
Виктор ХаритоныЧ (яростно аплодирует). Вот это – дело!
Я (с криком). И ты, дедуля!!!
Дедуля, не останавливаясь, проходит мимо меня, сверкая медалями и очками. Он чистил медали зубным порошком. Он не признавал зубной пасты как вредного и опасного нововведения, вводящего народ в заблуждение. Дедуля поднимается на трибуну.
Выступление Дедули.
Дорогие товарищи!
Моя родная внучка, Ирина Владимировна Тараканова
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………. (молчит).
Виктор ХаритоныЧ. Чего замолчал?
Дедуля (молчит).
Виктор ХаритоныЧ. У вас есть текст.
Дедуля. Он у меня выпал.
Виктор ХаритоныЧ (совещается). Он у него выпал.
Дедуля. Можно, я так скажу? Без затей.
Дугарин. Говори, старый стахановец!
Дедуля. Ну, начать с того, что, когда из дому выходит, свет никогда не погасит и газовый рожок тоже в ванне оставляет гореть, а от этого пожар может вспыхнуть, и все сгорит к чертям собачьим, а я погорельцем быть не желаю, не для того, можно сказать, жил, чтобы в старости погорельцем остаться, а то, что в японском халате кимоно по квартире разгуливает, мне не жалко, разгуливай, коли совести нету, а как вдруг из кровати или из другого какого угла выскочит и давай по телефону разговаривать, это (к Дугарину), сынок, другое дело, это меня как больного человека травмирует, и ночевать у нее в комнате остаются, хохочут и брызгаются, будто другого места нет, и опять же вода даже в коридор выливается, и при этом курит в постели, а я волнуйся, не спи, обидно все-таки, если погорельцем на старости лет, или еще другое: однажды, не совру, видел у нее в кровати целую лужу крови, хотел было спросить, но честно скажу, побоялся, все-таки мало ли что, но лужа была, а что в японском халате кимоно ходит – претензий не имею, потому что халат хороший, хотя и мерзость, конечно…
Виктор ХаритоныЧ. Какие отсюда делаешь выводы, Тихон Макарович?
Дедуля (вздыхает). Какие уж тут выводы…
Виктор ХаритоныЧ. Ну, насчет того, можно ли проживать совместно?
Дедуля. А, это!.. Ну, начать с того, что проживать совместно ввиду угрозы пожара мне как уважаемому человеку совсем вроде бы не к лицу. И никакой ее опеки мне не нужно! К чертям собачьим! (Топает ногами.)
Зал. У-у-у-у-у-у-у-у-у!!!!!
Раздается выстрел. Что это? Это застрелился генерал Власов.
Закройщики (скандируют). Герой-с-дырой! Герой-с-дырой! Герой-с-дырой!
Швея в белой блузке. Девчата! Давайте вырвем у нее волосы! Выколем булавками глаза!
Девчата. Давайте!
Виктор ХаритоныЧ (строго). Ну-ну! Не хулиганить!
Нина Чиж (ликуя). Бом-бом-бом!
Сема Эпштейн. Почему застрелился труп генерала Власова?
Полина Никаноровна (нежно). Кто ж его знает?
Труп генерала Власова (с южнорусским акцентом). Я не застрелился. Всем поганым во мне я обязан Ирине Таракановой!
Виктор ХаритоныЧ (ко мне). Ну-с, что скажешь? (Смотрит с ненавистью.)
Я (стоя на трибуне). Я никогда не любила этого (в сторону трупа генерала Власова) человека. Я любила другого. Я очень! Это все из-за него!!! Я… я… я… (Падаю в обморок.)
Наступает вечер. По-прежнему лежу без сознания. Ко мне склоняются два знакомых лица. Это Виктор Харитоныч и его подруга, Полина Никаноровна. Наступает вечер того же дня.
Виктор ХаритоныЧ (Полине Никаноровне, смягчаясь). Эх ты, сука!
Полина Никаноровна. Извини.
Виктор ХаритоныЧ. Стерва.
Полина Никаноровна. Ну и что?
Виктор ХаритоныЧ. А ничего! Старая проститутка!
Полина Никаноровна. Кто? Я?
Виктор ХаритоныЧ. Ты.
Полина Никаноровна. Сволочь!
Виктор ХаритоныЧ. Извини.
Полина Никаноровна. Гад!
Виктор ХаритоныЧ. Извини.
Полина Никаноровна. Изверг!
Виктор ХаритоныЧ. Извини.
Полина Никаноровна. Не извиню.
Виктор ХаритоныЧ. Нет, извинишь!
Полина Никаноровна. Нет.
Виктор ХаритоныЧ. Сука!
Полина Никаноровна. Не извиню.
Виктор ХаритоныЧ. Стерва!
Полина Никаноровна. Молчи. Я ж тебя… Я ж тебя стоячей сиськой ухайдакаю!
Виктор ХаритоныЧ. Такого не бывает.
Полина Никаноровна. Бывает!
Виктор ХаритоныЧ (неуверенно). Не бывает.
Полина Никаноровна (делает угрожающий жест). Бывает!
Виктор ХаритоныЧ. Уйди! Убью!!!
Полина Никаноровна. Извини.
Виктор ХаритоныЧ. Не извиню!
Полина Никаноровна. Витя!
Виктор ХаритоныЧ. Что Витя?
Полина Никаноровна. Витя…
Виктор ХаритоныЧ (смягчаясь). Эх ты, сука!
И как потянулись они друг к другу, пошли на сближение, зашевелилась я на директорском диванчике, давая понять, что очнулась и сознательно присутствую при их внутренних испражнениях, так они уставились на меня – и видят, что я оживаю, а Полина Никаноровна, довольная моим выздоровлением по собственным причинам, объясняет Виктору Харитонычу, что, мол, напрасно он волновался и ничего они не переборщили, а поступили согласно расписанию, и Виктор Харитоныч тоже подтянулся и стал выглядеть молодцом, а я говорю слабым голосом, что хочу отправиться восвояси, а они не перечат и смотрят на меня радостно, как на свершившийся факт, и Виктор Харитоныч совсем успокаивается и с Полиной больше не бранится, а очень галантно с ней разговаривает и очень собою доволен, потому что все идет согласно расписанию, никаких уклонов и перегибов, а я облизываю засохшие губы, и волком гляжу на Полину, и говорю, что, может быть, она нас оставит и что мне хотелось бы тет-а-тет с Виктором Харитонычем, но Виктор Харитоныч смущается от моей просьбы и, ссылаясь на поздний час, предлагает найти для меня машину и транспортировать по месту жительства, и сам прячется за Полину, а Полина смотрит на меня, как на раздавленное животное, с некоторой брезгливостью, а я лежу, ослабевшая от потери сознания, и плохо соображаю, однако знаю, что Виктор Харитоныч, в сущности, неплохой человек и что был вынужден, а она бы – сама, и даже больше! то есть даже бы убила, но он тоже доволен, потому что все прошло как по маслу, ну, я встала, оправилась и, не сказав им худого слова, вышла, ловя такси, а на улице теплый дождь, вечер, народ прогуливается почти что счастливый, и, оглядевшись по сторонам, подходит ко мне незаметной походкой Станислав Альбертович, скрывавшийся где-нибудь в магазине или под аркой, где перекупщики почтовых марок свили гнездо, подходит, прикрывшись черным зонтом, и предлагает вступить в выяснение отношений, а память моя чувствует, что он говорил обо мне компрометирующие речи и даже махал кулаком, что ему не совсем шло как человеку врачебной профессии, а он все просит его не то чтобы понять, но выслушать, и намекает, что меня дождался, потому что все-таки не очень это трусливое дело дождаться меня и предложить взять под руку и отвести домой, когда тень нависла надо мною и мне плохо, и даже покачивает, а он объясняет, что попал в исключительные обстоятельства и просит его понять, а если не понять, то, по крайней мере, отметить его беспокойство, и я ничего не возражаю, но только мне не до него, чувствую, что наступают решительные перемены и, как сказал Виктор Харитоныч, судьбоносные дни, а куда мне прикажете ехать, не к дедуле же, который, однако, исчез в этом дожде, и куда мне деться, и я не слушаю разговора Станислава Альбертовича, а сажусь в такси и называю свой адрес, оставляя Флавицкого под черным зонтом на скользкой брусчатке, на полуслове его признаний, а что мне они, да я не против, только он не поможет, но кто же заступится? Вот что меня занимало, пока я ехала через город, слабея и оживая, то в поту, то в ознобе, потому что сколько времени провела в беспамятстве, не помню, и где оно началось, затрудняюсь сказать, да и кончилось ли? Потому что навалилось на меня чувство беспамятства от мысли, что меня ненавидят, так как с ненавистью жить – дело новое, нет, конечно, бывало и раньше, но чтобы все вместе и аплодировали, когда я падала в обморок, и Нина Чиж раздавала всем ванильные трубочки, а мне не дала, только куда я еду? И все-таки я ехала домой, потому что с дедулей, Тихоном Макаровичем, хотела в первую голову разобраться и понять, куда все клонится, а уже потом хлопнуть дверью, но думать пока не хотелось, потому что от неожиданности очень устала, и руки не слушались, а в мозгу звон и странные крики доносятся, и почему они меня на свидание позвали, понимаю, но все-таки могли бы предупредить по-хорошему, а то получилось неловко, неподготовленно, ну, позвал бы меня Виктор Харитоныч и сказал бы, что мы тебя пожурим и уволим, а ты порыдай и пострадай у всех на глазах, как положено, – пожалуйста, я готова, я бы порыдала и тут же призналась, но они не хотели даже выслушать, а сразу закричали со всех сторон, и полезли незнакомые лица, и даже этот самый генерал, как будто у меня с ним были дела, а ведь ничего не было, и он обожал позу собачьей покорности, и мне бы ему объяснить ситуацию, только б добраться до дома, и тут отмечаю, впервые все как-то нетвердо и шатко, и отделить невозможно такси от обиды, шепот закройщиков от собственных рук и волос, и отказалась я решать этот серьезный вопрос, эти выдумки генеральского сорта, а приехала к дедуле, отперла дверь и думаю: вот сейчас напоследок ему задам, а он стоит на кухне, при плите, в фартуке в красный горошек, и жарит треску, а как увидел меня, весь обрадовался и ко мне, а я ему сухо отвечаю, что этих нежностей не понимаю, а что лучше поменьше бы он радовался, потому что все-таки родственник, а он мне на это, что радуется не понапрасну, а рад меня видеть живой и здоровой, значит, подтвердились его прогнозы и вышло по его велению, а то он было несколько приуныл, потому как час поздний, а я все не шла и не шла, а я ему говорю – что же ты меня оставил? и какие еще прогнозы? а он мне отвечает, что давай лучше, Ируня, выпьем на радостях, и лезет в холодильник, и вынимает пол-литру кубанской с винтом, и ставит на стол, а на столе закуска – огурчики-помидорчики, шпроты, сервелат, и треска шипит на плите, я ему говорю, ты в своем умишке, старый хрен? какая радость? меня отсюда вышибают со страшной силой, и я лечу вверх тормашками в свою глубинку куковать, а он мне на это: стоит ли печалиться? разве в этом счастье? ведь все обошлось по-хорошему! – Ничего себе! – Милая моя, отвечает, будто я жизни не знаю, а я тоже будто не знаю! только мы по-разному знаем, и он всяческий пессимизм разводит, и глядит на меня то с дрожью, то с уважением, и намекает, что, мол, в курсе последних событий и причина некролога ему прояснилась, и в свете такого прояснения странно ему меня видеть в печали, а я говорю: что же мне радоваться, коли мой дедуля меня так отменно закладывает, а он удивляется: это я-то тебя закладывал, когда я тебя каждым словом своим выгораживал! – а я ему: а чего же ты, старая дрянь, заранее мне ничего не сказал? хотя бы с утра, чтобы я приготовилась и немного иначе явилась, хотя бы без бус и не в Ксюшином платье, а как-нибудь, как монашенка, а он говорит: так нужно было! – кому? – как кому?! – не понимаю его, продолжаю выпытывать: почему сделал подлость? – он не понимает, говорит, что от всего сердца, и сразу потребовал огородить меня от посягательств, на том и сторговались, потому и пошел, потому все так славно и кончилось, хотя, говорит, я заметно поотстал от современной жизни и не могу в толк взять, почто тебе такая поблажка вышла, и не все слова понимал, хотя и старался, а я говорю: почему же ты выступил?! – а он: а как же мне не выступить, если я сознательный человек и жить-поживать хочу, не желая тебе зла, а докладик-то, говорит, я в сортир спустил, как тебе нравится? – не нравится, говорю, – а зря, отвечает, там были похлеще формулировочки, пообиднее, и мне не понравилось, я, значит, подумал-подумал и в канализацию спускаю сегодня утром, а сам дурачком обернулся, ну вроде как маразматик, а для большего веса медали и значки надел, чтобы знали, что и я – человек! – Плевать они хотели на твои ржавые медали! – говорю я. – Ты мне объясни, почему полез выступать, а меня заранее не уведомил? – Ну, говорит, ничего ты не понимаешь, давай лучше выпьем – ну, думаю, выпьет, расскажет, – а сама думаю: он меня, говорит, не закладывал, а сам что говорил! про какую-то лужу крови! а? это не закладывал?! – он говорит: про лужу со страху присочинил, а то они все на меня смотрят и ждут, а я говорю какие-то легкие частности, еще, чего доброго, рассерчают на меня за нарушение пакта, и оба пострадаем, а так, мол, пожалуйста, приезжай, когда хочешь, они понаблюдают годик-другой, а потом надоест, примелькаешься, а то, что тебя с работы уволили… – как уволили?! – а то как же? – нет, говорю, я не в курсе, я со слабостью и дурнотою боролась, ну, вот, говорит, малахольная, а еще пускаешься в разные приключения, не зря я тебя не хотел брать к себе, а ты клялась здоровьем родителей, так и знал, худо кончится дело, вот и кончилось, хотя ты, конечно, высоко взлетела, если правда все это про Владимира Сергеевича, который, доложу тебе, однажды мне руку пожал на слете ударников, когда я был еще необразованным человеком и не знал, как измерить градусником температуру тела и раздавил его в койке, попав от перевыполнения плана в больницу, а когда выздоровел, узнаю, что я норму ста пятидесяти негритянских землекопов один выполнил, вот и надорвался, а все шумят от восторга, выступают на митинге, одобряют договор между Молотовым и Риббентропом, а как поздравлять стали, Владимир Сергеевич тоже мне руку пожал как почетный гость, а ты, стало быть, тоже его знала…
Я выпила полстаканчика водки, чтобы согреться, но рассказывать ничего не пожелала, да он и не настаивал, а, напротив, захмелел и сам пустился в историю, но сказал, что от продолжения карьеры поуберегся, оттого и остался жить, потому что всегда довольствовался малым и, слава богу, жизнь прожил не то что некоторые, которые высоко поднимались и больно падали, а он жил, ровно дышал и никогда не был обиженным человеком, и что, пока суд да дело, могу у него несколько деньков еще побыть, а уж потом, конечно, нужно сматывать удочки, такой у них пакт, а пока сиди и кушай, вон грибочки маринованные бери, специально открыл, он налил. – Выпьем! – он выпил и совсем закосел. Сволочь ты все-таки, – сказала я ему усталым голосом. – Это я сволочь? – оживился после водки дедуля. – Это они сволочи, они, родненькие, мерзавцы, хотя не нам, грешным, судить, но все-таки сволочи, ох, сволочи, хотя не совсем… Ну, выгнали – ну, подумаешь, с работы выгнали! Я, милая моя, их сразу спросил: что вы с ней собираетесь делать? – Так и так, отвечают, с работы уволим. – Это правильно, говорю, а дальше? – А они говорят: других намерений не имеем. Как, сомневаюсь, только выгоните? Да, отвечают, но вы нам тоже помогите, чтобы в Москве ее духа не было!.. Ну, тогда, отвечаю, помогу, гоните ее в шею ради светлой памяти Владимира Сергеевича, который мне однажды руку пожал в Колонном зале и которого с тех пор уважаю, а ее гоните, с работы гоните и из Москвы, нечего ей в Москве делать, гоните! А сам думаю: вот до чего дожили! Вредительницу с работы увольняют! – Дедуля пьяновато рассмеялся. – Увольняют и не трогают, как будто при Николае! Вот, думаю, дела, но все-таки не верил, грибочки открываю, а сам думаю: час-то поздний… Как то есть не трогают! – закричала я слабым, но дурным голосом. – Как не трогают! Из Москвы высылают! – Глупая! – хохочет дедуля и сверкает весело очками. – Разве это трогают? Это, Ирунь, несерьезный разговор! – машет он в мою сторону вилкой с наколотым на нее крепким грибком. – Это ты мне даже не говори!
Мы снова выпили, и оба уже тепленькие, и дедуля, сверкающий стеклами своих допотопных роговых очков, и я, немного уставшая от всей этой истории, но – подожди! – сказала я дедуле. – Я этому Виктору Харитонычу еще покажу! – Но дедуля не слышал, потому что он сам хотел говорить и вспоминать, а вспоминал он всегда одно и то же, как выполнил за смену норму ста пятидесяти негритянских землекопов, как попал после этого в больницу и не знал, куда вставить градусник, и он его раздавил под одеялом от большого смущения, и ловил руками лужицу ртути, и как однажды он положил мороженое в карман парусиновых брюк, когда с бабушкой они пошли в зоопарк, и как эскимо растаяло в кармане, а он не заметил – да как же ты не заметил?! – всегда удивлялась я, – а вот так, увлекся разными животными… а бабушка потом меня обругала. – Стервозная, что ли, была? – спрашивала я, потому что всегда не любила стервозных и истерических женщин, которые любят порядок наводить и сатанеют, стирая белье и гладя. – Всяко бывало, – уклончиво соглашался дедуля, но возвращался к событиям Колонного зала. – Я тебе вот что доложу, сказал дедуля, мне твой Владимир Сергеевич, честно сказать, не понравился, когда он мне руку жал как почетный гость. А не понравился, и все! – продолжал дедуля. – И я ему пожал руку без всякого удовольствия, хотя человек, конечно, незаурядный, и руку он мне первый протянул. – Ну, не понравился и не надо! – сказала я миролюбиво, ослабев от водки, потому что мы усидели бутылку, а я была с обморока, и мне было нехорошо, и мы с ним выпили за то, чтобы земля Владимиру Сергеевичу стала пухом, а я видела мужчин, в том числе и Виктора Харитоныча, в самом беззащитном состоянии, потому что проникла в историю через заднюю дверь, и мне всегда было интересно, что бы случилось, если бы я вдруг взяла и стиснула зубы. Но дедуля считал, что все они, знаменитости, горькие пьяницы и развратники, а разврат у него начинался с посещения ресторана, и искал этому подтверждения в моих словах, но я была немного выпившая и не стала спорить, и все-таки, сказал он, я отстал от современного времени и хотя все понял, когда тебя разоблачали, одного не понял: лесбиянка… Это что еще за новый ярлык на людей стали вешать?
Я не стала ему объяснять, отмахнулась: мол, тоже липа, поскорее ушла к себе. Дедуля не убедил. Я не хотела уезжать из Москвы! Я обожаю Москву!!! Я опрокинулась на кровать и заснула.
13
Мой мальчик стучит у меня под сердцем. Пульсирует. Я привыкаю к нему. Нотабене: подумать о гигроскопических пеленках, сосках-пустышках, английском тальке, наконец, о коляске!!! На днях на Тверском видела коляску из джинсовой ткани. Хочу такую! Когда-нибудь он всех вас к ногтю. Совсем нет времени писать. Вяжу одеяльце.
Мир все-таки не такой тесный, как его малюют. Иногда потянешься, расправишь руки – и можно жить. Но тогда, после собрания, у меня все, что могло, опустилось. Даже Ритуля и то побаивалась. Кстати, где она была во время собрания? Ритуля говорила, что ей за меня досталось. Ее вызывали к Виктору Харитонычу, и тот ее пугал. Идет коза рогатая… У-у-у! Ритуля кричала, забившись в угол. Полина тоже стала ее покусывать, но Ритуля сказала мне, что она выйдет замуж и бросит работать, потому что женщине вредно работать.
Ритуля не пропадет. Она зализала свои стыдливые раны и готовится разорить армянина по имени Гамлет. Это грустно, потому что если все они назовут себя Гамлетами, то где тогда Гамлет? Ритуля его разорит, это точно, она уже начала его разорять, я видела перстень с рубином, она хвалилась и сказала, что Гамлет согласен на мою беременность (Ритуля обуглилась от любопытства), то есть ему все равно.
Лукавый дедуля за ночь придумал спасительный план. Он уложил себя в больницу. Тогда я тоже на всякий случай принялась звонить, потому что Виктор Харитоныч уклонился от тет-а-тета (сука ты последняя, Витенька, как пососать, так меня зовешь, а как поговорить по душам раз в жизни – бздишь!), и я стала звонить, а они помалкивали, и тихонько сидели, и не находили нужных слов, и у меня все опустилось, и даже Шохрат, с которым облетали мы мусульманские минареты на самолете Як-40, красивый такой самолетик, а началось с того, что Шохрат жил в номере по соседству, в Сочи, где мы были на гастролях, и Ритулька тоже была, и повадилась я на просторном балконе гимнастику делать, а Шохрат усмотрел из своего люкса и стал рваться в номер, его распирало от счастья со мной познакомиться, чучмек есть чучмек, ему вынь да положь, сорит деньгами и коньяк мечет на стол, дыни сладкие, потому что бай и нетерпелив, а наши мужики что?
И тогда я подумала: отчего они такие, как заколдованные? отчего ходят понурые и будто обоссанные, несмотря на моральное превосходство? Кто их заколдовал?! А Вероника говорит: тебе никогда не снились сны про обидчика? А я говорю: – Милая моя! Мне такие сны каждую ночь снятся, а она говорит: – Ну, тогда слушай меня, а Шохрат откликается потусторонним голосом, что до лучших, дескать, времен, и он пронюхал, ушастый, губастый, носастый, глазастый и волосатый даже на спине, я этого не люблю, но приходилось иногда: кабанчик, а потом позвонила Гавлееву, и тот сказал, что обязательно перезвонит, как только вернется из командировки, но он не вернулся из командировки, а как любил позу собачьей покорности! И я всех их стала вытаскивать из трюмо и трясти, в котором они отражались, как в нафталине, поодиночке и вместе, разные люди, крапленые карты, колода валетов, тузов, королей, но они стушевались и думали, что я их пугаю, а я от них совета просила, ничего больше, и не хотелось к папаше-краснодеревщику, и Виктор Харитоныч, с потеющей мордой, отмалчивался, и Ритулю наставлял: не дружи с ней! Но спать с Ритулей – не спал, или врут они оба, не знаю, Ритулю не поймешь, она хитрая, но все-таки она меня не совсем тогда оставила, приходила вечерами, даже всплакнула, но на вопрос: что делать? – разводила молодыми руками. Послушать ее, ехать мне надобно в родную деревню и быть там вроде первой бабой, то есть блистать августовскими прелестями, а была я сбитень, ну, истинный сбитень, но формы, конечно, немного устали, хотя по-прежнему отказываюсь от лишнего груза бюстгальтера и ненавижу как неизбежное! Однако пришлось надеть.
Как намордник. Я женщина беременная, и если вам не нравится, кем, то уж, пожалуйста, не думайте, что я послушаюсь ваших угроз.
Я вам такое дитятко рожу, такое яичко высижу – зубы выпадут!..
Ой, шевелится!.. Шевелись! Шевелись!
(Вяжу одеяльце.)
На следующий день дедуля вышел в палисадник, и я видела из-под занавесочки второго этажа, как он вел разговоры с соседскими старперами и удивлялся тому, какие нашел перемены: – Это же надо, как времена поменялись! – разглагольствовал он, присматриваясь к игрокам в домино. – Это же надо! – И он огорчался и беспокоился как патриот: – Если так дальше будет продолжаться, следующий катаклизм мы, того и гляди, проиграем! Это что же такое делается!
Он очень беспокоился и кружил вокруг игроков в домино озадаченный, а после обеда заказал, ссылаясь на сердце, «скорую помощь», сложил пижаму, стоптанные тапочки, бритву, ретро-обращение «На проводе!», пачку любимого «Юбилейного» печенья в вещмешок, осунулся и закряхтел, когда в дверях мелькнули белые халаты, он немного переиграл, и его скоропостижно увезли под вой сирены, даже мне не подмигнул напоследок, и осталась я наедине с трюмо, и телефон замолк, будто отключили за неуплату, и только Ритуля навещала, но толку от нее чуть, а ласки не шли мне в голову, и слушать ее не хотелось, как Виктор Харитоныч на моей истории собирался круто пойти в гору, потому что все у него вышло отлично, и за это полагалось ему вознаграждение, а у Полины мелькнула было мысль подсидеть Харитоныча и водрузиться в кресле, чтобы воевать с молодыми закройщиками как директрисе, да только рыльце у нее в пушку, и Виктор Харитоныч элементарно ее сделал, и она, захлебывалась Ритуля, ползала перед ним на брюхе, а мне было совсем без разницы и даже восстанавливаться в их поганой лавочке не хотелось, хотя ничего они мне не сказали, даже записочки не прислали о том, что уволили.
Уволили – и дело с концом, а я сиди и думай, что дальше выдумать, а телефон молчит, и, когда захотелось мне несколько отдохнуть от последних событий, Шохрат сослался на лучшие времена, Карлоса расстреляли в застенках, а Дато – что Дато, он восемь месяцев в командировках, а как вернется, все занят, на рояле тренируется, слова ласкового не вымолвит, тоже мне муж! и порадовалась я, что не вышла за ненадежного человека замуж, потому что всегда его нет под боком, а как увезли дедулю, то решила пожаловаться Ксюше, описать свое бедственное положение, и стала писать ей письмо, в котором все описала и очень жалею, что ее не хватает, и не успела я ждать ответа, как верная подруга звонит по международному автомату со станции Фонтенбло, где грушевый сад и Наполеон, и говорит, чтобы я держалась, потому что она скоро приедет и меня любит, и чтобы я не тосковала, как будто это возможно, и смотрю: действительно, приезжает, вся в претензии к заграничной жизни, к заграничным русским, с которыми поругалась, и с испанцем своим, бухгалтером, тоже поругалась, хотя к испанцам вообще относится хорошо, лучше даже, чем к другим, и всем она недовольна, но, прерывает себя, хватит об этом, поговорим о тебе, и я стала ей объяснять, как дедуля рассказал про легендарную лужу крови, которой отродясь не бывало в моей постели, и она все слушала с предельным вниманием нежной подружки, положив мою поруганную голову к себе на плечо, а я ей все плакалась, запивая мартини, как обиженная малолетка, а она меня утешала, и мы снова вспомнили Коктебель, роскошные ночи и светлые дни, и вздыхали, как две полысевшие климактерички, но вдруг она взглянула на меня своими умными глазами, которые редко у кого встретишь, идя по улице, посмотрела (пишу, а по радио исполняют «Голубую рапсодию» Гершвина) так внимательно и весело, что я поняла: она что-то придумала, и она придумала, только не знала, соглашусь ли я, потому что терять мне, конечно, нечего, но все-таки кое-что я могу еще потерять, и я сказала: терять мне совершенно нечего, а в родную дыру уезжать не хочу по причине того, что там в темных сенях цветет квашеная капуста, а она обрадовалась: давай вместе повесимся в одночасье, ты в своем родном городе, а я – в незнакомом тебе поселке Фонтенбло французской железной дороги, потому что французы надменные и говнистые, и они думают, что лучше их нет никого, а лучше их, например, безусловно, испанцы, хотя я со своим бухгалтером поссорилась за три часа до совместной поездки в Гренаду, всюду-то она поспеет! но дело не в этом: давай, солнышко, повесимся, а то тошно мне стало выносить моего стоматолога Рене, всякое терпение кончилось, а иначе я его отравлю, я – мадам Бовари! но если не травиться мышьяком и не вешаться, то у меня есть одна идея, которая, говорит, может показаться тебе экстремальной, и вспоминает она про ту карточку, которую мама моя обнаружила в книжном шкафу, в собрании сочинений Джека Лондона, когда я после ресторана в Архангельском, где было, как всегда, немного шумно и утомительно, и подавали жесткую лосятину, и пахло офицерским развратом, поехала в гости на чужую квартиру, и там поляроид достал меня в интересной компании, и когда мамаша увидела, я думала, она закричит: это что?! – потому что по виду она – типичная уборщица с глубоко посаженными глазами и шестимесячной завивкой, и с сережками за трояк, купленными в табачном ларьке, но она не закричала, а посмотрела не то чтобы с одобрением, но без ужаса, и говорит: – Интересное дело… – и еще раз посмотрела, а я, конечно, немного смутилась, а потом Дато возил ее с собой по всем странам, так что я, можно сказать, объездила полмира в его портмоне. Ксюша спрашивает: а что, если?.. – и мне предлагает замысловатый план, потому что и так плохо, и так нехорошо, а я говорю: тут стоит подумать, потому что гнев, говорю, большой, на своей шкуре убедилась, и больше не надо, а Ксюша говорит: к своему папочке удивительному хочешь вернуться? Ну, вот, я тоже думаю, что не хочешь. А я говорю: да кому я нужна? хотя, оговариваюсь, остаюсь быть красавицей, но с нервами плохо, от кофе знобит, устала и душа просит семейной размеренной жизни, да только где она, эта жизнь?
А Ксюша говорит: как хочешь, дело твое, но так получается, что ты вдовее настоящей вдовы, Зинаиды Васильевны, потому что у той дача и паскуда Антошка, а ты – в круглых дурах, и годы зря протекли, а вдобавок тебя обижают и обвиняют, солнышко, это уже совсем некрасиво, и смотрю – стала она совершенной француженкой, и был это ее последний приезд сюда, потому что затем называли ее незаслуженно даже шпионкой, и меня Сергей и Николай Ивановичи, два журналиста, о ней очень подробно расспрашивали: кто, говорят, эта Ксенья Мочульская, ваша лучшая подруга? А я говорю: была когда-то подругой, так темню, потому что Ксюше, конечно, все равно, она далеко, на другом свете в грушевом саду прогуливается, и птицы поют над ее головой, а я с братьями Ивановичами, но с фальшивыми: один белобрысый, с неровной кожей лица, а другой вдумчивый такой и все понимает. Нет, говорю, раньше – другое дело, то есть от дружбы не отказываюсь, а скорее предлагаю им что-нибудь выпить, только вдруг вдумчивый соглашается, вдумчивый Иванович, а белобрысый (это они потом про любовь написали что-то совсем туманное) – так вот второй говорит, что спасибо, холодным голосом, и посмотрели они осуждающе друг на друга, потому что не поделили они свои слова, а я говорю: бросьте эти шутки, ребята! Давайте выпейте, а сама через плечо в заповедный журнальчик на себя любуюсь, через их затруднение смотрю на то, что они принесли, и скажу прямо: хорошо получилось! самой приятно!
И тогда мы стали думать.
А у Ксюши был один друг-профессионал, он ее еще по Москве очень уважал, и, по-моему, не без успеха, а сам интересовался другими отношениями, ну, да я к этому с добрым чувством, все равно как к коллеге, только Ксюша говорит: знаешь что? нечего тебе быть одной, раз пострадала, найдутся, кто посочувствует, а я говорю: все, как крысы, разбежались и тихонечко по углам сидят, даже спать не с кем, а кто остался, те совсем мелкота, несерьезно, а что серьезно, так это вот какое дело: есть, говорит, такие приятели, и спрашивает, давно ли я не виделась с Мерзляковым, с которым у меня в свое время разыгралась шестидневная любовь очень стремительного масштаба, да только закончилась она вялой дружбой, и стали мы с ним перепихиваться раз в полгода, как старосветские помещики, ну вот, говорит Ксюша, это хорошо, и я тоже подумала, что можно и позвонить, и стала звонить, а у него там жена, а я не люблю подводить людей, не то что Ритуля, она и японца-фирмача заразила, и японец помчался сломя ноги в Японию, а раньше всякие шмотки, такие были отношения, а я не люблю подводить, Ксюша знает, и Ксюшу я тоже не подвела, потому что Ксюшу Ивановичи сами вычислили, они помозговали и вычислили, и меня спрашивают: не она ли? А я говорю: во всяком случае, я тут ни при чем, – и говорю им: а в чем, собственно, дело? Что, говорю я, я разве чужое выставила на обозрение, а не свое кровное? Нет, говорят, нельзя отрицать, что красиво, сразу видно, что мастер фотографировал. Я говорю: я сама фотографировала. Не верят.
А мне все равно. И приходит тогда Ксюшин друг, добрый X., с развевающимися фалдами вельвета, и она вместе с ним, а Витасику я накануне позвонила, и он обещал намеками тоже как-нибудь заглянуть, потому что все дома, а Ксюша мне говорит: ты ему не все сразу говори, ты просто подружись с ним заново, она любила всякие комбинации строить, а с Вероникой, спрашивает, ты как? – Нормально, только она же ведьма, не поможет. Почему? – удивляется Ксюша, вполне может статься, только позже, а сейчас пусть придет X., и приходит X. со своей славной заграничной аппаратурой, и Ксюша мне говорит: важно выдержать стиль, настроение. Какое, говорит, у тебя настроение? Сама знаешь, а она говорит: значит, что-то такое траурное, это всегда любопытно, а я ей рассказываю под руку, как надевала по случаю прощания с Леонардиком свое черное рубище, только, беспокоюсь, не будет ли оно меня окончательно старить? Ну, говорит Ксюша, ты, солнышко, абсолютная дура, потому что ты еще ой-ой-ой! А я говорю: хорошо, и достаю печальный наряд, а X. ходит вокруг как ни в чем не бывало и болтает, болтает, болтает, как хирург перед операцией, ну, свой человек, и у меня никакого зажима, да я с этим делом знакома, соображаю: нечто грустное должно получиться, лирическое, без этого, добавляет Ксюша, обязательного парада оптимизма, который торжествует в Америке, где над умными людьми смеются и умным людям в лицо говорят такую пословицу: если ты такой умный, то почему ты не богатый?
X. захохотал. Вот, говорит весело Ксюша, какие пословицы бытуют в Америке! а если книжку какую-нибудь купят и прочтут, то немедленно начинают гордиться, как в анекдоте про милиционера, а еще, говорит Ксюша, они очень-очень милые и искренние, даже щедрые, правда, не все, но зато очень искренние: глупые прекрасные люди, – прекрасно! – соглашается X., мягко всматриваясь в меня, чуть ниже! ниже! прекрасно! – потому что глупость свою в отличие от комплексушников совсем не скрывают – еще разок! – просит X., ну, я говорю, у нас тоже не слишком глубоко скрывают, а как по части любви? – тут, признает Ксюша, им искренность помогает, а правда, справляется X., что у них там мужские стриптизы? – Ксюшу разбирает смех, перестаньте вы, сердится X., все настроение смажете, Ксюша спохватывается, но что искренность – это добродетель, – в этом она сомневается, потому что в лучшем случае – приоткрой ротик… вот так… Ксюша, поговори о чем-нибудь печальном, о вреде курения или о раке молочной железы – потому что в лучшем случае это украшение добродетели, и мне кажется, Ксюша совсем офранцузилась: вдается в детали, и ей было приятно сесть обратно в самолет Эр Франс, как будто уже дома, а Рене ездил в Штаты доклады делать и тоже их там всех презирал, а они ему сказали: знаешь что? Если будешь, дубина, нас презирать, в другой раз, когда понадобится, не освободим вашу милую Францию, сидите в жопе, а он обиделся и говорит: они здесь совершенные хамы, собирайся, ма шат, поедем домой, но к русским, пишет она в письме, в целом относятся хорошо, хотя ни черта не ведают, потому что опять-таки очень глупые люди, а так ничего, в любви разбираются, только ухаживают по-глупому: на свидании книжки по научной фантастике пересказывают и фильмы о летающих тарелках предлагают вместе смотреть и сами приходят в дикий восторг от всякого говна, и не знаю: может ли такая нация поумнеть хоть немного в условиях своей глупейшей демократии, потому что, солнышко ты мое, Ирина Владимировна, их демократия имеет многочисленные изъяны, о чем сообщу тебе дополнительно или вообще не напишу, потому что тебе, наверное, на их демократию ровным счетом наплевать. Отвечаю: в этом пункте, милая Ксюша, ты недалеко ушла от истины, потому что в политику не лезу не только потому, что в ней ничего не понимаю, а еще и потому, что смысла в ней не нахожу, одни неприятности, так как и так жизнь моя полна событий, а насчет американцев с тобой не согласна, поскольку глупая нация не может выпустить человека на Луну и такой красивый журнал, как «Америка», издавать, на который я тоже подписана стараниями моего Виктора Харитоныча, который имеет большой выбор совершенно необходимых знакомств от банщика до ювелира, и в этом отношении к себе располагает, а это было еще до его возмутительного поведения, а что касается твоих рассуждений об Америке, то сейчас, когда лучшие женщины этой страны вступились за меня, только они уже этого не помнят, потому что каждый день за кого-нибудь хлопочут, иронизирует Ксюша, неправда! – хмурюсь я, – прекрасно помнят! И не зря миллионы американцев пришли в неподдельный восторг от моих красот и дрочатся, задрав голову, и пусть они не читатели книжек, в отличие от тебя или меня, Ксюша, пусть чтение книжек будет нашим, русским делом, от которого только болит голова да проходят годы, нет, Ксюша, пока на меня дрочится Америка, на мои похоронные принадлежности, я к Америке своего отношения менять не думаю, а ты как француженка живи своими идеалами!
А тут фотограф X. говорит, что ему наша затея нравится и что пошлости он не потерпит, а сделает все как положено, на высоком художественном уровне, достойном, например, Ренуара. Нет уж, спасибо вам, возразила я, такие толстожопые и сисястые, как подтаявшее эскимо, пусть остаются в прошлом, а вы подберите другой ключ, и вообще учтите: моя красота очень русская! И Ксюша Мочульская, моя Ксюша, говорит: у тебя, солнышко, народная красота! А американцы, добавляет, все-таки глупые, потому что однажды в Чикаго я смотрела передачу по местному телевидению, как в зоопарк привезли белого медведя, и они все обсуждали вопрос белого медведя, обсуждали и никак не могли обсудить. Но фотограф X., родом из театрального города Ленинграда, говорит: ну, тогда я знаю, что делать! Только ты не стесняйся, говорит Ксюша, а чего мне стесняться, товар не залежавшийся, а Ксюша говорит: а потом будем пить и веселиться, и фотограф говорит: обязательно.
Засучил рукава, сбросил вельветовый пиджачок, лампы расставил, юпитеры и озарил ярким светом мою зрелую красоту и великолепие, и ахнула Ксюша в ладошку, дивясь потаенной роскоши, и пришел в изумление бесстрастный профессионал, повествуя об одиночестве истинной вдовы, о ее печали и робких попытках успокоения перед трюмо, где трофейные духи стоят вперемежку с баллонами лаков, и отразилась я на фоне гудящего газоаппарата, удивившего своей радикальной конструкцией заморского мастурбатора, и открылась я, и черные тоненькие чулки поднялись в воздух, и оглянулась я в полусумраке, приветствуя радостного читателя, и плачу, и скорблю, вспоминая безвременно минувшего супруга, но вот уже раскраснелась от одинокой муки щека, и участилось неровное дыхание, и прикрылись воспаленные, отуманенные слезами и думами глазки, и бешеным цветом зажглась рыжая лиса моей шубы, и возвестило зияние раны, что я, подстреленная вдова, вспомнила нежность супруга и остаюсь ей верна, а жизнь продолжается, несмотря на печальные принадлежности, переполох нарядов и тошноту зеленых очей, что вдруг становятся серыми, сирыми, серыми, и вновь удивлен американский клиент, не понимающий российских превращений, и так далее, покуда гудящий газоаппарат не примет меня под свою взрывоопасную опеку и струи воды не сверзятся на лесные красоты: там земляника спеет в соседстве с иван-да-марьей, там пахнет елочными иголками, там знойная тишина, излучина реки и косогор, поросший сосной, чьи цепкие корни похожи на пятерню пианиста, о, мой Дато! но гудящий газоаппарат гудит и выделяет тепло, которое мне никогда не заменит нежность супруга, погибшего от трепета романтических будней, охваченного спазмом Валдайской возвышенности, которого не понял, как ни старался понять, странствующий маркиз образца тысяча восемьсот тридцать девятого года, но жизнь продолжается, льется вода, и мыло скользит между пальцев, и пляшет неустойчивая табуретка, и если тоска не проходит и не пройдет, то боль затихает, замирает, из горечи лекарства проглоченный стрептоцид растворяется в сладкое марево, если не запивать, и не нужно запивать, не нужно прятать слез, пусть ровным и лучезарным потоком! а черные тонкие, безо всяких кружев, чулки стоят будто рамки некролога, и сквозь ткань траурного рубища светится закатным светом изгиб, излучина, пыльная дорога, утопая в белых простынях, черное-белое, белое-черное, и только волосы мои дружны с рыжей лисицей, и я, поднимая их кончиками пальцев вверх, вверх, скорблю.
Ища бегущие моменты красоты, X. извивался. Ксюша смотрела на меня с таким разливом любви, что не могла не запечатлеться бесплотным бликом, и даже мелькнула на одной из них в роли ангела-утешителя, слетающего на землю, дабы сообщить, что супруг доставлен в целости и сохранности, и мы обнялись, и она схоронила в моих волосах ангельское лицо, и только груди дышали трогательным изъяном, и братья, тыкая в груди, задали вопрос: не Ксенья ли это Мочульская, сменившая гражданство? Ирина Владимировна! Это, простите, не идет к вашему лицу, хотя формальных претензий нет, а раз не имеете, сказала я, то выпьем, ребята, и близнецы выпили коньячку и в общем и целом понравились мне, ребята хорошие, и очень внимательно были склонные меня выслушать, только на Ксюшу осерчали бесповоротно, а фотограф X. был вполне удовлетворен, и мы стали ждать результатов, как школьницы, а я пела Ксюше новые куплеты про цыган:
- Цыгане любят люто
- Твердую валюту… —
и разъезжали на розовом авто, пугая прохожих, а после подоспели результаты, и они были великолепны, и мы закричали от счастья, так были красивы эти невиданные картинки, и Ксюша потребовала, чтобы X. отдал негативы, и он с сожалением расстался с ними и заломил сумму, хотя и по дружбе, но ссылаясь на долги и неустроенный быт, поскольку недавно разошелся с женой по причинам принципиального свойства, но вдруг к нему вновь возвращается любовь к семье, к маленьким детям, однако было поздно, и он, горюя, отъезжал в свой город и увозил тайну, умоляя не разглашать, и никто не узнает.
Я тоже собрала Ксюшу в дорогу и на вопрос – как ваша красота там оказалась? – отвечала честно: понятия не имею, потому что даже не догадываюсь, но я всегда была против, потому что красивая женщина – это, мальчики, национальное достояние, а не просто дешевка, предназначенная на извоз, только охотников до нее великое множество, включая Виктора Харитоныча, который туда и передал.
И они говорят: нам нужны русские красавицы! – а я им на то, посмеиваясь: еще бы! как не нужны! – и они смотрят на меня с интересом, и я предлагаю: давайте дружить! А они: почему бы и нет? А это кто? – И пальцем в Ксюшу, чье умное личико у меня в волосах, а я говорю: какая, мол, разница? Ну, знакомая… – А они: это Ксенья Мочульская, темная женщина – что??? – если вы Ксюшу Мочульскую считаете темной женщиной, то покажите мне светлую! И еще говорю: уж если искать виновника, по причине которого вышел конфуз, то известен ли вам Виктор Харитоныч? – так Харитоныча спешила подзаложить, но не из мести, а потому, что негоже на мне плясать и измываться, когда я потеряла сознание, и потом даже не объясниться! А потому что сдрейфил и боялся, что Полина, знаете Полину? – его разоблачит как моего любовника, только не всякий тот любовник, с кем спишь, и тогда, мальчики, мне стало вдвойне обидно, потому что нельзя так поступать с людьми, а они поступают.
Ксюша немедленно развила бурную деятельность (увижусь ли я с тобой, единственная моя?), но дружба дружбой, однако Ивановичи все-таки говорят по-хорошему: не лучше ли мне отдышаться и отойти от треволнений на родной стороне, вдали от вредного общества и вдовьей силы Зинаиды Васильевны (которая, признаются мне, не сахар), а я говорю: вот еще! с какой стати! Я любила Владимира Сергеевича и страдать за любовь не собираюсь. Наморщили лбы… Говорите, любовь? – А вы думали! И еще говорю: если будут меня обижать, за себя не ручаюсь – и намекаю, что в надежном месте сохраняются еще фотографии, на этот раз наши с ним, потому что, знаете ли, был он большой выдумщик, как показало патолого-анатомическое исследование, да, мы знаем, сказали братья, только не следует, Ирина Владимировна, размахивать перед нашими носами тем, чего нет и в заводе, ну, я сказала, для кого нет, а для кого и найдутся, ледяным голосом, и больше уже не угощаю коньяком, а они участливо: не нужно так, Ирина Владимировна, а то, в самом деле, поезжайте-ка отдохнуть, городок не хуже других, потому что хоть Владимир Сергеевич и большой человек, но подобные инсинуации нанесут окончательный вред его памяти и наступит ускоренное забвение, а стоит ли вам этому способствовать, пусть ВСЕ МЫ его помним и чтим замечательные шедевры… Я вижу: передо мной неглупые ребята – и налила им еще по рюмке.
Между тем Витасик знакомит меня с новыми друзьями, почти сплошь евреями, что было даже несколько ошеломительно, однако некоторые отнеслись ко мне с горячим уважением за мою смелость, а я никогда не боялась, только Юра Федоров все норовил меня обидеть, несмотря на журнал, а Ксюша тогда очень быстро договорилась, и вот выходит их широко распространенный журнал, услада для многочисленного мужского читателя, и главное место и разворот отводятся мне, со всеми моими снимочками, такая грустная, траурная композиция, и кое-какие данные, включая:
ИМЯ: Тараканова Ирина Владимировна.
БЮСТ – 36, почему-то в дюймах, сведения липовые, Ксюша взяла из головы.
ТАЛИЯ – 24.
БЕДРА – 36.
РОСТ – 172 (см).
ВЕС – 55 (кг) (теперь разжирела).
ЗНАК – Дева.
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: СССР.
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА: богатая творческая личность.
ХОББИ: воспитание дошкольных детей (засранка!!!).
Итак, знакомьтесь: ИРИНА ТАРАКАНОВА, которую друзья зовут нежно Ирочка, скорбит и печалится, а повод непрост: не каждой молодой девушке суждено подержать в руках содрогающееся от старости тело великого (в масштабах их деспотической страны) человека, которого Ирочка любовно звала Леонардик (по имени итальянского художника, архитектора, скульптора, инженера и теоретика эпохи Возрождения (1452–1519), автора мирового шедевра «Джоконда» (Париж, Лувр, второй этаж, вход со двора)), но гений он или не гений и в чем гений – вопрос любви, однако Ирочка имела далеко идущие неприятности (буквальный перевод: неудобства) после его кончины – это факт, признаваемый ее ближайшими друзьями, которые, в частности, сообщили нам, что ей пришлось покинуть прекрасно оплачиваемую работу (стольник в месяц я получала!!!), но не будем затягивать наше представление, вы будете сейчас иметь возможность сами убедиться, что КРАСОТА ПОБЕЖДАЕТ СМЕРТЬ! (Это красиво!)
Насчет стольника было продолжение. Не успел появиться журнальчик, как ко мне пришли, тоже парой, американец с голландцем. Американцу было под сорок, красавец. Седоватый, с культурной стриженой бородкой, глаза с поволокой. Он все кивал, что бы я ни сказала, а иногда заламывал в бессилии руки и сокрушался, ударяя кулаком по колену. Пришел в шерстяных клетчатых брюках: сине-зеленых. Голландец, напротив, по своему внешнему облику напоминал бандита и подкрашивал усы в черный цвет. Взлохмаченный, курчавый, он во все стороны блестел очками и бойко чесал по-русски, потому что родился под Иркутском, и, по крайней мере, трижды надолго удалялся с непонятным заданием в уборную (а у меня там лампочка, как назло, перегорела!). Американец мне понравился, только он плохо понимал, но бандит ему помогал. Они достали длинные узкие блокноты и уставились на меня. А я в кимоно. Они выразили восхищение моим мужеством. Я весело хохотнула: лучше бы вы выразили восхищение моей женственностью! Они растерянно улыбнулись: было видно, что не дошло. Пять минут мы сообща пытались разобраться, что именно я хотела сказать: голландец понял первый и просиял, и объяснил, как мог, коллеге, который сочувственно, наконец, ударил по колену и стиснул челюсти, давая понять, что он тоже понял. Я сказала, что в журнале наврали про зарплату, и чистосердечно, по-предательски поделилась насчет суммы, а они говорят: то есть, значит, не в час, а в неделю? – Да не в неделю! – рассердилась я. – Вы же, говорю, под Иркутском родились! – Что было, то сплыло, – развел руками этот странный сибирский голландец. – А вы давно тут живете? – спросила американца. – О, да! – закивал он. – Два и полгода. – Ну! – думаю, однако на заданные вопросы отвечаю вежливо, а когда разговор зашел о вольности нравов, заметила, что решительно не одобряю всех этих западных штучек, особенно их пресловутую революцию, поскольку, говорю, она только все портит, так как ценность есть ценность, а когда ширпотреб, понимаете? то это против любви оборачивается, любовь, понимаете? это редкость, и это дорого стоит, не в материальном, конечно, измерении, а в смысле чувств, понимаете? (понимают), ну, вот и хорошо, хотите кофе? (не хотят), ну, как хотите, а они спрашивают: так вы – русофилка или, может быть, либералка? – Отвечаю прямо: я – никто, но я за любовь, потому что, – подчеркиваю в своем интервью, – занятие это божественное (вы люди семейные? – о, да!), ну, вот, я так и знала, но что обесценивание, инфляция любви, понимаете? наносит неизгладимый вред всему человечеству, вплоть, может быть, до угрозы войны (удивление), ну, потому что силы не на что расходовать (американец радостно: сублимация! – и кулаком по колену), да! и эту вашу революцию, а также всякие там непристойности нужно вообще отменить, так и напишите (заглядываю в их блокноты), непристойности, доступные каждому негру, а вы сами этот журнал выписываете? – моя жена не очень довольна на этот журнал! – сказал красавчик (Господи, как он мне понравился: смесь Редфорда с Ньюманом!), а голландец сказал, что он, посмеиваясь, если и покупает, то покупает покрепче, как махорку! ну, вот, и вообще: любовь надлежит вернуть в век более ранний, если не сказать девятнадцатый, потому что только там бушевали настоящие страсти и любили красивых женщин, то есть красавицы были в цене, и никто не посмел бы их обидеть. Однажды, на одном из балов, данных в Москве, император был совершенно очарован огненными черными глазами девицы Анны Лопухиной. Она вскоре была пожалована фрейлиной и приглашена жить в Павловске. Для нее было устроено особое помещение, нечто вроде дачи. Император являлся туда каждый вечер с чисто платоническими чувствами восхищения. Но царский брадобрей и Лопухин-отец лучше знали человеческую натуру и уверенно смотрели в будущее.
В один из вечеров, когда император оказался более предприимчивым, чем обыкновенно, Лопухина неожиданно разрыдалась, прося оставить ее, и призналась государю в своей любви к князю Гагарину. Император был поражен, но его рыцарский характер и врожденное благородство тотчас проявили себя. Суворову немедленно посланы были приказания вернуть в Россию князя Гагарина, очень красивого, хотя и невысокого роста человека. Император наградил его орденом, сам привел к его возлюбленной и в течение всего дня был искренне доволен и преисполнен гордости от сознания своего геройского самопожертвования. Щедрости его не было пределов: он велел купить три дома на набережной Невы и соединить их в один дворец, который подарил князю Гагарину. Лопухин-отец был сделан светлейшим князем и назначен генерал-прокурором Сената – должность чрезвычайно важная, напоминающая отчасти должность первого лорда казначейства в Англии. Брадобрей был пожалован в графы и сделан шталмейстером Мальтийского ордена. Он купил себе дом по соседству с дворцом черноокой княгини Гагариной и поселил в нем свою любовницу, французскую актрису Шевалье. Офицеры конной гвардии в ярко-красных мундирах не раз видели, как государь сам привозил его туда и затем заезжал за ним, возвращаясь от своей любовницы. Когда его величество со своим августейшим семейством оставил старый дворец и переехал в Михайловский, княгиня Гагарина, Анна Петровна, покинула дом своего мужа и была помещена в новом дворце, под самым императорским кабинетом, который сообщался посредством особой потайной лестницы с ее комнатами, а также с помещением вышеуказанного брадобрея, который, будучи турчонком, был взят в плен в Кутаиси. Намек на эти печальные обстоятельства мы находим в незаслуженно забытом стихотворении Тютчева, кого? ну, Тютчева, русского поэта! Тютчев! Нет, не так, первая буква Т., как Толя, ну, неважно, Федор Иванович Тютчев. – Федор Иванович? – закивал красавчик. – Как жаль, что в Советском Союзе отменили имена-отчества! – Как отменили? Когда? – ужаснулась я, сраженная новостью. – Я неделю не слушаю радио. У меня батарейки сели! – Голландец что-то заметил красавчику на непонятном мне голландском языке. – Ну, их так редко употребляют, – не сдавался американец. – Я был уверен, что отменили! – Короче, – закончила я, мужчины балдели от шороха и вида приоткрытой ножки (чуть-чуть приподнимаю кимоно) по щиколотку (показываю свою щиколотку: не интересует), как будто им всем было максимум по тринадцать лет! А что теперь? (не интересует). Теперь, говорю, хоть в-чем-мать-родила ходи, как у вас, например, мода на пляжах, где лежат вперемежку мужчины и женщины, и что мы наблюдаем, как рассказывает моя дорогая французская подруга? – Ноль внимания! Как будто вокруг куски несъедобного мяса! И это, спрашивается, красиво? Нет, говорю, я против равенства и (опять шевелится!) бесплатного разложения нравов, я за напряжение и запреты, а в условиях равноправия никакого любовного апогея, господа, так и запишите, не выйдет! Они поставили закорючки в блокнотах и провоцируют далее: не хотите ли в наши края переехать? А Ивановичи, со своей стороны, мне услужливо газеты показывают, а в газетах снимочки усеченные, у итальянцев даже полоски, будто они меня этими полосками приодели, стесняясь, и говорят Ивановичи: вы посмотрите, Ирина Владимировна, как использована ваша красота! Не по назначению! – Ну-ка, говорю, дайте! А они разные вырезки мне подсовывают и переводят:
РУССКАЯ КРАСАВИЦА БРОСАЕТ ВЫЗОВ!
Сомневаюсь: да верно ли вы переводите? – Верно, – и даже обижаются. Я с гневом: – Чушь все это! Какой еще вызов? Никакого я вызова не бросала, а вот то, что оскорбили меня в лучших чувствах любви – это правда, и нет такого положения, при котором воспрещается любить человека, пусть он даже старше тебя, а они говорят, полюбуйтесь: ОНА ПОСМЕЛА! – это ехидные сукины дети, французы, пишут, как всегда, исподтишка, вот шведская стряпня: НА РАНДЕВУ ЛЮБВИ И ПРОИЗВОЛА, а вот фашисты: ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР. – Неужели, ликую, потрясли? А они, ухмыляясь: никого они не потрясли, грубая шпрингеровская брехня, это так, чтобы насолить, только вы тоже, Ирина Владимировна, хороша будете, ну, разве годится, говорят, нашей женщине, что называется, в калашный ряд, чтобы они всякую гадость про вас писали, ну, ладно бы, если с цветами, где-то в поле, как в древней Элладе, куда ни шло, мы против красоты никаких возражений, сами бы поместили на страницах… экспортного календаря, поддакивает Николай Иванович, или даже… нашли бы место! мы тоже, знаете ли, за смелость… вот… вы думаете, мы не понимаем?.. мы сами боремся с инерцией вкуса… если бы только от нас зависело… вы даже не представляете!.. всего боятся!.. а с цветами, ты как думаешь? а? где-нибудь на пригорке или у ручья, в камышах… я думаю: то, что надо!.. вот и я про то… я бы сам в ванной повесил (смеются)… но про стольник – это вы, Ирина Владимировна, сплоховали! Зачем? Не понимаю. Сор из избы. Мелочность какая-то… А жена бы не возражала, если бы в ванной?.. это твоя бы возражала, а моя – современная… но есть все-таки священные вещи… издевательство над трауром… да, это уж ни в какие ворота!.. и кто это вас надоумил, Ирина Владимировна?.. у вас, простите, между ног все видно… Это, Ирина Владимировна, извините за откровенность, неэтично… Вы все-таки женщина… – Неэтично? – взвилась я. – А этично меня за любовь с работы вышибать?! Это, по-вашему, этично, да?! – Качают головами: это не мы… мы – вот (указывают на значки с перышками), мы – пишем… но Зинаиду Васильевну тоже нужно понять… мы подумаем… кстати! если эти опять приставать будут (пряча вырезки в портфель), гоните их подальше, Ирина Владимировна, хорошо (обещаю), без них разберемся (прощаясь), и только я их выпроводила, звонят: на ломаном языке, ну, я, конечно, не могу не оказать гостеприимства: встречаю радостно в кимоно, а дворик у нас неприхотливый, можно сказать, пролетарский… Ой, не могу! Брыкается, сукин сын!
14
Вдруг шесть самых-самых красавиц Америки, вот их имена: Патти У., Ким С. (мисс не то Аризона, не то Аляска), Нэнси Р. (четырнадцатилетняя девчонка с капризным ртом), Наташа В. (русского происхождения, которая впоследствии утонет у берегов Флориды), Карин Ч. (потрясающие волосы) и шоколадная Биверли А. (мне довелось увидеть их групповой портрет, когда они съехались в один нью-йоркский бассейн и расположились у кромки изумрудной воды в решительных и непринужденных позах боевых соратниц Джеймса Бонда, Наташа В. даже с биноклем в руках, облокотившись на белые поручни, а на маечке Карин Ч. видны серебристые инициалы I. Т., а шоколадная Биверли угрожающе скалит креольские зубы, чтобы меня подбодрить), направили ядовито-любезный протест из 222 слов с требованием меня не обижать, а напротив, выражают восторг по поводу моей славянской отваги и шарма и предупреждают, что если Виктор Харитоныч и подобные ему фаллократы будут и впредь, то они поставят на ноги всех своих старых друзей и покровителей (включая трех нефтяных магнатов, тридцать пять сенаторов, семь нобелевских лауреатов, Артура Миллера, портовых рабочих Восточного побережья, канадских авиадиспетчеров, мозговой трест НАСА, а также командование 6-го Средиземноморского флота) и будут настоятельно их просить не дружить с моими недругами, и вместе с тем попутно узнаю, что их красота приносит им в среднем доход в триста долларов в час (в час!) и что они поэтому очень богатые, а Патти У. просто миллионерша. Ритуля звонит мне по телефону и, не в силах сдержаться, неосторожно кричит в трубку, что по радио об этом в последних известиях, а я в платке, с пылесосом в руках, лицо серое, бросаюсь к «Спидоле» с отломанной ручкой, и действительно: передают, я даже вся взмокла, ну, думаю, полный пиздец!
Однако вместо этого наутро меня навещают Сережа и Коля Ивановичи, при полном параде, в бежевых югославских костюмах, безукоризненный запах горьковатой туалетной воды, ботинки сияют, и очень вежливые, и говорят, что они зря времени не теряли и обнаружили наличие производственной ошибки, что, конечно, не очень красиво показывать то, что можно показывать только одному родному и близкому человеку, но что со мной тоже обошлись неправильно, в обход норм, и вина ложится на Виктора Харитоныча, которого занесло от излишнего усердия, и пусть отдувается сам, так как назначен отписать вспыльчивым красоткам письмо, где должен будет со всей откровенностью рассказать, хотя это не их дело, но раз уж интересуются, что я ушла с работы по собственному желанию от травмы, полученной во время смерти, а они, со своей стороны, предпримут меры, напишут статью, если только я буду способствовать, хотя другого выхода у меня нет. А я сижу, как вдова, и тереблю бахрому скатерти, и повторяю, кусая ногти: – Он бы меня защитил, если был бы жив! Он бы меня защитил… Он так меня любил! – Так и запишем, и достают из карманов шариковые ручки, и начинают писать, как Ильф и Петров, хотя я им еще ничего не сказала, а они вдруг сказали: а не хотели бы вы сами, Ирина Владимировна, написать письмецо этим ретивым дурочкам: мол, спасибо вам за заботу, за ласку, только зря, мол, волнуетесь, купаясь в бассейне, потому что со мной все в порядке и сведения у вас непроверенные; а я на это отвечаю Виктору Харитонычу: это где же со мной, Витек, все в порядке? Ошибаешься. А он нахохлился и говорит: ладно, хрен с тобой, ты видишь, что ты со мной сделала, никогда в жизни не писал я писем в Америку и вообще не любитель писать, и дедулю, старого человека, не сберегла от инфаркта, а я ему: дедуля тоже на твоей, Витек, совести, переволновался во время выступления, когда вы стращали меня каким-то мертвым генералом, а он говорит: ладно, не будем об этом, не знаешь подноготную, так и молчи, а ты, говорю, не груби, раз влип, сиди не чирикай, а он взял лист белой бумаги, прицелил перо и, вздыхая, вывел округлым почерком:
УВАЖАЕМЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ БЛЯДИ И ПРОБЛЯДИ!
Как вам стало известно… Как нам стало известно… До нас дошло ваше письмо… ваше письмо… Должен сказать… Оно нас неприятно… неприятно… в то время, как наш коллектив… Должен сказать… Зачем? Зачем все это?.. Зачем вы не в свои дела?.. Вы – пешки в большой игре… Я тоже не молодой человек…
Он безнадежно задумался. Он с отвращением отложил золотое вечное перо, не сам он, признался, придумал меня мучить, а его научили, а я сказала почти что примирительно: давай, Витек, не будем ссориться, пиши лучше свое письмо, а я пошла, а он мне: погоди! Я, набычился, соскучился по тебе, замены не нашел, так с женой и остался…
Ой, врешь! Мне известно, с кем ты время проводил по кабакам, от Маргариты, что ли? а я говорю: тебе какое дело! Не верь ей, а жена у меня, сама знаешь, песок сыпется, не спеши, Ира, приляг на диванчик, ага, говорю, на диванчик, на котором концы отдавала, пока ты с Полиной торжествовал ваш позор, фиг тебе, разбежался! А он мимо ушей: ты, наверное, на мели? или эти стервы тебе миллион прислали? ничего они мне не прислали, даже на дубленку не разорились, но твоих грязных денег не возьму, и не думай, подотрись ими, раз лишние есть.
И завыл он, козлиная морда, от моих слов, обойдешься! ему обидно, а мне тоже горько, он настаивает, а я говорю со смешком: обратно в контору примешь? Хоть сейчас, отвечает, только, говорит, не сразу, потерпи, пусть немного шум спадет, чтобы не вышло, что под давлением, а я говорю: ну, и не надо, я свой стольник и так заработаю, не беспокойся, а он и не беспокоится: ты из-за меня знаменитой стала, а я из-за тебя дурацкое письмо пишу, злобно нахлобучил колпачок на свой паркер, и выгляжу в идиотском свете, сам, говорю, виноват, пойми, не по собственной воле, посоветовали, это, говорит, все происки всесильной Зинаиды Васильевны, что взъелась на тебя из-за панихиды, слезы не поделила, а мне – отдувайся! а помнишь, раньше… но я непреклонна, и говорю: лапуля, забудь об этом, не заводись, пиши лучше письмо, а он говорит: ты бы хоть журнальчик показала, а то я даже не видел. Еще чего! Дура, говорит, я никому не скажу, я посмотрю и отдам. Не веришь? Обойдешься! И пошла домой, а дедуля в больнице лежит: подыхай, старый хрен и изменник! Не жалко. И тут, между делом, появляется статья под названием «Любовь», однажды в среду, и я с удивлением читаю, что мои обязательные Ивановичи в самом деле написали статью под названием «Любовь», из которой, однако, понять ничего невозможно, но все-таки делаются косвенные намеки на то, что любовь, мол, дело святое, индивидуальное, и все, что свершается между двумя по взаимной привязанности, то красиво и только на пользу обоим, и не правы те, что норовят заглянуть в замочную дырку, нарушая покой и неприкосновенность, потому что все мы люди сознательные и готовы отвечать за свои поступки, и возраст, по классическому определению, значения не имеет, как порой думают, но что, мол, любят порой из-за океана сунуть нос не в свой огород, навязать чужое мнение, только любовь у нас имеет давние корни и глубокие традиции, взять хотя бы плач Ярославны в Путивле или «Троицу» Андрея Рублева, сами мы разберемся, так вот как бы пальцы себе не прищемили некоторые подсмотрщицы, несмотря на их броскую или, лучше сказать, хищную красоту и маловразумительные двести двадцать два слова, инспирированные некой гражданкой третьей страны, перемещенным лицом без определенных занятий, используя некоторые ведомственные недочеты, и снова приходят Ивановичи: ну как? По-моему, все правильно! А вам известен ли такой человек по имени Карлос? А что такое? Неужели убили? Ах, говорю, когда это было! Там все не по-русски разговаривали, а я немножечко выпила и не знала, где нахожусь, вот и стала танцевать, а я, знаете, как танцую! – могу показать, ну, как хотите… нет, честное слово! никакого такого Карлоса, нашли о чем вспомнить! Ну, ладно. Желаем вам, Ирина Владимировна, быть поскромнее, будьте здоровы, не зарывайтесь, ухаживайте за стариком, спасибо, мальчики, не беспокойтесь, учту, ну, пока, и уходят, а тут Мерзляков: приходит, звонит, завтра вечером с тобой люди хотят познакомиться, а я по людям изголодалась, все больше одна, наедине и при неразрешенной судьбе, хотя, чувствую, кажется, обойдется, несмотря на совокупность событий или благодаря, ум за разум, и отвечаю, что обязательно буду, только вдруг в дверь звонят в половине восьмого утра.
По характеру: выходка провинциальной родни. Только она, без уведомления, вторгается в жизнь спозаранку, с чемоданом, обмотанным бельевыми веревками. Что такое? Открываю. Я еще не проснулась, никого не жду, а тут звонок. Кто там? Припала к глазку. Шестимесячная химия и отдувается, как паровоз. Ты чего, открываю ей дверь, приехала?
Ни слова не пророня, кидается мне на шею и давай рыдать на всю лестницу! Доченька, всхлипывает, ты еще жива? Ты еще здорова и невредима? А я уж и не чаяла тебя больше увидеть. Мне Головня, Иван Николаевич, все рассказал, он по вечерам, сидя на голубятне, известия слушает и прибегает с безумным лицом: Антонина, беда! Рассказал – я так и села, отца тормошу, слышь, вставай! – бесполезное дело, махнула рукой и в Москву. Чемодан у нее черный, поднять невозможно, не насовсем ли она приехала? А дед где? В больнице. Ах! ах! – Погоди, говорю, разахалась, почему, ответь лучше, чемодан такой тяжелый, кирпичами, что ли, набила?
Ну, входи, раз приехала, не реви на лестнице, она чемодан внесла, так, говорю, сердце надорвать можно, совсем, что ли, чокнулась? а она говорит: отец ничего не понял, а Ваня-то Головня, он такой, вбегает к нам и кричит: Антонина, беда! Только что слышал, мол, про твою дочь, про Ирину передавали Тараканову, она, говорит, в журнале «Америка» на первой странице в-чем-мать-родила, дальше не понял: слышимость нынче плохая – то ли ее в Петропавловскую крепость, то ли куда подальше, только сорок миллионеров, собравшись, за нее задаток внесли, а самый главный, с русской фамилией, Владимир Сергеевич, как передали, застрелился у всех на глазах, и тогда ее обменяли на границе на пять центнеров кукурузы и один компьютер для прогноза погоды, вот так, и втаскивает в спальню неподъемный свой чемодан.
Я к ней внимательней присмотрела, вижу, в лице какой-то дефект, не синяк ли под правым глазом? Мама, спрашиваю, кто это тебя поцеловал? А!.. – отвечает, усаживаясь на низкий пуфик перед трюмо, так что обшивка трещит по швам, – а!.. ерунда! говорит, это я с буфетчицей в поезде подралась, как села, еще вчера, я у нее половину волос вырвала, из-за сдачи, она мне сдачу не додала, понимаешь, я ей даю пятерку, беру вафли «Северное сияние», а она говорит: что вы мне говорите, вы мне дали три рубля, на шум вышел повар, смотрел-смотрел на нас, значит, а потом ему надоело и говорит: я пойду лучше гуляш покушаю, а вы деритесь. Нам тогда тоже стало обидно драться, и мы перестали, но еще долго ругались, чтобы немного успокоиться, а когда под Москву подъезжали, взяли мы с ней в буфете портвейна и уже больше не ссорились, а вместе радовались, что драться перестали, и вообще она женщина неплохая, Валентина Игнатьевна, ну, просто Валя, понимаешь? у нее сын в этом году в институт поступил, в машиностроительный, славный такой парень, на нее похож, я, правда, сама еще не видела, а повар возвращается, поев гуляш, приходит и говорит: ну, что, девочки, перестали собачиться? А мы ему хором: иди ты в жопу, лысый черт! Мы так хохотали, то есть так хохотали, чуть Москву не проехали, а на вокзале простились: Валентина Игнатьевна поехала к своим, на Симферопольский бульвар, у них там двухкомнатная, правда, на первом этаже и комнаты смежные, но зато телефон, но она говорит, что приплатит и поменяется, ну, еще бы, ворует! а потом у нее на восьмом этаже знакомая есть, в райсовете работает, обещала помочь, может, слышала: Бессмертная? А повар-то, повар, лысый черт, он к себе в Тушино поехал – капусту тушить, мы так хохотали, а Валентина Игнатьевна меня в гости звала, не придете, говорит, обижусь, надо будет сходить, а этот – он в Тушино!
Тут моя ненаглядная мама начинает помирать со смеху, а я ее обрываю на полуслове и спрашиваю, уж не решила ли ты насовсем переехать? а она отвечает, что погостить, а сама глаза в сторону, а один, вижу, совсем заплыл. Смотри, говорю, станешь, как отец, одноглазой! Ой, говорит, и не напоминай о нем! Живет, говорит, ирод кривой, ничего ему не делается, проспиртовался насквозь, хотя лучше бы помер, и ему, и мне спокойнее будет, половину букв не выговаривает, и чем дальше, тем хуже, совсем молчуном стал, неделями слова не вымолвит, бывает, спросишь его: есть будешь? – он только мычит, мол, буду, он завсегда рад пожрать, это он любит, а чтобы по-человечески что сказать – не говорит, работать нигде не работает, а ведь профессия какая была: краснодеревщик! Да с такой профессией деньги лопатой греби, живи да радуйся, а он мычит и только есть просит, скорей бы подох, а теперь новую моду завел: кличет меня чужим именем, я сначала внимания не обращала, мало ли что, а потом прислушалась, слышу: он меня Верой величает!
Я ему говорю: ты в своем уме, старый пес? какая я тебе Вера, меня отродясь Тоней звали, слышь, Тоней! Антонина я! Антонина Петровна! Слышишь ты или нет? а может, кто его знает, он глухой стал, в поликлинику, думаю, его как-нибудь свесть, показать, да только стыдно перед врачами, куда его такого показывать, а тут, значит, вечером Головня прибегает, он у нас известия по радио слушает, сосед, ну, ты знаешь, его голуби с ног до головы обосрали, вбегает взволнованный: я про вашу дочь слышал! Я сначала не поняла, побежала, включила врунок, а он мне объясняет: я сам толком не разобрал, нынче слышимость плохая, тучи низкие, но сдается мне, что она в Америку уехала в обмен на сельхозпродукты. Я так и села: как в Америку! Быть этого не может! А он мне говорит: теперь все может. Я заплакала: как-никак единственная все ж таки дочь, и вдруг в Америку, ничего не сказав, а Головня божится: я точно слышал! В Америку уехала и стала миллионершей. Я говорю: ты иди еще послушай, может быть, еще что скажут, а он говорит: пойдем лучше у Полунова спросим, он тоже, когда не пьян, слушает. Пошли мы к Полунову: он как увидел меня, так руками и замахал, как на нечистую силу, а Головня его спрашивает: ты слышал? Нет, отвечает Полунов, а что? Врешь, говорит Головня, ты слышал. А Полунов в ответ: отстаньте вы от меня, а ты, говорит, Тоня, считай, что пропала. Я говорю: что случилось? А он ничего не говорит, отмалчивается. Ну, я ему пообещала бутылку принести, у меня в заначке была, приношу, а он мне, значит, бутылку взял, покачал головой и говорит: твоя дочь, Тоня, враг народу, и меньше чем расстрел не дадут! Стали мы с Головней у него выпытывать, говори, настаиваем, раз бутылку взял и уже ополовинил! Ну, он и рассказал, Полунов… Я так и села. А Головня, он мужик толковый, говорит: вот ведь какие, говорит, дела!.. Ну, я вещи собрала, ничего отцу не сказала, да он с голоду не помрет, я его знаю, кривого, прокормится, ну, я взяла и приехала сюда, как бы, думаю, окончательно не обидели мою доченьку, все ж таки кровь родная, ну, в дороге немножко подралась, только я тебе вот что скажу: это самая Валентина Игнатьевна, она мне сдачу не додала, понимаешь, я взяла вафли «Северное сияние», даю ей пять рублей, а она мне говорит, что я ей трешку дала, а у меня вообще трешки не было в кошельке, понимаешь? как я могла ей дать трешку? а что ее сын в машиностроительный поступил, это потому, что у нее связи, она мне рассказывала. Приезжаю, значит, сюда, на крыльях материнской любви, смотрю: не убили мою доченьку! Жива! У меня аж ноги подкосились от радости! Вижу: мама немного лукавит, однако ладно, говорю, приходи в себя с дороги, потом побеседуем. Тут моя ненаглядная мама начинает с утра до ночи покупать колбасу цельными палками, сыром лакомится и ванну принимает по три раза на день, отмокает, как она выражается. Отмокает так, что стены потеют, и песни из ванной доносятся, а потом моими французскими духами подмышки и прочие места своего стареющего тела натирает. Мне не жалко, но зачем без спросу берет? Ну, продолжает, раз тебя не убили, значит, пора нам с тобой начинать новую жизнь. Я, конечно, говорю своей маме, пахнущей французскими духами: мама, о чем ты говоришь? куда еще уезжать? – Как куда? В Израиль. – Что ты, мама? Какой Израиль? Мы же с тобой, говорю, не евреи! А что, говорит, разве туда одних только евреев пускают? Почему это им такая поблажка? Чем мы хуже их? Всегда они лучше умеют устраиваться, жиды пархатые! А потом подумала и говорит: а давай скажем, что мы евреи! А моя мама на еврея похожа, как я – на Чебурашку, и в ушах сережки за три рубля. Я говорю: сними ты их, не позорься! В Израиле, говорю, над тобой смеяться будут. И потом, говорю, ты себе представляешь такую страну, где, куда ни плюнь, одни евреи? Не может быть такой страны! – ужасается мама. А я говорю: вот что такое за страна, этот сраный Израиль.
А сама думаю: никуда я не поеду. Но со всех сторон, и друзья мои новые, и даже Харитоныч, все спрашивают: почему ты не едешь? Ты там теперь – знаменитость, миллионы людей на тебя дрочатся, разглядывая твои чернявые чулки, и Ивановичи тоже в понятном недоумении. И зачем это вы, Ирина Владимировна, с заграницей связались? На кой черт она вам сдалась? Вы бы лучше, Ирина Владимировна, в «Огонек» снесли, там бы вам с вашей-то красотой целый разворот дали, при полном нашем содействии, однако замечаю, что Владимира Сергеевича никто не вспоминает, по телевизору ни словечка не скажут, как будто наказали неприкаянную душу за мои ошибки, и стал медленно угасать великий человек, не прошло и полгода, а за границей, Ирина Владимировна, вы никому не нужны. А я говорю: будто я здесь кому-то нужна! Телефон молчит, словно за неуплату отключили… Заблуждаетесь, Ирина Владимировна, ваша красота еще пригодится для благородных целей, для этического воспитания в духе эстетики, а там что? – Там одно непотребство! А про себя недоумевают: чего не едет? Но я отвечаю близнецам: милые вы мои мальчики, у меня уже сиськи в разные стороны торчат, как у козы, ну, куда я такая поеду? Нет, говорю, из патриотических соображений никуда я с места не двинусь, и вообще языков не знаю, одни частушки, и англичанин в Ялте очень хохотал, когда я пела, забыв о жене, а та волновалась: у них две дочери, семья на отдыхе, и вдруг такой казус. Нет, говорю, никуда не хочу уезжать, ни в какую сторону горизонта, а давайте-ка лучше дружить и не обижать друг друга. Так я говорила. Дедуля тоже не находил себе места. Что же получается? – бормотал дедуля, гуляя в палисаднике под нашими окнами. Мы помогаем ВСЕМ. Мы помогаем Греции и Канаде, Исландии и Занзибару. А они что взамен? Кубинские сигары! От этих сигар только пожар может выйти! А я на старости лет погорельцем быть не желаю!
Его друзья по домино понимающе урчали в ответ. В полдень, когда солнце ударило из-за трубы и пенсионеры надели панамы, с дедулей случился сердечный приступ. Его положили в палисаднике на стол. Дедуля лежал посреди костяшек. Врачи опасались скорее не за жизнь, а за рассудок престарелого стахановца. Впрочем, ни за что они вообще не опасались! Они ходили, румяные и молодые, сверкая фонендоскопами и шутя с многоопытными медсестрами. Дедуля отчужденно лежал в койке, время от времени шевеля кадыком. Он лежал в койке и даже не ведал того, что меня в скором времени сбила машина.
15
Не плачьте обо мне! Вы еще погуляете на моей свадьбе, обещаю, я всех приглашу, но сначала вернемся в ту ночь, на липкий, в масляных пятнах, асфальт, когда я, окрыленная дружбой, возвращалась от новых друзей. Новые друзья приняли меня на ура. В книжной комнате, где из-за стекол шкафов смотрели, обнявшись цепкими жилистыми объятиями, грустные люди и было не прибрано, Витасик представил: вот наша героиня! Они аплодировали. Они смотрели на меня осунувшимися восторженными глазами и повторяли: вы даже не понимаете, что вы сделали! Это немыслимо! Это вам не какая-нибудь Вера Засулич! Где те кони, которые вас оправдают? Я скромно молчала с понимающим лицом. Вам не страшно? Они думали, что мне страшно. Я улыбнулась: ничего, вот только из Москвы не хотелось бы уезжать, потому что я ее обожаю, расспрашивали о собрании, а один из них, еврейский Илья Муромец, хотя и в летах, с палкой наперевес: нет, сознайтесь, что страшно! Ведь у вас ничего нет, кроме красоты! А я удивляюсь: разве этого мало? Он тоже был среди новых друзей, Юра Федоров. Этот завидовал и бесновался, что про меня разговор, и они стали спорить, правильно ли я поступила, и один говорит: правильно и красиво, и бывший сторож Владимира Сергеевича, телячеглазый Егор говорит: дай я тебя поцелую! – а Юра Федоров говорит, что таким образом недолго и культуру загубить, попирая традиции, и что мой акт отразил пагубное влияние европейского романтизма на незрелую душу, а человек восточного вида, с пластилиновым лицом, брезгливо поморщился и ничего не сказал. Но все равно все восхищались.
И Мерзляков – нарцисс шестидневной любви – был очень гордый, что знает меня. А меня все знали, и я рассказала, что больше всех старалась Полина, мордовская сука, и метила меня в любовницы генерала-изменника, и это неправда, потому что Владимир Сергеевич про меня собирался повесть писать и уже заготовил либретто для оперы, а они все разом загудели и за головы схватились, словно их самих объявили любовниками головореза – вот какие они были, новые друзья! не в пример Шохрату – полное взаимопонимание и замшевые курточки, все прилично. А Борис Давыдович, богатырь, глядя на меня, как на собственную дочь, говорит: знаете, кого она мне напоминает? А женщины вокруг говорят: расскажите, пожалуйста! Там были и женщины. Они много курили, помоложе – сигареты, постарше – «Беломор», они очень много курили, и у них были желтые пальцы, некрасивые зубы и суровые, скупые лица, а когда они улыбались, они улыбались одними губами, а когда смеялись – потом по-мужски кашляли и смахивали крупные слезы, они были радушны и очень печальны, и когда их спрашивали: как дела? – они отвечали: плохо!
Борис Давыдович был когда-то молодой офицер. Помнится, начал он, как в Германии перед самым концом войны ко мне подошла одна немка, спросила: – Господин офицер, не хотите ли пойти со мной? – Я был молодой и бесстрашный, отвечаю: ну, что же, пойдем! Только, говорю по-немецки, вы случайно не больная? Нет, отвечает, как вы можете так подумать? Ну, пошли. Взяла меня под руку, и мы пошли вперед по развалинам и по могилам, как писал Гёте, к ней домой, в ее чистую квартирку с потрескавшимся от военных действий потолком. Вы, говорит, не возражаете, если я потушу свет? ну, имеются в виду свечи в старинных бюргеровских канделябрах. Ну, что ж, не возражаю, только, собственно, зачем тушить? Как поется во французской песенке: «Мари-Элен, не задувай огня…» Он лукаво оглядел слушательниц. Слушательницы улыбались одними губами. Ах! – говорит моя юная Гретхен. – Я честная девушка, я от голода вас пригласила. И потому, – делает книксен, – я вас стесняюсь. Ну, ладно. Может быть, вы сначала покушаете? – спрашиваю я, держа в руках американскую тушенку и хлеб. Потому что, говорю, это тоже не в моих правилах спать с голодной и честной девушкой, а просто очень соскучился и прошу понять меня правильно. Нет, говорит она, я потом, господин офицер, покушаю. Я, говорит, помогая мне снять сапоги, уважаю ваше удовольствие. Только немка может так сказать! Ну, мы с ней раздеваемся в темноте, и она очень ласковая становится. Тут женщины прищурились в ожидании интересного места. Они много курили, но еще больше щурились. А я тоже подумала: что-то немка хитрит, но ничего не сказала, слушаю дальше. А меня, говорит Борис Давыдович, сомнение охватило, уж слишком, чувствую, она ласковая, я взял и зажег свет, смотрю: ба! У нее на этих местах ядовитая сыпь! Ну, все ясно! Вскочил я. А она говорит: господин офицер, я очень кушать хотела!.. Так, говорю, отвечай, сколько наших офицеров у тебя сегодня перебывало? Вы! только вы! клянется она, сложив руки на груди, как невиннейшее создание, а самой не больше двадцати, и груди, скажу я вам, у нее большие и белые. Стою я, значит, полностью ню, с пистолетом в руке и ей р-р-раз по морде! Говори, приказываю, правду! Вы, говорит, десятый. Десятый! Так… Меня прямо как током дернуло.
Ну, говорю, прощай, немка! И убил ее выстрелом в лицо, в совершенно ангельское личико, как сейчас помню. Потом наклонился, посмотрел еще раз на эту ядовитую сыпь, сплюнул и пошел прочь, довольный, что наказал преступницу…
Какая мерзость! – в сердцах вскричал Ахмет Назарович, кривя свое пластилиновое лицо. – Как не стыдно! Сначала полез, а потом убил! Убил женщину! – Законы военного времени, – развел руками в свое оправдание Борис Давыдович, огорчаясь за бывшее преступление. – Но какова она! – просиял он. – Вот, что называется, камикадзе! Она мстила за попранную Германию! – Я где-то читал подобную историю, – угрюмо сказал Юра Федоров, которому тоже не понравилось. – Я не знаю, что вы читали, молодой человек, – сказал Борис Давыдович, – но я рассказал историю из моей жизни. – Все военные истории похожи, – примирительно вставил сторож Егор. – Это в какой Германии было? – заинтересовалась я. – В Западной или в ГДР? В ответ на мой вопрос Юра Федоров подчеркнуто громко расхохотался, а Ахмет Назарович торжествующе произнес: – Нет, вы видите?! Видите?! – Он сидел, демонстративно отвернувшись от меня, а женщины следили за тем, чтобы мужчины были бескомпромиссны и справедливы. – Как вы можете так! – разгневался Борис Давыдович, и ему, как Илье Муромцу, гнев был к лицу. – Она такая же, как та немка! – Неправда! – запротестовала я. – Я чистая! – И подумала про Ритулю. – Чистая? – фыркнул Ахмет Назарович. – Да от нее (не глядя на меня) за версту несет грехом! – Но Егор с Мерзляковым бросились на мою защиту и говорили, что я орудие судьбы и мести, и что недаром скончался Владимир Сергеевич, и что затем, доведенная ими до отчаяния, я бросила вызов, но я возразила (дался им всем вызов!), что я вызова не бросала, но про любовь распинаться не стала, видя их чудовищное отношение к Леонардику…
На этом месте ручка выпала из моих рук, и я ничего больше не писала три недели: во-первых, заканчивала мохеровое одеяльце, а во-вторых, высиживала свое пузо неподалеку от города Сухуми, куда меня уволок и похитил пианист Дато к своим мингрельским родственникам. Гулкий, безалаберный, пахнущий свежим ремонтом дом стоял у самого моря. Сначала шли дожди. Родственники жили в постоянном шуме. Казалось, они вечно ссорятся и оскорбляют друг друга, а это они так разговаривали между собой. У них была даже своя домашняя долгожительница, бабка девяноста шести лет, маленькая кривоногая хлопотунья (бабка с тех пор померла). – Вы в Бога верите? – вежливо поинтересовалась я. – Э! – крякнула бравая бабка, не вынимая изо рта сигарету «Космос». – Как не верить! – Дато играл Шуберта на расстроенном пианино. Я приходила к нему по ночам, забывая о роковой беременности, а он даже не заметил, сказал: ты здесь поправилась! – В этом весь мужчина. Не видит в упор. Я многое передумала, глядя на осеннее море. Мы ходили на местную свадьбу с поросятиной. Тамада зычно выкрикивал тосты. Танцевали. Подрались.
За свадьбу отдали двадцать пять тысяч. У них деньги ходят по кругу. Одному молодому человеку отрезали в драке кончик носа. Умышленно? Об этом на следующий день много спорили. Разгар спичечного кризиса. Цена за коробок доходит до рубля. Потом – литовцы.
Они проезжали через нашу деревню – на москвиче – лет под тридцать, вполне заурядная внешность – и попросили попить. Тетя Венера (здесь имена не менее пышные, чем растительность) вынесла им воды и угостила сладким лиловым виноградом из сада. Мы пошли с ними на пляж, с этими литовцами. Они ехали в Батуми. На обратном пути заезжайте, – сказал Дато. Они записали адрес и укатили. Наутро пришел милиционер. В записной книжке литовца он нашел адрес дома.
Мы сначала думали, что они спекулянты, но оказалось, что их убили. Они остановились на ночлег возле живописной речки. Литовца зарезали и бросили в воду. Жену подожгли вместе с машиной, облив ее бензином. – Почему? – спросила я. – Садисты, – объяснил милиционер. Мингрельские милиционеры больше похожи на жуликов, чем на милиционеров. Вы их поймаете? – спросила я. – Обязательно! – сказал милиционер. Он допил стакан шампанского, вытер пот со лба и пошел себе прочь ленивой походкой толстого субтропического человека. А Дато поднялся наверх, в прохладные комнаты, и заиграл музыку Шуберта на расстроенном пианино. Литовку звали, кажется, Кристина. Она села мужу на плечи, и они так медленно входили в море, а мы сидели с Дато на большом оранжевом полотенце и резались в дурака.
Я уезжала из этого дома, окруженного хурмой и гранатовыми деревцами. Поспевали мандарины. Они были внешне еще зеленые, но в серединке бледно-желтые и вполне съедобные. Какое это имеет значение? По ночам, когда родственники засыпали тяжелым, нерадостным сном – они шумно вздыхали, охали, скрипели матрасами и заунывно пердели, – я крадучись приходила к Дато, но оставалась сухая и равнодушная. Впервые я чувствовала отвращение к прославленному корню жизни. Дато недоумевал. Я сама вяло недоумевала. Твой мясистый отросток мне вовсе не интересен! Он хотел меня ударить, но там спали родственники, в темноте мерцали хрустальные вазы, и он только сказал шепотом: уходи! Я ушла! На мингрельской свадьбе матери невесты было тридцать пять лет. Я рожу не сына, а сразу внука. У тебя, спрашивает Ритуля, может быть, денег нет? А у меня и в самом деле нет денег. Мне нужны джинсы для беременных, но мне лень доставать. Повсюду сволочи. Писать не хочется. Ничегошеньки не хочется. Умирать тоже неохота. А Ксюша далеко.
Назад! Назад! К тем счастливым временам, когда елось, и пилось, и хотелось, и моглось, назад, в сладкую пошлость жизни, когда все интересно: как кто на тебя посмотрит, как рыбьим хвостом забьется лещ в его штанах, как выйдешь и начнешь танцевать, как Карлос бросится срывать с тебя шубу, боевой, прогрессивный посол, как Владимир Сергеевич, зажмурившись после обеда, поделится с тобой очередной государственной сплетней, возведенной в ранг тайны, и пригласит, от нечего делать, в оперу, как хотелось мне съездить в Париж, Амстердам, Лондон, не пустили, как хотелось потрогать удивительные украинские груди активистки Нины Чиж! Как хотелось всего!
Назад! Назад! В те стародавние, почти былинные времена, когда через заграждения, заслоны, заставы я, как Гитлер, прорывалась в Москву, охмуряла Виктора Харитоныча, околпачивала простофильного дедулю…
Опять Ритуля пристает ко мне со своим вшивым Гамлетом! Ритуля проживает с ним второй месяц и заметно обогатилась. Она говорит: давай? Теперь она – заводила. Мне надоели ее приставания, и я отвечала: ладно. Мне все равно, а раньше было не так. Я теперь даже не очень боюсь Леонардика. Он войдет, а я ему скажу: подлец! Вот твоя работа! И, кем бы он ни был, ему станет стыдно. А я все равно рожу. Нет, не потому я рожу, что из мести или от злобы, не затем, чтобы посмотреть, кем он вырастет, и не для интересов науки или религии, а потому я его рожу, что другого выхода у меня нет и не будет!
Прекрасна русская осень! Пушкин прав. Если бы я, как он, умела писать стихи, я бы только об осени и писала, о том, как падают желтые листья, небо завалено тучами, а когда разгуляется, оно прозрачно, как мыльный пузырь. А солнце? На солнце не больно смотреть, разве это не замечательно? Но потом придет зима, и она все убьет. Я сама похожа на осень, а остальные – на зиму. Во всяком случае, на меня наехала машина, когда после долгих споров я выходила от новых друзей, наехала и переехала, когда я, около двух часов ночи, выходила – тут меня этот Степан и настиг, врезавшись мне в самое бедро.
Меня многие считали умной, удивляясь моему уму, и правильно делали, потому что, врать не стану, дурой никогда не была, и вот, побывав у новых друзей несколько вечеров кряду, я что-то стала соображать. Дато, когда узнал, где я бываю, сказал: ты представляешь себе, куда ты ходишь? А я и не знала, что ты трус. А он сказал: я просто работать нормально хочу, это не трусость. А Ксюша мне, со своей стороны, говорила: нынче, солнышко, у вас – она офранцузилась, конечно, со временем – открывается новый счет. Этот счет только-только открылся, и он в твоей жизни ничего хорошего, кроме плохого, не даст, потому что у вас, говорит Ксюша, нет, это Мерзляков говорит, иезуит, не страна, а зал ожидания, и основной, зубоскалит, вопрос – быть или убыть, однако сам до сих пор не убывает, но это все неинтересно, я другое хочу сказать: Ксюша утверждала, что раз двойной счет открылся, то теперь уже неясно, что будет, в конце концов, выгоднее, и если даже не выгорит, так ведь и в первом счете может не выгореть, и вся жизнь сложится подло и незаманчиво. Для меня ее слова были поначалу пустым звуком, и я ничего в них не поняла, потому что Ксюша умела порой говорить неясными загадками, и я только подумала: сама-то иначе устроилась, за стоматологом, но я тоже кое-чему научилась и, когда входила, на вопрос, как дела? – лепила: плохо! И щуриться научилась, и крайней бедности в них не отметила: у некоторых даже средства транспорта. В общем, стали они меня убеждать в том, что Степан недаром меня переехал, хотя я по возможности им возражала: не может этого быть! А они посмеиваются: знаешь ли ты, что за их лимузинами всегда мчатся вдогонку кареты «скорой помощи», дабы на всякий случай подбирать зазевавшихся пешеходов, которых они, как кегли, сбивают! – Что вы говорите! Ужас какой! – а они посмеиваются и говорят: если бы они тебя собрались это самое, то взяли бы грузовик или бульдозер, а раз выбрали запорожец, то с тонким расчетом предупредить и покалечить, ибо что в тебе самое главное? – Ну, красота! – Вот. Стало быть, тебя от красоты и следует избавить как от лишнего груза, а потом поезжай себе в свой старинный городок и пропадай там как уродка!
Я задумалась, милая моя Ксюша (потому что пишу для тебя), я задумалась и насторожилась, почувствовав железную логику, а они стояли вокруг моего ложа полукругом, решив проведать меня на дому и выразить возмущение.
Я упала. Степан выскочил из запорожца и подбежал ко мне с мыслью, что убил. Он наклонился к моему телу и пощупал. Он был сильно пьяным, и я сказала досадливо, превозмогая боль: да вы пьяны! Он обрадовался, что я заговорила, и сразу стал предлагать деньги, он просто дрожал от волнения и беспокойства. Безо всяких свидетелей он перенес меня в свой запорожец (никогда до тех пор не ездила в запорожце), потому что все спали, а не ходили по темным закоулкам, где ездят пьяные Степаны. Я села в тесную тачку, плохо соображая, а он взмолился: не погуби! Он был темен лицом и совсем не моего круга. Я велела везти меня в Склифосовского. Он взмолился: не погуби! – С какой стати мне тебя жалеть? – спросила я. – Тебя, пьяную морду? – Его лицо стало совсем бессмысленным. Он залепетал, что у него дети. Бедро оглушительно болело, юбка порвана, и голова тоже подозрительно кружилась. У меня сотрясение мозга, сказала я, с этим не шутят. В Склифосовского! – Ты пойми, я со дня рождения, – объяснял Степан. – Я хотел ее там оставить, а потом вышел во двор, смотрю: стоит. Я сел и поехал… Вообще ты сама виновата! – вдруг осмелел Степан. – Молчи, нахал! – прикрикнула я, держась попеременно за ушибленные места. – Бес попутал! – раскаивался Степан.
Помолчи. – Хрен с тобой! – сказала я (баба жалостливая, это меня и сгубило). Отвези меня домой! – Он обрадовался и повез. По дороге бедро разболелось еще сильнее, мне сделалось страшно: вдруг кость раздробил?
Он подвез меня к парадному и говорит: давай я тебя на руках занесу? Я живу на втором этаже. Только не урони! Он понес. Это было странно, будто он меня, как невесту, в дом вносит, только мне не до смеха, потому что он меня чуть не уронил на лестнице: оступился, но ничего: донес. Он меня прямо на кровать положил. Я выставила его из комнаты, разделась, доковыляла до трюмо, держась за мебель: синячище с Черное море! Халат накинула – он в дверь заглядывает. Он качается в дверях, ухмыляется: живот на живот – все заживет! – Гегемонские шуточки! – Пошла в ванную, обработала синяк перекисью водорода, возвращаюсь: он в дедулиной комнате спит на диване, спит и посвистывает. Меня зло взяло: вставай! уходи! Но Степана разве разбудишь? Спит и посвистывает. Я его и за уши дергала, и водой в рожу брызгала, и по щекам хлестала – ноль внимания! – С дивана сполз, на полу разлегся, руки разбросал. Присмотрелась к нему: кто ты? Морда отъевшаяся. Повар? Прораб? Продавец? Спортсмен? Воруешь иль честно живешь? Доволен ли ты своей жизнью? – Галстук набок, повеселился. Не дает ответа. Наверное, доволен. Хозяйчик жизни. Воняет дорогим портвейном. Я тоже залезла в шкафчик, налила коньяку, не вызывать же милицию! Выпила полстакана: хорошо пошло! Еще полстакана выпила: вроде меньше беспокоит. Черт с тобой! Свет потушила. Утром просыпаюсь, слышу: в соседней комнате шевеление. Вхожу: сидит на полу, язык высунул, губы облизывает. Волосы – осиное гнездо. Уставился на меня. – Где это я? – спрашивает хрипло. – В гостях, – отвечаю злобно. – А где Марфа Георгиевна? – Какая еще Марфа Георгиевна? – Как какая? Именинница. – Интересное дело! Меня задавил, а сам про какую-то именинницу вспоминает! – Как, удивляется, задавил? Это же, говорит, квартира Марфы Георгиевны. Мы здесь вчера выпивали за ее здоровье. А вас, простите, первый раз вижу. – Сейчас, говорю, я тебе напомню. Поднимаю халат и показываю синячище величиной с Черное море, только, смотрю, он не на синячище уставился. Я говорю: нахал, ты куда смотришь? Ты сюда смотри! А он ничего не отвечает, губы непослушным языком лижет и таращится. Я с возмущением занавесила свою наготу и говорю: ну что, вспомнил? Вспомнил, как ты меня чуть было не убил на своей идиотской тачке? – Нет, – упрямится. – Я никуда не ездил. Марфа Георгиевна меня у себя оставила. – У тебя же дети! – напомнила я. – Дети поймут правильно. – Его взгляд нашарил стенные часы. Ой! – вскрикнул. – Мне на работу пора!
Мы пошли с ним на кухню позавтракать. Степан вел себя спокойно, но от творога наотрез отказался. Я такое не ем. У вас супчика горячего не найдется? Я ему борщ подогрела.
Он принялся есть: чавкает, мясо пальцами достает. Даже лоб вспотел от супчика. Перевел дух, утерся салфеткой: уф! Другое дело…
Я снова к нему, ну что, вспомнил, Степан?
Он на это мне отвечает: вспомнить – не вспомнил, но, на всякий случай, простите, что потревожил… А вы, значит, Марфу Георгиевну не знаете? Очень зря. Хорошая женщина.
Не верите – могу познакомить.
Я не выразила особого желания, и он, несколько обидевшись на это, ушел. Я видела из окна, как Степан в задумчивости обошел свой автомобиль, стоящий посреди двора, поскреб в затылке и, тарахтя на всю округу, укатил.
После обеда я принимала новых друзей. Предводительствовал, стуча палкой, Борис Давыдович. За ним – женщины, с цветами и кексом. Из уважения они даже не закурили. Я встретила их в постели. Собравшись у моих ног, они соболезновали. Слабым голосом я им стала рассказывать про забывчивого Степана, но чем дальше рассказывала, тем недоверчивее становились их симпатичные лица. – Знаем мы этих беспамятных Степанов! – наконец не выдержал Борис Давыдович, сидя на пуфике подле трюмо. – Ой, как хорошо знаем! – и все вздохнули: ой, знаем! – женщины прищурились, словно прицелились. – Да, взялись за вас крепко! – признался Ахмет Назарович, страдая своим пластилиновым лицом. В доказательство я показала им синячище, но я им хитро его показала, тогда Степану я показала без умысла, от негодования, чтобы вспомнил! а здесь показала с хитринкой, невинно откинула одеяло и приподняла рубашечку, но так приподняла, чтобы не только синяк проступил, но и окрестности, отец Онуфрий, обозревая окрестности, обнаружил обнаженную Ольгу, вот так и я, но вместе с тем в полнейшей невинности, словно доктору. И поставила их тем самым – и дамочек некурящих, и мужиков: Бориса Давыдовича, Ахмета Назаровича и неизменного Егора – в щекотливое положение: и смотреть нельзя, и отвернуться вроде бы неудобно, раз показан предмет разговора, а рубашечка так и взвилась! – дивный пейзаж Бермудского треугольника, – а как прикрылась я с невиннейшим ликом, так тут же и кончила, от собственной шалости, тихонько кончила, даже виду не подав, а любила я иногда так позабавиться, и недаром меня Ксюша в запоздалых попытках девичьего эксгибиционизма, ласковым грозя пальчиком, подозревала, да как не заразиться, когда всякий смотрел на меня, от купальника вплоть до шубы оглядывая, ровно как актрису, да только время проходит, и мы не долговечнее хоккеистов, и я отрицала бесстыдство стареющих баб, что смотрят хищно и наверстывают, уж лучше повеситься. Одна ты, милая Ксюша, рождаешь во мне еще сладкую боль!
Но отошли постепенно от нежданно-негаданного (по школе помню: пиши с двумя НН) смущения мои новые друзья и говорят: вздор! Никакой он не Степан! Как он выглядит? – Степаном и выглядит, возражаю несмело, и вином вонял, и Марфу Георгиевну поминал теплыми словами. А номер запорожца не записали, Ирина Владимировна? – В голову не пришло! – Наивная девочка… – Да они номера как перчатки меняют! – воскликнул Ахмет Назарович, и все согласились: как перчатки, и я тоже задумалась: а вдруг как перчатки?