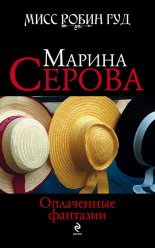Русская красавица Ерофеев Виктор
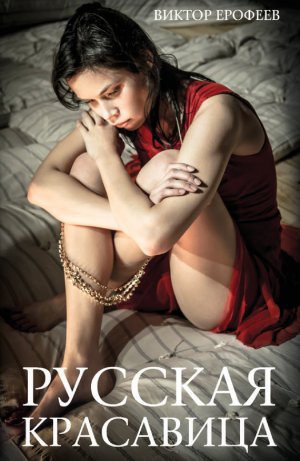
Что же мне тогда дано, Господи?
А то, чтобы ты ходила среди людей и высвечивала из-под низа всю их мерзость и некрасоту!
Господи! Доколе мне на людей раком смотреть и свидетельствовать о их неблагообразии?! Да, я знаю немножко людей с этой стороны, и скажу Тебе, что они некрасивы, уродливы и вообще меня разочаровали. Но неужто участь моя – подмечать одну только мерзость? Ведь Ты, Господи, по-иному на них смотришь, ведь Ты продолжаешь и множишь их жизнь, а не сжигаешь все горячим железом! Или я не Тебе принадлежу? Нет, Тебе! Тебе. Не отдавай меня никому! Пожалуйста… Дай мне другие глаза! Подними меня с четверенек!
Нет, Ира.
Господи! Разве можно отнимать у человека надежду?
Но как исполнишь свое назначение, ты пойдешь ко Мне, и Я отмою тебя. Близится срок, потому что смеркается твоя красота…
Но я даже матерью еще не была, Господи! Дай мне хоть это!..
Витасик тряс меня за плечо. Прекрати! Ты что – орать в храме! Уборщицы, заправив за пояс подолы, с угрожающими рожами приближались. Витасик поднялся с колен навстречу им. Какой-то попик высунулся из боковой двери, посмотрел на меня и исчез. Как выяснилось позже: отец Вениамин. Витасик поспешно и тихо доказывал что-то уборщицам. Те непреклонно мотали головами. Витасик поволок меня к дверям. Те ругались нам вслед. Витасик, сказала я, очутившись на дворе, Витасик… Я заплакала. Он усадил меня в машину. – Зачем ты меня сюда привез? Вы все в заговоре! Видеть тебя не хочу! – Я пихалась. Я выпихивала его из машины. – Уймись! – Он больно схватил меня за руку.
Я рыдала. Разве можно отнимать у человека надежду? Не верю я в этого паскудного боженьку! В конце концов, мы живем в атеистическом государстве!
Чему нас учили с детства? Опиум для народа! Как верно! Как верно! Понастроили церквей! Идиоты! Не смогли их все вырвать с корнем! Просто у меня расстроились нервы. У меня плохо с нервами. Мне нужно отдохнуть. Мне нужно успокоиться. Бархатный сезон на кавказской ривьере. Я утерла слезы. Дурман рассеивался. – Витасик, милый, – сказала я. – Извини. Извини за все! Больше ноги моей здесь не будет!.. Витасик, у тебя есть немного времени? Витасик, милый, поедем в ресторан, хорошо? У меня есть деньги… – Деньги? У меня тоже есть деньги! – разворчался Витасик, радуясь завершению женской истерики. Я улыбнулась ему ненакрашенными заплаканными глазами. – Ой, как жрать хочется! – зажмурилась я.
И пустились мы в обратную дорогу, как в пляс, обгоняя движение и наверстывая упущенное, радуясь осязаемому веществу жизни, что прет, как тесто, прет из кастрюльки, через край! – пусть прет! – ах, как хочется жрать! – туда, туда, через мост, за реку, на косогор, где в загородном кабаке знакомые повара стучат ножами, их жирные лица плавятся над плитой, где шипят и стреляют цыплята табака, фыркают бифштексы, румянится осетрина на вертеле, а жаркое томится в горшочках!
Туда, где на расписных подносах, на поднятых руках, мои друзья-официанты разносят потную водку и тепловатое красное вино, туда, где под столами переплетаются ноги и баклажаны нафаршированы прозрачными намеками!
Подъехали. И, минуя робкую очередь, расположившуюся на крыльце в унылых позах предобеденного ожидания, прямо к двери: стучим! Отворяй! И на властный стук выскакивает на крыльцо свой человек, очаровательный душка, Федор Михайлович, в швейцарском мундире, с улыбкой, с лампасом, он на всех шикает, а нас рукой зазывает и немедленно пропускает, и запирает за нами тяжелый засов. Сейчас будем разговляться! Сейчас поддадим! А внутри нас привечает разлюбезнейший Леонид Павлович, умеющий, заглянув ненароком в глаза, с ходу установить цену посетителю, определить его моральный облик, финансовые возможности, служебное и семейное положение, а также: судился ли он, когда, сколько раз и по какой шел статье, выездной или из тех, кто прикидывается выездным, а если иностранец, то из какой страны и по какой надобности в наших краях; Леонид Павлович, мой друг, рекомендую, и проводит нас в отдельный кабинет с плотными занавесями, и там уже накрыт стол – специально для нас, – и сервирована закусь, как то: соленые рыжики, сациви, гурийская и квашеная капустка с брусникой, лобио, всякая зелень, горячий лаваш, лососинка с ломтиками лимона и кучерявой петрушкой, холодец с хреном, салат из крабов под майонезом, тамбовский окорок со слезцой, балычок, икорка и так далее – короче, гастрономический набор, предназначенный для победы над тоской, психастенией, черной магией, тоталитаризмом, депрессией, критическим реализмом, безвременьем и прочим идеализмом. – Так… – потирая ручки, под перезвон браслетов. – Так… Начнем с водочки. Под водочку рыжик, царский гриб, так, намажем на горячий лаваш желтое масло, на масло густо-густо намажем икру, и выпьем еще раз, и забудем о глупостях, в конечном счете, право подрастающее поколение, которое – возьми рыбки – в лице моей Ритули утверждает, что бороться и мучиться глупо, надо жить, потому что, когда борешься, во-первых, напрягаешься и тратишь силы, во-вторых, тратишь время, в-третьих – налей! – ты можешь сам получить по зубам – за что боролись, на то и напоролись, мой случай! – в-четвертых, учти, ты должен считаться с теми, против кого – сжимаю кулачки и показываю, – а это скучно и недостойно нас, в-пятых, что в-пятых? – в-пятых, чокнемся и будем жить так, как будто все прекрасно, потому что тогда все сразу станет прекрасно, и не суетиться – о! – вспоминать их пореже, и они исчезнут сами собой, выведутся со временем – вот именно! – заниматься своим делом – или, прости, ни хрена не делать – это тоже дело! – и совершенно ни с чем не бороться, не связываться, – да-да, не бегать, а избегать, – тратить деньги, если есть деньги, а нет – так нет – а я суетилась, и бабушка осуждающе взирала со стены на мою суету – а мы принадлежим еще к тому поколению, которое суетилось, спорило, распевало двусмысленные песенки… вот чего не надо, вот! – не надо двусмысленности – вот в чем наша беда и неволя! – в двусмысленности – она нас погубила, – так рассуждал, попивая водочку, Мерзляков, и я соглашалась, и я рассуждала так, и он соглашался, и мы выпивали и соглашались, и нам было уже совсем хорошо, потому что нас угостили свежими вкусными щами, а потом мы съели по две палки шашлыка со жгучим соусом, а потом заказали еще бутылочку водки, и, разумеется, быстренько ее усидели, и мы дивились тому, сидя друг против друга, сколько глупостей мы успели совершить, дразня гусей, и мы знали, что вошли во вкус, и нам очень трудно перестать их дразнить, пройти мимо, потому что у нас такая закваска, и к тому же гусь – гнуснейшая птица, и больно щиплется, и хотя Витасик тоже в своей жизни немножко махал кулаками, но ему было далеко до меня, он только издали мною восхищался, когда я бросала в британский оркестр апельсины и когда красовалась в роскошном журнальчике – не было в нем настоящей отваги, – но все-таки он был мне приятен, поскольку мне надоела шваль, а он не шваль, от коньяка мы отказались, и взяли снова водки, потом еще ели шоколадный пломбир с бисквитным печеньем, будто у меня не было и в помине ангины, а мне так захотелось, и я ела мороженое, и мы сошлись во мнении, что не нужно дразнить гусей, а самый большой гусь – он там! – сказала я, имея в виду паскудного боженьку, который читал мне нотации, несмотря на то, что его давно и категорически отменили, и правильно сделали! и Леонид Павлович, несмотря на занятость и других посетителей, несколько раз к нам наведывался, отпускал комплименты и пристойные шуточки, и, когда Витасик вышел на минуточку, Леонид Павлович заметил, что мой кавалер из хорошей русской семьи, а я поделилась с ним, что между нами был момент высочайшей любви, потому что мне нравятся мальчики с гладкой чистой кожей лица от вкусного рыночного питания, потому что у него отутюжены брюки, и няньки водили его на прогулки в Парк культуры и отдыха, потому что он знает несколько иностранных языков и с младенчества даром имел то, что другие вырывают друг у друга из глотки, а я люблю тех, кому дается все даром, без пота, и Леонид Павлович одобрял меня, а я Витасику тоже понравилась, и мы в тот же вечер полюбили друг друга, а вот теперь снова встретились – и тут Витасик вошел, и мы опять принялись с ним говорить, и, конечно, мы так досидели до самого закрытия, и разорились, отдав все деньги, и Леонид Павлович посоветовал нам прибегнуть к помощи такси и даже дал взаймы на дорогу, и мы поехали на такси, и к полуночи были у меня дома, и, когда мы поднялись ко мне выпить чаю, Витасик случайно заметил, что уже полночь, а он обещался к обеду в семью, а я стала просить у меня остаться, но не потому, что хотела его соблазнить или еще что, а потому, что, когда мы приехали домой и я увидела квартиру: битое стекло и свет в коридоре – все равно, хоть я и выпила и разуверилась категорически, – стало мне не по себе, и я сказала, чтобы он позвонил домой и сказал, что он у меня, потому что ты сам мне говорил, зачем двусмысленность? а он стал возражать, что нельзя причинять боль близкому человеку, то есть жене, а я сказала, что жена должна войти в мое положение, потому что вдруг он снова придет, невзирая на то, что я подвыпившая, и, например, меня убьет, потому что он хочет мне отомстить – как за что? – а просто так! – отомстит ни за что – и убьет – и я умру во сне, даже не проснувшись, а если ты будешь рядом, то он никогда не придет, а если придет, у вас состоится мужской разговор на кухне про новое откровение, о котором ты хочешь его спросить, а Витасик сказал, что он, конечно, не против мужского разговора про откровение, но ему пора домой, потому что жена, синхронная переводчица, ждет его уже часов десять, если не больше, и беспокоится исключительно потому, дело в том, что она мне доверяет, что могло что-то случиться с машиной, а машину свою он оставил у реки, когда мы уехали по просьбе Леонида Павловича, который мне вдобавок подарил букет белых гвоздик, на, отдай своей жене, вынув из вазочки, а Витасик ему сказал, что деньги он завтра привезет, потому что все равно за машиной возвращаться, и оставит у Федора Михайловича, поскольку Леонид Павлович по понедельникам на работу и вовсе не выходит, а я ему сказала: ты ложись рядом, раздевайся и ложись, вот наша кровать, вот немного битое зеркало – ну и черт с ним! – а вот пуфик – помнишь? – на нем мы сидели, лицом к лицу, а я – ты помнишь! – еще надевала лису, и ты говорил хохоча: какой омерзительный китч! – это тебя почему-то особенно волновало – и ты не мог от меня оторваться – потому что – разводил руками – не могу! – так что – ну, хорошо, позвони ты своей жене! – куда звонить? – второй час! – как второй? еще одиннадцать! – у тебя все одиннадцать! – а я свои часики на поле посеяла. – Витасик, скажи: ты почему не хотел, чтобы я бегала? – потому что я хотел, чтобы ты была живая и невредимая, – а знаешь, когда я бежала, я думала: сейчас как нахлынет! испепелит! – а вместо этого Леонардик пришел, не постучавшись, – а в церкви? – что в церкви? – почему кричала? – потому что, дурачок, ты пойми, нельзя у человека отнимать надежду! но на всякий случай, я хитрая, я покрещусь, понял? – оставайся со мной – давай ложись, снимай свои портки! – ну, хоть до первых петухов – не могу! – ну, я тебя прошу – ну, хочешь, я перед тобой на колени встану? – он вскочил: ты что! – я – княжна Тараканова – я ловлю и целую мужские руки первый раз в жизни! – ну, оставайся – мне надо домой!!! – ты боишься, что он придет? – он не придет – ты спи, я пошел, до свидания, – не уходи! ну, я же хочу тебя, не видишь, ну, вылечи ты меня, я запах залью духами, народ знаешь, что говорит: живот на живот… – ну, что ты болтаешь! – Ага… я знаю. Ты боишься заразиться! – брось! – да! да! сволочь ты! – Ира! – Я первый раз прошу мужика… – Ира! Ириша милая!.. – Я из-за тебя бросила Карлоса! Ты мне жизнь испортил! Подонок! Уходи! Видеть тебя не желаю! Уходи! И больше не приходи! Я покрещусь и не буду бояться, а ты – гад! бабник! – у тебя сколько любовниц? я все твоей образованной жене скажу, доверяет!.. – Ириша! – Импотент несчастный! – Ну вот… – Что вот? Испортил мне жизнь! Я тебя ненавижу! Нет, ты подожди уходить, говно. Чистоплюй! Маменькин сосуночек! Чистеньким хочешь остаться? Не получится! Трус! А я никого не боюсь!.. Но почему это все живут, а я гибну? Витасик, ответь, нет, ты мне ответь: ты меня любишь?
Под утро он все-таки сбежал. Кажется, я влепила ему пощечину под утро. Или еще что-то было? Не соображу.
Сбежал с первыми петухами. А у меня соседка на первом этаже кур и двух петухов развела. К ней участковый приходил, запрещал держать, а она держит, мы даже коллективное письмо протеста в Моссовет послали, все жильцы подписались, я тоже поставила подпись, а она все равно держит, и они у нее поют.
22
Ну, все. Я пала! Я пала! Нет, не потому я пала, что, сдавшись на уговоры и страдая от вынужденного безденежья, согласилась, и не потому, что громовержец Гавлеев еще не проронил веского слова, не принял меня в свою команду – а на что мне его команда? – и не потому, что Ритуля настаивала и умоляла, и я сказала: ладно! – и с пузом, сказала: будь по-твоему, и Гамлет возликовал, собрались у Ритули, и вознаграждение на сотню больше, чем обещал, я была довольна и Гамлет тоже: он крутился вокруг моего живота и говорил: как я рад! как я рад! ты будешь хорошей матерью – со своим армянским акцентом, я мимоходом покосилась на его член, это был член неинтересного, малограмотного человека, собиравшегося жениться на дурехе, моей Ритуле, и он напрягся, когда согласно сценарию должны мы были выступить дуэтом, я поняла, что дальше проступит слепая ревность, румынская мебель, дом в Ереване – ну и съезжай! – а пока армяшка поглаживал мой живот и восхищался выпуклостью беременных линий, и спрашивал: а мы его не потревожим? такой, знаете ли, деликатный, да нет! смелей! – а рядом милая Ритуля, о которой он даже позабыл в жадной страсти к свежатине, восторгается нами лживо, им обоим дорого обойдется, а мне что? – я свое дело знаю, хоть и короткий член у этого Гамлета, и я подумала: а у шекспировского – какой? почему драматурги не указывают этой существенной детали? почему вообще это мимо них, будто все не вокруг этого, или мне так кажется, только скорее, казалось, потому что теперь, обладая другими неотложными заботами, мне так не кажется, и я подумала, когда он деликатничал, мол, не потревожим ли мы покой: вот и вытяни его, как штопором, а? – подумала и сказала: как жаль, милый Гамлет, ереванский вы человек, что у вас хуй не штопор! – а они, восточные люди, волосатые, мохнатые, это я, впрочем, люблю, с Дато спать, как с медвежонком, но имеются недостатки: обидчивы. Как нальется глаз, да только мне не страшно, не обижайся, Гамлет, а Ритуля: ха-ха-ха! – ей это еще отольется, с брильянтами в ушах, дуреха, а она говорит: а что мне таким мужиком разбрасываться? Я к нему в карманы заглядывала: там меньше четвертака бумажки не встретишь, и они так смяты небрежно, будто трюльник, а я девушка непритязательная, хочу замуж, и он поверил, что он – первый, ага, они глупые, вот и хорошо! но просит ее: сведи, слушай, меня со своей подругой, а как свела, так сразу насторожился, особенно как я к ней, соскучившись, потянулась, ну, думаю, в другой раз, а он спланировал на свежатину, с пузом, возгорелся, да ну! даже надоело, а потом пили шампанское, мой брют! – и я сказала: только чтобы был брют! – такое условие, и он по Москве на такси два дня искал, я сказала: надо знать, где искать, ереванский вы человек! – он обиделся, до чего они обидчивы, слов нет! вы, говорит, зачем так говорите? а мне что: хочу и говорю, но сидим тихо-мирно, пьем шампанское, и Ритуля, моя бывшая отступница, спрашивает: ну, что, обошлось у тебя? И хочется ей услышать, что обошлось, утихомирилось, а про поле она знать не знает, шума не было, Егор с Юрочкой языки проглотили, пугнули мальчиков, и правильно сделали! Разошлись, разгулялись по буфету, а как цыкнули, сбледнели с лица, и я, потворствуя ей, говорю: обошлось, – а она говорит: значит, жизнь продолжается? Ура! – и чокается шампанским, а Гамлету, – объясняет, – очень журнальчик понравился, раритет, он его за большие деньги приобрел, Гамлет блаженно кивает, молодец, говорю, не жалей денег, он в гостинице Берлин проживает, я, говорит Гамлет, как увидел, что такая красавица, обалдел, а Ритуля говорит: представь себе, это моя лучшая подруга! – вот и вышел мне гонорар в ночь с армяшкой, одна польза, остальное – вред, ну, ладно, а он говорит: вы прямо красивая, как иностранка, там на карточках, у меня, знаете ли, даже… знаю! знаю! – поздравляю, говорю, сейчас побегу в ванную, шутка, он крутит головой, чувствует своим косолапым сердцем, что обидное говорю, но не понимает, а Ритуля за него обижается, будто уже жена, заранее, на всякий случай, Ритуля прохаживается без одежд, хороша ты, милая моя, хороша, и пальчиком, пальчиком наяривает, Гамлет напрягся, морду бить будет, ах, наперед все знаю, по залупе умею гадать, дай погадаю! – а он: ты не шутишь? Ритуля не выдержала: хохочет, а я говорю: не шучу, мне только краем глаза увидеть, и сразу скажу, кто твои родители, какого цвета волгу имеешь, сколько лет жить будешь – смотрю: глаза настороженные, неискренние – жулик. Мне невыносимо весело, а он огорчается, мужиков вообще ничего не стоит огорчить, это Ксюша у нас мастерица, а Вероника потирает ручки, слушая про то, как мужик лажанулся, а я говорю: а чего это у вас армянки такие некрасивые, и Гамлет опять огорчается: нет, перечит, они красивые! а если красивые, говорю, то зачем в Москву свататься приехал? – а он говорит: они гордые очень! Знаем мы таких гордых, чем страшнее, тем больше гордости! Неинтересно. Вот, думаю, и подходит мой срок. Да только погодите: я вам напоследок рожу! Но сомнений много. Станислав Альбертович тоже стал недоброе подозревать, мне в глаза на консультациях робко заглядывает и уже не поздравляет, не спешит с поцелуями, и охладел доктор Флавицкий, что это вы так индифферентны, доктор? Работа, жалуется, заела, да и знаете ли, в суд на меня подали, одна пациентка, семнадцатилетняя сопля! Скажите, пожалуйста! Наглость какая! Я говорю: кто будет – мальчик или девочка? Вроде бы мальчик. Но без гарантии. Я говорю: больно он куролесит! Флавицкий печально: ну, значит, пока все в порядке.
Я говорю: нет ли патологии? И запах – не трупный? Да, деточка, запашок, это верно, не пойму откуда. Шучу: это я разлагаюсь заживо. И охватили сомнения. Насчет рожать. То есть аборт делать поздно. Это все уже сроки прошли… и я пала!
Во-первых, о Веронике. Она ведьма, но мы с ней после поля не ладим, я ей звонила, она слова тянет, а чего тянет, не понимаю.
На верную смерть меня отослала, а теперь даже не поинтересуется, как и что у меня, слова тянет, и новые друзья – будто вымерли, ну, да мне их и даром не нужно, Ритуля не в счет, а Ксюша опять в Америке, я не выдержала, позвонила ей в Фонтенбло, по-английски говорила со стоматологом, у нее там какой-то чешский режиссер завелся, в Америке, она мне намекнула и уехала за океан. Ксюшенька, ты меня совсем забыла, а ей визу в Москву не дали как шпионке и диверсантке. Она с обидой: перебьюсь. Только мне все равно: она моя любовь. А Гавлеев молчит. Ну и молчи. Стоматолог-француз говорит: ши из ин Нью-Йорк, а я ему: мерси, до свидания, и повесила трубку, думаю: с кем посоветоваться? Мерзлякову звонила – дуется. У меня, сообщает, тоже неприятности. Мне бы твои неприятности! А Дато в командировке, я звонила, его семья меня любит, но отвечали уклончиво, а Вероника? Вот сука! За что? Не пойму. Не издох ли ее Тимофей? Нет, живехонький… И я пала. То есть мне бы какого другого совета искать, а я – к Катерине Максимовне.
Вхожу к ней, сидит, вечерний чай пьет, с бубликами. Квартирка однокомнатная, вся мебелью и коврами заставленная, в Чертанове живет, на выселках. А я тебя, говорит, сижу дожидаюсь. Садись, чай пить будем. И достает из-под матрешки чайник, наливает мне одной горькой заварки, нет, я такой крепкий не буду, когда, спрашивает, рожать – на живот взглянула – собираешься? Когда? Месяца через два. Замолчали. Она сидит, зря вопроса не задаст, чай попивает, бублик в чашку макает и в телевизор уставилась. Я говорю: Катерина Максимовна, у меня к вам просьба. Она молчит, слушает дальше. Я говорю: я вот рожать собралась… а жених, говорю, меня бросил, не наведывается, с концами пропал, даже, говорю, и не знает, что у нас деточка будет, ребеночек, нельзя ли его позвать? мне с ним поговорить необходимо. Что же, удивляется, он тебя покинул? или он себе другую подругу нашел и к ней переехал? Не знаю, отвечаю, ничего не знаю, где он, что он – понятия не имею, но только не в подруге здесь дело – я его подруга, но только он перестал наведываться, что-то ему, видно, мешает, а мне обязательно нужно с ним увидеться!.. Значит, рассуждает Катерина Максимовна, следует его к тебе приворожить. Ну, да, – радуюсь, – что-нибудь в этом роде, чтобы он пришел, насчет ребеночка посоветоваться. Она говорит: у тебя есть его фотокарточка? – Дома есть. – Приезжай в другой раз с фотокарточкой и прихвати с собой сто рублей, надобно мне для этой цели десять свечей по десять рублей каждая, поняла? Я отвечаю: вот вам сто рублей, и отдаю ей армянские деньги, возьмите на свечи, а я за фотокарточкой, я скоро буду, и сама в нетерпении, скорей в такси, лечу к себе через всю Москву, сквозь пургу и снег по колено, и Кремль посередке горит, как летающая тарелка. Беру фотокарточку и назад, отряхаюсь в прихожей, прошу тапочки, чтобы не наследить, и вынимаю из сумочки фотокарточку как ни в чем не бывало, а у самой сердце так и бьется, боюсь: откажет. Она взяла фотокарточку в руки, вгляделась, потом на стол ее осторожно кладет и на меня смотрит. Ты понимаешь, о чем просишь? Я говорю: понимаю. Она молчит, с недовольным лицом.
Я закурила, говорю: Катерина Максимовна, вы за меня не беспокойтесь, он уже раз ко мне приходил, на диванчик присел, очень скромно, мы с ним поговорили, и он ушел. На себя-то, спрашивает, похожий приходил? Похожий, говорю, совершенно похожий, только чуточку грустнее, чем в жизни, и лет на пять помоложе, такой, как на фотокарточке, я специально выбрала, он мне несколько подарил… Нет, говорит, за это я не возьмусь. Почему, Катерина Максимовна? Ну, миленькая! Ну, возьмите еще денег! Полезла в сумочку. Она меня останавливает. Подожди, говорит, ты мне лучше вот что скажи: это с ним ты ребеночка завела? И на меня выжидательно смотрит. А что, говорю, этого нельзя делать? Как вы думаете? Я, собственно, потому его и прошу прийти, чтобы ясно было. А он не идет, или нет уже его, куда-нибудь перевели, ну, как в армии… Может быть, он уже далеко, так далеко, что совсем не вернется? Я стряхнула пепел в синее блюдечко и откинулась на спинку дивана. Он, восклицаю, жениться предлагал! А что ты ему ответила? Ну, не могла же я, Катерина Максимовна, с бухты-барахты ему отвечать!.. Я думала: он снова придет. А он не идет и не идет. Или передумал? А я вот – ребеночка сохранила…
Катерина Максимовна встала и говорит: приходи завтра, красавица, вечером. Я буду на книге ворожить… Я вскочила: спасибо! – Потом отблагодаришь… Я говорю: я могу даже чеками, если возьмете… Она говорит: после! после. Уходи! Даже строгая стала. Я испугалась, что откажется, и скорее за дверь.
Вся извелась. На другой вечер снова приезжаю. Она сидит, папироску курит. Телевизор орет и стреляет: про войну. Осторожно спрашиваю: ну как? А она головой качает: нет, говорит, ничего не выходит. Я всю ночь ворожила на книге. Ничего не получается. Не хочет он к тебе приходить. Я говорю: как не хочет? почему? А она говорит: к тебе нельзя приходить. На тебе порча. Я удивляюсь: какая порча? Раньше-то он приходил… А теперь, говорит, не придет. Я говорю: ну почему? А она говорит, а ты вспомни, что ты делала после того, как он ушел? А что я делала? Я к подружке переехала, к Ритуле, потому что, конечно, ужасно испугалась, и жила у нее, а если он меня к ней ревновал, то понапрасну, да он и всегда про меня это знал, стало быть, не должен был ревновать, а что я еще делала? ну, не знаю, был однажды, уже после этого, у меня Мерзляков Витасик, я ему все рассказала, он – друг, я не помню, я напилась тогда… Катерина Максимовна поморщилась и говорит: я, милочка, не про это тебя спрашиваю. Ты еще больше ничего не вспоминаешь? Ну, говорю, забегал ко мне Дато, перед гастролями, только я уже знала, что беременная, но ему не сказала, а то бы убил, а потом, да, я хотела сделать аборт, потому что меня немного запах смущал, и Дато говорит: ты чего, дрянь, такая немытая? А я говорю: ты же, Дато, иногда любишь, когда я немытая. Да, говорит, но не до такой степени!
И мне стало стыдно с другими мужчинами, хотя всякая мелочь набивалась зайти, и вот только армянин на днях… Ну, это, продолжаю, вообще не в счет. Дурак, говорю, хоть и Гамлет! То есть вообще не понимаю, на каком основании Владимир Сергеевич на меня обижается!..
А ты, говорит Катерина Максимовна, другой вины за собой не чувствуешь? Нет, говорю. А ты, говорит, подумай… Я подумала. Не знаю, говорю… А куда ты, спрашивает, ездила? Как куда? Ну, я по полю бегала, только это еще раньше, это он знал, это он потому и пришел, он сам говорил. Я, говорит Катерина Максимовна, владетельница однокомнатной квартиры в районе Чертанова, не про поле спрашиваю. А вот куда ты поехала, как с ним свиделась, с женихом своим? И на карточку посмотрела. А он тут же на столе лежит. Лежит и нам улыбается. Не помню, говорю, я и в самом деле забыла, а она говорит: а вот на пригорочке, посреди кладбища, церковь стояла? так, что ли? – Ой, говорю, конечно, и свалка венков, осенью, ну да, на следующий день. Это Мерзляков говорит: немедленно туда! И мы поехали. – А что было дальше? – спросила, потупившись, Катерина Максимовна, словно нужно тут было рассказать подробности, которые только между любимыми сообщаются, а ей нужно как будто по службе узнать как свахе: нет ли изъянов у вашей горячо обожаемой дочери? родимого пятна, например, на ягодице величиной с абажур? Нет? – Я молилась, говорю, неуклюже, первый раз в жизни… О чем? – еще больше потупилась Катерина Максимовна, водя папироской по дну хрустальной пепельницы. О том, чтобы он больше не приходил… – призналась я, заливаясь краской. Достала она меня! – А потом? – спрашивает. А потом, говорю, я вернулась в эту церковь, как-то приехала на электричке и нашла того попика, который слышал мой душераздирающий крик: молодой попик, и я говорю ему: покрестите меня! И он сначала удивился, но я ему все рассказала, только про него – показала на фотокарточку – ничего не рассказывала, чтобы не испугался, но и того, что я ему рассказала, было бы достаточно, чтобы меня покрестить, он так обрадовался, вы, говорит, Мария Египетская, вот вы кто! а про поле он тоже не знает, зачем ему это? Вы, говорит, понимаете, что одно ваше спасение стоит больше, чем легион богобоязненных праведников! Вы, говорит, для Него желанная душа, и тут же немедля меня покрестил, безо всяких крестных, а старушка прислужница мне резинку трусов оттопыривала и туда святую водицу лила, туша мой позор!.. А!.. – наконец дошло до меня, и я растерянно посмотрела на Катерину Максимовну. Катерина Максимовна молчаливо водила горячим концом папироски по донышку хрустальной пепельницы. Понятно… – сказала я. Ну, вот, коли понятно, так иди себе с Богом, – робко так, несмело сказала мне Катерина Максимовна. Я давно ее знала. Мы с Ксюшей и другими девочками к ней заезжали. Она по руке удивительно гадала. Мы часами слушали. Все сходилось. Мы рты открывали. А здесь такая молчальница! Я говорю: – Вы меня, Катерина Максимовна, не прогоняйте. – И смотрю на нее: она противная, волос редкий и гладкий, на затылке жидкий пучок, таких в магазинах с утра полно, ссорятся в очередях, только глаза особые: вишневые и внимательные… Я говорю: – Не гоните! – Нет, говорит, милочка, уходи! Но опять так нетвердо, смотрю: что-то не договаривает, гонит, но не в шею, гонит, а сама дверь не открывает, выйти куда? Я закурила, молчу. На нее смотрю. Она на меня.
Заговорщицы. А телевизор орет и стреляет.
А попик мой любимый, отец Вениамин, у него тоже глаза особые, лучатся… Но еще молодой, глуповатый, а у глуповатых людей часто глаза лучатся, и от его ясных глаз у меня внутренности стонут: сладенький ты мой… маленький… сахарный…
Все это вспомнилось непроизвольно, или сейчас, как пишу – вспоминается, вот. И рыжие муравьи по столу ползают, я пишу и давлю их пальчиками, развелись они по всему дому, а они страшней тараканов, они страшные: вот умру, они сползутся – хуже червей! – даже костей не оставят, все сточат, а пока я их давлю пальчиками, и пишу… вот еще один по столу ползет… Я говорю: – Катерина Максимовна, ну, сделайте что-нибудь для меня! А она подняла очи свои вишневые и говорит ровным голосом: ты поди, говорит, завтра с утречка в диетический магазин и купи, говорит, диетическое яйцо, самое свежее чтобы было яйцо, непременно, а потом, когда ночью будешь ложиться спать, то разденься и обкатай себя этим яйцом сверху донизу, с головы до самых пят, всю себя обкатай, двадцать раз это надобно сделать, а когда двадцать раз всю себя обкатаешь, положи яичко в изголовье и спи с ним до самого утра, а утром приезжай ко мне…
Я ей чуть в ноги не падаю, спасибо, мол, сделаю все, как наказали, значит, двадцать раз? – да, говорит, двадцать раз – и я полетела к себе. Наутро выхожу яйцо покупать, в центр поехала, по молочным магазинам, среди пенсионерок толкаюсь, к витрине протискиваюсь, покажите яичко, какое самое свежее (по числу), смотрю, какое число указано, и выбираю, а продавщицы – девки-оторвы – глядят на меня, как на больную, сердятся и удивляются, будто я воровка яиц или чокнулась! Выбейте мне, говорю, за одно яичко! А они все думают: чокнулась! Ну, купила, еду домой, а как вечер настал, улеглась я, пузо торчит, лягушонок там кувыркается – и давай обкатывать яйцо с головы до пят, двадцать раз обкатала, умаялась с пузом, а потом положила в изголовье и никак не засну, все о будущем думаю. А утром к Катерине Максимовне заявляюсь.
Она яичко на блюдечко положила, давай, предлагает, сначала чайку попьем. Попили мы чаю, но молча, я жду. Она говорит: ты все так сделала, как я наказала? Ну, хорошо… Встала, достала из комода пеструю тряпочку, завернула в нее яйцо, а потом она стала бить по тряпочке молотком, бьет, бьет, а яйцо не колется, я даже похолодела: не к добру! – она снова бьет, а оно не колется, а потом – раз! – разбилось… Она тряпочку развязала, посмотрела туда, смотрит, смотрит, а потом поднимает на меня свои вишневые нехорошие глаза и говорит самыми кончиками губ: – Ну, счастье твое! Вышла из тебя порча! И показывает: черная жилочка, как червячок, в яйце бьется, трепещется… Ну, говорит, твое счастье!
А я думаю: как я пала!
Но ничего ей не сказала, только говорю: – Спасибо вам большое, Катерина Максимовна, я ваша, стало быть, должница…
А она говорит, что больше от нее ничего не зависит и вообще ни от кого не зависит, но что двери, говорит, жениху моему отворены в мой дом, а когда придет, не скажу, не знаю, а что касается воздаяния, то почему не принять, если оно ей причитается, изволь, приму, коли вышла из тебя порча, и запросила еще сотню. И пошла вторая армянская сотня на воздаяние Катерине Максимовне, а Леонардик смотрит на нас с фотокарточки и улыбается.
23
Я, Тараканова Ирина Владимировна, она же Жанна д’Арк, Орлеанская Дева, она же, отчасти, Мария Египетская, русская, беременная, беспартийная, глубоко сочувствующая, разведенная, первый муж – не помню, второй – футболист, княжна, патриотка, невольная иждивенка, проживающая в Союзе Советских Социалистических Республик с рождения, в 23 года вернувшаяся на историческую родину в Москву, Андрианопольская улица, дом 3, строение 2, квартира 16, согласна вступить в брак со своим заветным женихом, Леонардо да Винчи, бывшим итальянским художником, ныне безымянным и неприкаянным телом.
Свадьба состоится у меня на квартире в указанное время.
Подпись: (Ирина Тараканова)
Голубушка Анастасия Петровна!
Пишу впопыхах. Нет-нет, это не слух, я действительно выхожу. Да, представьте себе, за иностранца. Он – художник Возрождения. Будем жить у него. Умоляю Вас, подготовьте моих стариков. Пусть если не благословят, то хотя бы не проклянут!.. Мама-папа! простите! Не ведаю, что творю! Анастасия Петровна, хочу пригласить Вас на свадьбу, да знаю, что Вы не приедете, не соберетесь, ну, конечно, семья, Олечка… Анастасия Петровна, ничего, я не обижусь! На Ваш вопрос, можно ли глотать, отвечу: нужно, милая! Не выплевывать же?! Тут все глотают. Но с умом. Не захлебнитесь от чувств! Ну, все. Бегу.
Обнимаю Вас и целую.
Ваша до гроба,
Ира.
24
И тогда я подумала: поставьте ей памятник, и народ обрадуется, пойдет гульба, а я, страдая предродовой одышкой, полежу, помечтаю, пусть! до ночи еще далеко, соберусь с мыслями, а не то он, он, мой лягушонок, он отомстит за меня – чтобы вы приседали от тяжести и умирали в тоске, пусть! я приветствую этот богатый мир и даю разрешение, дерзай, лягушонок, чем хуже, тем лучше – дави их хвостом! – но все-таки я не вредная, нет, и меня одолели сомнения, и я ждала его, чтобы проконсультироваться: вытравлять или миловать, а не то утолюсь их слезами, но сомнения были, потому как слишком углубилась в сферу подножной жизни, забыв о божественном, а когда вспомнила, оказалось, что меня нет в списках, и тема исчерпана, и я сказала, махнувши рукой: да ладно, я не злопамятная, живите, пусть все умрут в свой черед и что с них спрашивать, и если надавить – не гной выйдет – кишки, а чем они виноваты, кроме того, что они виноваты во всем, а раз так, то не стану их приговаривать и рабства не посулю, спи, мой лягушонок, беспробудным сном, я тебя не отпущу, я не губитель, не изверг, не склочница, мне от вас ровным счетом ничего не нужно, а себя – не волнуйтесь – сберегу, сохраню, надоели вы мне, я приглашаю вас на свадьбу, это не истерика, я готова, я лежу и дышу, и начинаю жизнь заново, то есть отменяю рождение сына, и ожидаю дорогого посетителя, не то чтобы с волнением, а как единственного советчика, и если на этот раз мы с ним, как и встарь, не соединились, зато были рядышком, обознались, зато полюбили, не встретились, но стрелялись, и я угадала его напоследок, а он лишь орал от восторга, да, он оказался слепее, но он славно прожил, то есть он победил, он нашелся, он сделал все правильно: мелкоплавающие, а он глубоководный, еще глубже, чем раньше, потому что не надо понимать, зачем понимать, если ясно, что если понимать, то жизни не будет, а так сидеть себе на веранде, когда жара уже спала, как я никогда не сидела, и быть чистой, и пить глотками белое вино, но заказан мне путь, не дозволено путать назначения, это вам, а не мне, я бежала – вы шага не сделали, только охи да ахи – не стоят они моего сломанного мизинца, и ничего, а я бежала, свое отбегала, лежу и скучаю, в ожидании нескольких слабых вопросов, когда оживится воздух, и зеркало с дырой, что так и осталось, от лени, но я вас зову: приходите в гости, если состоится, не состоится – тоже приходите, мы не годимся в родители, и что нам с ним делать? – Я была готова, я даже не волновалась, потому что отучилась, за остальное отмучаюсь потом, я не жалею, и высшая измена украсила мой быт в пастельные тона, я лежала и смотрела на пыльные трофеи, на кубки и призы – недурная лошадь, и недаром любила лошадей, хотя ничего не смыслила, но любила скакать, и однажды на пляже ко мне, под уздцы, но не будем, сударыня, отвлекаться, заглянем в чистый лист бумаги и скажем себе: в наше умопомрачительное безделье нам есть о чем потрепаться, приблизившись напоследок к оригиналу, хотя бы с другой стороны, да, я дура, и пусть мне не светит, и сама не разберусь в главном, оттого и жду, и ожидание это напрасно, бега кончились хором, на поле вислоухие кролики, это важно для отчетности, и если пели, то не кутались в саваны, этого не было, а то, что я не среди вас, мне подсказали сны, но ближе! ближе к делу! сосредоточься, Ириша, Ирина Владимировна, у тебя на носу свадьба, и твой жених запаздывает, это печально и вносит в атмосферу элемент ненужной нервозности, и никак не поторопишь его, а может быть, он передумал, устал? да нет, пустое, мы никуда друг без друга, пустое, но все-таки отчего это мы хлебаем говно да говно, для какой конечной радости и с какой целью, здесь я задумалась, с ручкой во рту, не пропустила ли чего в своем отчете, ты сама говорила: ВЫЖИТЬ!!! Мы выжили – из ума. Истерика прекрасна, как фонтан, но я успела кое-что нацарапать, как курица лапой, не взыщите за почерк, и даже составила завещание: мою пизду отдайте бедным, отдайте инвалидам, калекам, служащим нижайших чинов, неспособным студентам, онанистам, старикам, тунеядцам, дворовым мальчишкам, живодерам – первому встречному! Они найдут ей применение, но не требуйте от них объяснений, они найдут, и это их дело, но прошу не считать дешевкой: хотя и бывшая в употреблении, но великолепна во всех своих измерениях, узка и мускулиста, мудра и загадочна, романтична и ароматна – по всем параметрам любвеобильна, однако чрезвычайно деликатна и боится малейшего насилия, вплоть до болезнейших разрывов, о чем владельцу даст консультацию добрый доктор Флавицкий, он ее наблюдает, но в конце концов, если соберете деньги на памятник, не ставьте его посреди многолюдной площади, это безвкусно, не ставьте визави Василия Блаженного, ибо негоже Василию лицезреть ее каждодневно, а также на Манежной, как новогоднюю елку, – не ставьте! В Москве есть куда более укромные уголки, где встречаются влюбленные и воры, убогие и дрочилы. И, пожалуйста, не в Сандунах: там склизко. Поставьте ей памятник… но, минуточку, не делайте его излишне большим, он не должен взмывать в небо космическим героем или ракетой, не должен попирать землю, как трибун у китайской гостиницы, все это мужское, чужеродное начало, мне не свойственное, ей не приличествующее, нет, ей милее смущенный памятник, накрытый шалью или шинелью, не помню, где-нибудь во дворике, где он жил у друга, лишенный своей кровли, обиженный и непонятый, как она, пусть это будет такой же тихий памятник, по цоколю которого расположатся картины из жизни любви: см. фотографии в спецархиве архивариуса Гавлеева, он же главный консультант, он же разрежет ленточку, а где? Есть Патриаршие пруды, но там уже развалился перед детьми в кирзовых сапогах крыловский болван, есть театральные скверики Аквариум и Эрмитаж – да она-то не актриса! есть еще один – да там Маркс – все места заняты, есть, правда, место в Серебряном бору, но не хочу у черта на рогах, как девушка с веслом, не из гордости, а из сочувствия к людям: далеко от метро, нужно ехать троллейбусом, боюсь давки, нет, мне по душе Александровский сад, с его голландской флорой и милицейской фауной, я к милиционерам всегда испытывала уважение и сдержанную симпатию, но это ведь не мне, а ей памятник, я сама не заслужила на этот раз ни золоченый парижский, ни просто конный, ни даже пеший – в этой стране не заслужила, в этот раз – ей, и пусть он будет, как роза, без всяких излишних фантазий, как роза, – и посадите вокруг цветы, много цветов, и сирень – это самое бесполезное, что вы сможете сделать, так и быть, в противовес ратной славе – славу любви, на другом конце, и цветы, цветы, цветы… не предвижу возражений, и посвятим его не моей персоне, а круглой исторической дате: двухтысячному году новой эры – надо будет согласовать, я знаю: бюрократия, во-вторых, на меня не серчайте, ибо дурного не желала и сейчас не желаю, хотя это странно, что вы еще умеете разговаривать, мой папаша куда более последовательный, он отказался от дара речи, а что маму именует Верой, так это даже символично, надо ей сказать, когда прибудет на свадьбу.
Да, кстати, я согласна. И на папашу не в обиде, он тоже князь, а стало быть, не жид, а стало быть, ему на Россию насрать, потому что он сам Россия. Там у вас, Ксюша, вы и господа, а мы тихонечко, по-родственному, по-семейному сядем на кухоньке, не будем менять тарелок, сядем и примем немножко, и захорошеем, и песню затянем, и даже кто-нибудь из нас спляшет, а потом спать ляжем, кому места не хватит – постелим на полу, рядком, по-братски будем лежать: брат с братом, друг с другом, папа с мамой, люди не гордые, одна радость для пряника и кнута, но достаточно, считайте как просьбу: ни слова больше! – а памятник можете ставить, а не поставите, другие поставят, если, конечно, додумаются, и все-таки поменьше думайте – побольше живите. Но спешу пригласить всех на свадьбу, и приносите подарки, подороже, а еще лучше просто деньги: это пойдет на памятник, но только не очень большого размера и непременно из красного гранита, я так хочу, и ей под стать, ладно, перейдем к частной жизни: в конце концов, мой роман имеет не какое-нибудь отвлеченное, а семейное содержание, семью я всегда почитала, и воспитание детей – особенно, и все-таки плачу только о Ксюше, никто мне не нужен, кроме нее, но она зря обижалась на Леонардика, и поливала, зато в другом ей не было равных, и не будет: никто, как она, не умел так быстро и непроизвольно возликовать, никто не кончал с таким редкостным даром веселья, и она даже чуть-чуть бледнела от полноты жизни, я брала уроки, то есть с первого взгляда, так женщина не смотрит на женщину, и я стала против нетерпимости, пусть все живут, я не против, потому и жду совета, и откликнулся мой кавалер, приперся, а я лежу и пузо выгуливаю, и пупок вытаращился, ну, совсем как третий глаз, а в зеркале рваная рана, не застеклила, и дует оттудова, но дряни не было: появился вполне элегантно и занял место в моей скромной жизни, расположившись на диванчике, и я сказала: господин мой! я истомилась, тебя ожидаючи, сука ты этакая, а он мне в ответ: ты брось выражаться на этом приблатненном жаргончике, я не затем пришел, чтоб слышать вздор! – и замолчал совершенно по-королевски, а я ему возражаю: сволочь ты, Леонардик, большая и жирная сволочь, ей-богу, не хочешь – не верь, но сволочь, ты меня проморгал и прошляпил, а я тебя отмыла и спасла, облившись грязной кровью твоей, молчи! слушай дальше: я тебя премного благороднее и по масти, и по воспитанию: ты, я говорю, кто? ты юлил и подпрыгивал, а я жила и дышала степным воздухом русского города, мне встреча с тобой многого стоила: папашки, двух одичалых к сегодняшнему дню бывших моих супругов и еще сотни прочих хуев, если считать приблизительно, не вникая в подробности, но я выполнила свое назначение, постаралась на славу, почему ты так долго не приходил?
Он, пристыженный и довольно прозрачный, попрозрачнее, чем в прошлый разок, ага, говорю, растворяешься и хочешь, чтоб я тоже? – мне, говорит, было трудно к тебе прийти – ну, говорю, и вали отсюда – смотрю, нет мужика, обиделся, Ксюша, мужик – он и есть мужик, даже если наполовину прозрачный, теперь бы уже не тронул, а я опять лежу и пузо глажу, рассуждая о мелочах жизни, и времени у меня полно, на дворе весна, безвитаминное время, но, покупая на рынке гранаты и овощи, ем за двоих, а меня баран забодал, иду от метро, далеко мне идти, не сев на автобус, тут стадо, коровы, телята – прошла, несмотря на рога, а дальше бараны – я думала: мелкий скот и не боялась, а один налетел со спины и поддел – больно! – пот катится – пришла в себя, села, записываю, а он приходит, говорит: – Ну, хватит! Давай по-серьезному. – Давай. – Ты родишь? – Хотелось бы знать, что папа ребеночка по этому поводу думает. – Он говорит: – Зачем он нам? – Я говорю: – А что? Ты раньше не мог мне сказать? – Сама не хотела. – Ну, верно. Ладно. Простим их, Федя! – Прошу тебя, выражайся иначе. Я жениться на тебе пришел. – А я говорю: фиктивно? Он понял и замолчал, а здесь, говорю, тебя напрочь забыли, слишком много живых, может, мне остаться, напомнить? – Это не дело, – говорит. – А что ДЕЛО? – Он говорит: по совести сказать… Помолчал. Как тебе объяснить? Ну, конечно, говорю, дура… – Он говорит: ну, если нет общей меры, как объяснить? – И опять молчит. Недоговаривает.
Я говорю: ты почему не договариваешь? Позволь мне устроить истерику. Ты, говорит, мастерица. Я говорю: оставь меня, можно я еще поживу? Он говорит: а я? То есть с крайне эгоистических позиций. Ладно. Только, пожалуйста, не уговаривай. Я сама знаю. А это, показываю на лягушонка, подарочек. Он говорит: – Не преувеличивай… С них как с гуся вода. И не воспитывай. – Ну, хорошо. Ты меня любишь? – Он говорит, не то слово, обожает, места себе не находит, сидит, бледненький, но мне доступный, а я сижу на кровати: брюхатая, полная жизни и смердящая, сижу, отдуваюсь: – Страшно, говорю, я ведь знаю, что я сделала, то есть про Катерину Максимовну, не накажут? – А ты, говорит, хочешь заранее разузнать и прицениться? А не хочешь ли неожиданностей, как все другие прочие, как я, говорит, к примеру? Что ж, говорю, мне платье пошить или как? – Пошей, – говорит. – Ну а если сначала рожу, а потом уже поженимся? – Пожал плечами: – Как хочешь… – И не жалко тебе их? Чудовище все-таки вырастет. – Не одно, так другое… – Да! Но не от меня! – и мечтаю выйти за него замуж, он такой нежный, встаю, подхожу к нему, глажу по волосам, они, как у ребенка, шелковистые… – Когда? – говорю покорно. – Сегодня. – Как сегодня? – Зачем откладывать? – Только не газом! – выкрикнула… – Леонардик, как лучше? – Мы стали прикидывать. Я привередничала: вены, прыжки с высоты не подходят, таблетки – ненадежны, еще стошнит, все остальное очень больно. – А сам ты меня не можешь? – Наморщил лоб. – Ну, – упрашиваю, – пожалуйста… – А потом смотрю: нет его. Леонардик, куда ты делся? Пошел за топором… Я выбежала на улицу, через полтора месяца – листочки, а я, замужняя женщина, буду спешить к сыну, волнуясь от радости, выпишу мамашу, будет, сука, бабушкой! и няньку найму, а мой дражайший Виктор Харитоныч, отрывая время у государственных дел, станет звонить домой и, на зависть куколкам-секретаршам, ворковать, гулькать по телефону: ну, как там наш махонький? все ли скушал? не болит у него животик? похож ли он на меня с утра? или на тебя? или вовсе ни на кого не похож? – Как же, радость моя, не похож, если ты меня полюбил, прикинувшись ходячим призраком и позабыв о государственных делах, и презрев пожилую жену, которую давно не баловал лаской, о, Карлос! о, мой латиноамериканский посол! почитатель Неруды, противник хунт и прочих фашистских экспериментов, выгони из гаража свой жигуленок с красивым, как пижама, флажком, пригласи министров и королей, это тебе раз плюнуть, сбегутся! нет, Карлос, твой мерседес не длиннее мерседеса моего Леонардика, мы тоже могем, когда хочим, прости за дурацкую шутку, но знай: сынуля прекрасен, как бог твоей страны, я знала заранее: все кончится миром, ты – мой, ты – мой муж, но во дворе уже столпотворение, и черная сотня хуев выстроилась, готовая к подаркам и закуске, готовая к прощенью, гуляйте, милые, я буду еще с вами, в последний раз, и вы, братишки Ивановичи, идите, идите сюда, простимся, спасибо за статеечку, сочтемся, и вы, корреспонденты мировой корреспонденции, вы тут как тут, привет, бандиты!
Вот, я принимаю гостей, в количестве черной сотни, а также их жен, соседей, родственничков, зевак и любовниц, и Антошка, как забыть об Антошке? мы снова дружим, и, пожалуйста, называй меня мама, а это твой ненародившийся братик, черный червячок, поздоровайся, ну, что отворотился? смелей, не бойся! а мамочку целуй в щеку и никому не рассказывай, ну, это слишком! – каков хам! – дальше: Дато, он для нас сыграет, вот стену-эй, разумеется, Мендельсона, только не слишком громко, а то голова, да, Дато, сегодня я выхожу за тебя замуж, Дато Виссарионович, а твой отец Виссарион меня знает как отъявленную красавицу, как божество, а Антошка мне шепчет на ухо: мама, ты у меня гений чистой красоты, мамочка, а вот и Егор с Юрой Федоровым, пара пуганых конвоиров, с гладиолусами, я сегодня выхожу замуж, а вот еще пара: мои бывшие одичалые супруги, привет! одного в лицо не помню, но что-то смутно родное, по причине стремительного бегства из родительского дома, другой в мешковатом костюме из местного универмага, не пьет, не курит, не играет в мяч, что так? уж не умер ли ты, мой мальчик? ты раздразнил мой пыл! ты! оставь провинциальные комплексы, вся черная сотня хуев – твоя заслуга! эй, вы! ну, да ладно, не буду кричать, нет, я крикну: минутку терпения! – мамаша, встань у входа, в половине седьмого ты отворишь дверь, да приоденься, вот тебе колье, вот браслеты и тряпки, носи на здоровье, возьми духи, эти тоже, бери все, мне не нужно, не плачь, это подарок, ну-ну, я счастлива, мама, не плачь, а что касается ВАШЕЙ дальнейшей судьбы, она меня волнует все меньше и меньше: если вы все пережретесь, перережетесь, если посадите друг друга по тюрьмам и лагерям, если запретите ходить в сортир под угрозой казни, введете комендантский час на питьевую воду, я воскликну: значит, так надо! я одобряю! я вас благословлю, все, хватит на сегодня, ах, Витасик, шестидневный герой, ты тоже пожаловал, а Мерзляков себе на уме, он всегда наблюдает: за кого это она выходит замуж? и нет ли подвоха? и почему собравшиеся гости вместо того, чтобы пройти в квартиру, стоят по колено в мартовском снегу вперемежку с дипломатическими представителями, каретами «скорой помощи» и вороными конструкциями отечественного производства? почему? – напряженно думает Витасик, – почему она высовывается к нам через форточку, придерживая не слишком крепко свое кимоно в надежде на случайное явление груди? уж не морочит ли она нам голову – эта беременная курва? – напряженно думает Мерзляков, утопая в мартовском снегу, который скоро растает, и вообще бы сюда картинку природы: грачи прилетели, гнезда ворон на березах, в конце концов мы имеем право на красоту, гарантированное славянской душой, мы ведь не жмоты, не скупердяи, не датчане – как? вы до сих пор незнакомы? – вот мой датчанин, пришел и ушел, но все-таки сегодня он вместе с нами, с международной выставки медоборудования, не блондин, прислал мне в подарок лакея из «Националя» с двумя коробками снеди и часики с браслетом, не дорогие, конечно, однако вполне удачно для одной-единственной палки, пришел и ушел, а Виктор Харитоныч – он с нами навеки, он наш, вологодский, о, как он прекрасен своею образиной, дайте-ка описать напоследок: итак, в очках, под ними свинячие глазки, бороденка, лицо как будто перепревшее, кожа лоснится и пористая, как свежая коровья лепешка, губы мокрые, член заострен, как очиненный карандаш, сидит в кабинете и чертит линии для поддержания деятельности ума, но все-таки он мой будущий муж, его с тех пор повысили, скоро примется повсюду командовать, однако меня защищал, как только мог, однако вступил в сговор, и ходят слухи, женится на богатой вдове Зинаиде Васильевне, когда она в трауре и с белым кружевным платочком приходила на меня жаловаться, как на картине Эль Греко, я всегда была культурная женщина, носила кимоно, в котором Игорек, ах, вы тоже, кажется, незнакомы? на всех не хватило бумаги, он уехал в моем кимоно, у него ночью, как мы залегли, завыла машина, дефект секретки, на ветру, от ветра и стужи завыла итальянская секретка, считая, что мороз ее обворовал, и тогда сосед, что надо мною, однажды с вином зашел познакомиться, я извинилась, ссылаясь на занятость, сосед ретировался и затаил, и вот орет машина, Игорек, схвативши кимоно, спешит во двор, а сосед, распахнув окно, орал: – Раз к бляди приехал, не шуми! Ты тихо приезжай! – С испугу Игорек в кимоно и уехал, и исчез навсегда, хотя был красивый, богатый, при мне из постели по телефону распекал подчиненных в автобазе и очень возбуждался от ругани, и требовал одновременных ласк, а потом приходит кимоно по почте бандеролью, вместе со шлепанцами, ну, я соседа тоже пригласила на свадьбу, и даже того Степана, что по заданию сбил меня наповал, – не удержалась, пригласила, пришел с Марфой Георгиевной, они поженились недавно, и новые друзья пришли, под предводительством Бориса Давыдовича, в гулком подъезде стучала палка с резным набалдашником в виде бородатой головы пророка: для кого – Лев Толстой, для кого – Солженицын, для своих – Моисей. Пришли новые друзья, в сумерках их недавней славы, поредевшие ряды, Белохвостов уже в Пенсильвании, работает не по профессии, доволен, и с ними женщины со снайперским прищуром и сигаретой табачной фабрики «Ява», пришли и прищурились, и Леонардик уже летит со скандалом: зачем они пришли? почему столько иностранцев? Сплошные любовнички… А что мне делать: я дружила с мужчинами при помощи всех своих чувств. И сказал тогда Леонардик, ошалев и опешив, с диванчика воззвал: – Да ты еще слишком близка к ним!.. – И только тебя, моя любимейшая подруга жизни, не было в этом убогом дворе. Шпионка и террористка, ты долетела всего лишь до ворот столичного аэродрома и была неумолимо лишена визы, выданной тебе по рассеянности, и выдворена вон, и в слезах летела назад, с посадкой в Варшаве, и сказал Леонардик: – Слава богу, что выдворили! Только ее нам не хватало! – Но Ритуля пришла, и Гамлет. Гамлет был очень, очень взволнован, он так полюбил меня за короткий срок, что не расставался с журнальчиком, и Ритуля журнальчик искромсала маникюрными ножничками и сожгла обрезки на помойке, Гамлет плакал, узнав о потере, а мамаша перед дверью стояла на посту, как центурион и зверь, дедуля-стахановец умер спустя год, тоскуя по внучке, папаша-краснодеревщик в Москву прибыть отказался, так как в нем обнаружился редкий вид фанаберии: боязнь троллейбусов, он считал их дьявольскими созданиями и отказался наотрез, несмотря на все уговоры, однако в назначенный день, надев белую сорочку, при галстуке, выпил перед зеркалом полный бокал портвейна и вспомнил о моем детстве, по поводу чего я писала ему в письме: Милый мой папка, а еще знай, что пройдет жизнь, я пройду и умру навсегда, но единственный мужчина, который по-настоящему мне дорог, близок, любим, с кем мне было лучше, чем со всеми, – см. на обороте букет пионов – вот, знай: это ты! Твоя любящая тебя дочь, Ира. Он достал из пиджака открытку, смятую годами, и заплакал.
Он был прощен. Мать сдерживала напор заинтригованных гостей, в недоумении косящихся друг на друга и уже разделившихся на враждебные партии, не подающие руки. Я махала им из окна. Леонардик, однако, расселся на диванчике в позе удовлетворенного жениха. Он сказал: о, как я счастлив жениться на тебе, моя красавица. Я сказала: не подгорит ли индейка, дурень?! Заботы снедали меня. Я очень беспокоилась за индейку. Столы были накрыты в обеих комнатах, срам зеркала будет занавешен, остается навести марафет, а Нина Чиж, прислонясь к березе, рыдала от зависти. Леонардика, конечно, не было. Он не то чтобы опаздывал, а просто мы так уговорились, чтобы он попозже пришел.
Ну его! Он все был на меня в претензии, когда приходил в третий раз или в десятый, или в сотый, он шел косяком, будто прорвало, днем и ночью, но днем бывал тусклый и нерешительный, зато ночью читал мораль и учил, что я не понимаю происходящего и никакая я не Жанна д’Арк. Отвяжись, говорила я, сам-то ты кто? Вон, почитай… И брала с полки его очередной шедевр и открывала на случайной странице… он бранился, плевался, визжал, ага! говорила, то-то, не для вечности, извини, отвяжись. Мне было жалко их, таких продрогших в снегу и мерзости двора, я каждому хотела сделать что-нибудь ласковое, но мой подарок был коллективный, как воззвание. Роман заканчивался свадьбой.
Пора кончать! Задернуть зеркало несвежей простыней, но пока, присев на пуфик, отразясь в трюмо, смотрю, охваченная волнением и усталостью, на пузо, подвела глаза, задумалась. Ириша, гости ждут! Столы благоухали кулебякой. Мое приданое: хрусталь и столовое серебро. Не стыдно. Пошлепала по животу, ну, как ты, лягушонок? Присмирел. Твоя мамочка нынче на выданье. И снова к окну, и через форточку взглянуть на вереницу приглашенных, и Катериночка Максимовна пришла, и Вероника с Тимофеем, тот носится по двору как оглашенный, ну, собирайся, Ира! – Леонардик, развалясь в торжествующей позе насытившегося барина, торопит, они никогда не в силах скрыть этого животного торжества, я простодушно напеваю, причесываюсь, скольжу по паркету, о чем подумать, откладываю думать, хотя ловлю себя на том, когда же думать, если не сейчас, часы пробили шесть, ну, вот: еще осталась половинка времени, чтобы все вспомнить или помолиться: отец Вениамин, мой сахарный попик, входил в состав гостей, но был в штатском, я первый раз видела его в штатском, отчего показался мне более соблазнительным, так и тянулись ручки к запорам и застежкам, чтобы схватить – о этот дивный миг! – с мутной капелькой нетерпенья, но Ира! Не время об этом!
Ты должна им что-нибудь сказать. Почему это я должна? Мне смешно. А что мне им сказать? Мы не в Руане. Где англичане? Вся моя Британия – разгромленный оркестр во главе с ялтинским козлом, сорвавшимся с привязи, с веревкой на шее, пока его жена, мать крохотных дочерей, томится в валютном баре, сокрушаясь по поводу поездки в варварскую державу, где понятие о порядочности не совпадает с гринвичем. Мы не в Руане. И все-таки скажи. Ирина Владимировна прогуливается. Ирина Владимировна украла конфетку. Жует. Уютно закинув ножку на ножку, сидит Леонардик с гвоздикой в петлице, это бесчисленное явление. Ну, хорошо.
Ходите медленно, следите за походкой, у нас плохие, скверные походки. Я была исключение. Вырабатывайте походку, больше писать не о чем, сокрушаюсь о содеянном, прошу принять во внимание мою разрозненную жизнь, была всегда на грани, не владела собой, была слишком застенчива, не верила в то, что я кому-нибудь желанна. Скоро, скоро поток гостей вольется в эти унылые комнаты, скоро крикнут: горько! Пир горой. Ну, чего ты копаешься, ворчит Леонардик. Жениху свойственно волноваться. Я в последний раз выхожу замуж, но я не горячусь, я просто счастлива жить и работать в этой стране, посреди такого удивительного народа, и если кому не угодила, извиняюсь. И ты, Виктор Харитоныч, не будь строг! Что ты хочешь? Баба!
Но зато какая красивая… И напрасно говорит мой милейший Станислав Альбертович, что я бабушка русского аборта. Обижает… Прижимаясь к подругам жизни или минуты, кто не думал в тот миг обо мне, кто не думал: с ней, только с ней я чувствовал себя королем, она незабываема, и я решила сохраниться в лучшем виде, я вам дарю покой, и из подвала уголовного морга несите бережно мой труп: я вас любила. Я встала и пошла в ванную, вот моя столбовая дорожка, за дверью шум, и бедная мамаша с трудом сдерживает осаду. Матушка! Ты была страшная дура, но мне нравится, как ты закричишь! Кричи, не стесняйся!.. Леонардик, подай мне шлепанцы… Куда? К тебе, дорогой и любимый. Лапочка ты мой, я к тебе. До встречи! Я знаю, что за дверью пустота и на дворе мартовская слякоть, что воздух влажный и гнилой, что столы ломятся от яств, и я ничего не говорю, так не лучше ли пойти в ванную и принять теплый душ, пусть расслабится моя охваченная старостью шея! Пусть свадьба идет на убыль. Убирайтесь! Я вас сочинила, чтобы сочинить себя, но, рассочинив вас, я самораспускаюсь как персона, но перед роспуском замечу невпопад: пейзаж ранней весны в Москве без брюта слишком сир, итак, пейте шампанское! я для вас купила три ящика, там, на балконе, возьмете, если мороз за ночь не разорвал бутылки, ой, Леонардик, а вдруг разорвал? Какая без шампанского свадьба? Я выпила и закусила семгой. В желудке найдете косточки. Уходя к своему жениху, скажу, что ничего вам не скажу.
Все правильно, и вы, пленительные американки, напишите очередной протест. В нем будет горечь непонимания стерляжьей ухи и брусничного варенья, в нем будет сказано, что братство женщин не знает границ, объединившись в муке пиздорванства. Я сегодня сделала так, что вместо бермудского треугольника вы обнаружите волосатое любящее сердечко. Витасик, ты знаешь, я всегда была немножко сентиментальна. Я ходила в твоем белом свитере по твоей богатой квартире и ждала чуда. Оно случилось: ты меня полюбил навсегда.
Но обстоятельства превыше нас и всего остального, сегодня мы говорим друг другу нежности вокзального свойства, только не хватает проводника, итак, пора, а то они успеют. Я карабкаюсь к потолку по мыльной табуретке, которая служила мне для стирки белья, и мыло затвердело, я лезу вверх, и входит Леонардик. – Жанна, – говорит он, – на этот раз вы выбираете такой способ? – Да, – отвечаю я. – Ну, что же, это вполне по-хамски. – Да, мой повелитель, – соглашаюсь я. – Да, мой неземной жених. – Поцелуемся?
И мы целуемся. Помиримся? И мы миримся. Жизнь трудна. Я делаю шаг к нему. Бросаюсь в объятья. Крепче! Обними меня крепче, милый! Войди, войди в меня, коханый!.. Ой, как хорошо!.. Ой, как кружатся стены и полотенца!.. Ах, как неожиданно! Еще!.. Ну, еще!.. Сдави сильнее! сильнее сдави! Ну, еще. Дай мне сладко кончить! Ты меня совсем задушил, любимый… Ой, нет! Не надо! Больно, дурак!
Не х-а-а-а-а-а-а-ххх-хх-ха…ха…ххххх…ха…
Свет! Я вижу свет! Он ширится. Он растет. Рывок – и я на воле. Я слышу ласковые голоса. Они подбадривают и одобряют. Гудит газоаппарат. Я вижу ее: она мерно покачивается. С таким щедрым пузом. Прощай, лягушонок! Не дрыгайся, ты поскорей засыпай, ты спи, баю-бай, лягушонок! Я смотрю на нее: она затихла. Умытая счастливыми слезами. Матушка отворяет двери. Гости хлынули. Свадьба! Свадьба! А где же невеста? А вот и невеста. – Здравствуйте.