Синдром пьяного сердца (сборник) Приставкин Анатолий
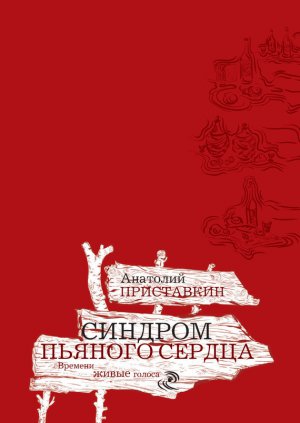
Что там было с ним, не знаю. А что с нами, знаю. Прониклись мы к нему, понимаете ли... С тех пор только по имени-отчеству. Вся студия... А как в съемочную группу оператор требуется, так к нему, первому... Отличным малым оказался... сейчас вот приедет... - добавил осветитель.
И я, вздохнув, произнес:
- До буфета, что ль, дойти? Я ради встречи с ним на теплую тутошнюю водку согласен... Такую дрянь... А суп дают холодным! - ругнул и ушел в буфет.
На другой день приехал оператор, спокойный, деловой. И дело пошло. И опять по-южному ласковыми, синими-синими вечерами сидели мы в домике у Режиссера, пили сухое вино, коньяк, водку, но хорошо охлажденную водку, и нас развлекал своим бесконечным репертуаром актер из еврейского театра. И фильм...
- Она лежит, японочка, а ей шлют бумажных голубей... - фантазировал Режиссер. - Весь мир, все дети мира... И горы, горы этих голубей! Вот в чем истина! Люди должны любить друг друга. Друг мой! - Это ко мне.
А потом случилось это несчастье. Собачка подавилась косточкой. И все потому, что в ресторане, куда наш дрессировщик ходил за едой, по нерасторопности вместо телячьей косточки положили в миску куриную... А кормящий не заметил.
Я застал тот момент в домике, когда Режиссер кричал на актера, а тот сидел в уголке на стуле, пришибленный, жалкий, и что-то бормотал в свое оправдание.
- Зачем вы здесь? - громогласно вопрошал Режиссер. Голова его тряслась. - Чего вы тут вообще делаете? Что вы можете, если не способны даже накормить собаку?
И актер встал и, горбясь, стали видны сразу его годы, вышел за дверь. Я видел по глазам, как он страдал. Не за себя, за собачку. Косточку-то из горла извлекли, для чего на студийной машине, забросив съемку, возили к лучшему хирургу Ялты...
Собачку спасли. Но актеру не простили. Выставили вон, даже не дали двух дней собраться. Я застал его в нашем фанерном домике вместе с осветителем, где они, в полусумраке затемненной от солнца комнаты, молча пили дешевое болгарское вино из двухлитровой пузатой бутылки.
Пригласили и меня, и я, подсев к столу, принял стакан и закусил помидором - это единстве-нное, что было нам по карману: семь копеек килограмм.
- Уезжаете? - спросил я актера, хотя знал, что он уезжает.
- Да. Я чуть не угробил бедного пса, - отвечал он, наклоня голову, и в глазах его, голубых, влажных, была собачья тоска.
- Но... может, еще остынет... Он вообще-то не злой ведь человек, сказал я про Режис-сера.
- Он добрый человек... Правда. И когда за меня попросили, он меня взял. Хотя для меня не было роли... Но он все равно меня взял...
- А чего ему? Жалко, что ли? - отмахнулся осветитель. - Евреем больше, евреем меньше...
- Но другие же не брали! - Он странно засмеялся, откидывая голову, глаза его были влажные. Я вдруг понял, что он плачет. Плачет оттого, что стар и никому не нужен... И жизнь прошла... А его, знаменитого актера, унизили, заставив прислуживать собаке... Пока не дали пинка под зад...
Он отыскал в кармане платок, высморкался и ушел в туалет.
- Может, вы не знаете... Он был первым актером театра, - сказал осветитель. - Его великий Мейерхольд ревновал к славе... А эта дрянь...
- Косточка?
- Нет.
- Собака?
- Да собака при чем! Она лишь походит на своего хозяина...
Актер вернулся. Мы снова налили по стакану буро-красного вина, чуть терпкого на вкус, и не чокаясь выпили.
Актер сказал:
- Прощай. Не мне, осветителю. А тот кивнул. А я добавил:
- До свидания.
Но они почему-то меня не услышали.
Да я был молод тогда и не знал, что люди иногда так прощаются.
На съемках фильмов я больше никогда не бывал.
Но это ведь было давно. Очень давно. Сейчас их никого уже нет. И Режиссера нет. Хотя после этого он снял немало добрых, очень гуманных фильмов... И они идут...
Вот недавно по телевидению...
Но, правда, этого фильма, про умирающую девочку, я не видел ни разу. А если в каком-то фильме, в кадре, возникает крошечная рыжая собачка с приплюснутым носом, я вздрагиваю, как от электрического тока... У меня на весь вечер портится настроение.
Хотя... если подумать, собачка-то, она тут при чем?
Я накапал в крышечку коньяку и произнес с чувством: - Великий актер привет. - А подумав, добавил: - И осветитель...
ПТИЧЬЕ ГОРЛЫШКО
(Семья)
Моя бывшая жена любила пошутить. Однажды, когда за праздничным столом у моей тещи, а значит, у ее мамы, делили рождественского гуся, она объявила, что муж, то есть я, обожает птичье горлышко. Ну так обожает, так любит, что сердится, когда ему, то есть мне, это горлышко почему-то не дают.
Ну а что такое горлышко, даже у самой благородной птицы, описывать не надо, это что-то вроде пружины, где между спиралями-костями застряло кое-какое мясо. И нужны большие стара-ния, терпение и крепкие зубы, чтобы это мясо в крошечных дозах оттуда извлечь. Многим это удается плохо. Мне же не удавалось совсем.
Так с легкой руки моей бывшей жены с давних пор и до сего времени, когда режут за столом птицу, мне подают только горло. Да я уже и не отказываюсь. Прежде отказывался и объяснять пытался, но все напрасно. Люди понимали так, что я слишком скромен и не хочу кого-то обделить своим любимым горлом, а бывшая жена добавляла при этом, что у нее есть подруга, которая тоже ("тоже" - это про меня!) чудачка, она страстно обожает рыбьи глаза...
Представьте себе рыбьи глаза. Ну какой с них навар? Интересно, над ней тоже пошутили или она и в самом деле питает страсть к рыбьим глазам? Ведь где-то и про меня, наверное, говорят: представляете, такой чудак, ну такой чудак, страстно обожает птичье горло... Гусиное, утиное, куриное... Надо еще добавить - воробьиное! Будет невероятно остроумно!
В общем, я смирился. Тем более что к теще и тестю на праздники приходили разные родственники, а иногда наши близкие друзья, и все они были на сто процентов убеждены, что, принимая у себя, они могут меня обделить, если не подадут мне в тарелке птичье горлышко.
Кстати, стол у тещи и тестя всегда ломился от закуски, но особенно хороша была треска, запеченная кусочками в сметане, и пирожки с капустой. Не все умеют делать так, чтобы капуста была рассыпчато-белая. А секрет состоит в том, что ее надо сперва обваривать кипятком...
Тесть обычно сидел во главе большого стола и хозяйским оком окидывал нас всех - детей и внуков. Мы могли и не так уж часто звонить или не приезжать, но уж несколько раз в году, в дни рождения, например, в Новый год или на Первое мая, мы должны были всем семейством прибыть в гости, в парадной, как говорят, форме, с детишками, тоже празднично наряженными, чтобы сесть дружно за общий стол.
Для меня, детдомовца, не знавшего прежде ни дома, ни семьи, такой порядок дома, культ дома и семейного гнезда, был внове, но я его с радостью принял.
Тесть работал геологом, ездил по сибирским рекам, а теща за ним. Когда он вышел на пенсию, занялся моим идеологическим воспитанием, для чего каждое воскресенье присылал мне телепрограмму передач на неделю, где красным карандашом было подчеркнуто самое главное, что я должен смотреть, синим более второстепенное, а зеленым - случайное.
В разряд случайных попадали всякие рок-группы, эстрада и заграничные фильмы, если они шли, в то время как красным цветом обозначался "Университет миллионов", политобозрения, особенно Зорина и Жукова, где обличалась Америка, а также патриотические фильмы... Такие, как "Сказание о земле Сибирской".
Тесть умер, но я полюбил этот патриархальный обычай и возмечтал, что и сам когда-то по их образцу буду сидеть во главе стола окруженный внуками, а то и правнуками...
А что касается птичьего горла, так теща была ни при чем, она не могла знать, что ее дочь так шутит. И уж она-то старалась для меня особенно. И без горла я у нее никогда не сидел. И в то время как все гости, в том числе и моя бывшая жена, вкусно обгладывали сочные лапки, нежные крылышки, белую спинку или жирную гузку, ну все, что ни дадут...
Я, поглядывая на них голодными глазами, выскребал мои ровные миллиграммы из отврати-тельной, ненавистной мне шеи, делая вид, что мне хорошо.
Но мой рассказ совсем не про шею, хотя такая незначительная шутка могла повлиять, да, наверное, и повлияла на мое отношение к застолью, к бывшей жене и ко всем, кто меня когда-нибудь принимал.
Однажды позвонил мой приятель по Литературному институту Герман Фролов, в прошлом геолог, и пригласил на свой день рождения. У него случилась круглая дата. Когда-то мы ездили вместе в Братск, даже поработали там на стройке, потом мы бывали друг у друга в гостях, и Герман смешил моих детей тем, что умел шевелить ушами.
Но до этого он был на моей свадьбе в Братске и даже написал какие-то стихи.
А на моем тридцатилетии Герман прославился тем, что у шоколадной красавицы утки, украшавшей праздничный торт, он на глазах изумленных гостей и моей родни открутил утиную шоколадную голову и съел ее. "Это же утка!" закричал он победно и попытался открутить головы шоколадным утятам, которые плыли за мамой-уткой по белому крему... Но ему не дали.
Выяснилось, что он азартный охотник и к уткам у него особая страсть.
Моя бывшая жена, не удержавшись, произнесла:
- Тогда мы дадим тебе от запеченной утки голову... А я радостно вскричал:
- И шею!
Бывшая жена сказала, что она поедет к Герману на юбилей прямо с работы на метро, а я чтобы приезжал на машине, не забыв купить цветов, а уж из гостей, как заведено, машину поведет она сама. Поскольку она не пьет. Мы и прежде так делали: я вел машину в одну сторону, в гости, а жена обратно, в то время как я, будучи навеселе, распевал громко песни.
Водила моя бывшая жена неплохо, и мировая статистика утверждает, что женщины-водите-ли менее аварийные, поскольку они меньше пьют...
Но все равно, когда руль в руках женщины, я быстро трезвею, в какой-то момент осознав, что лучше за рулем пьяный муж, умеющий нажимать на тормоза, чем трезвая жена, которая, приближаясь красному светофору, отчего-то прибавляет скорость. А потом сильно удивляется, что нужно затормозить, а тормозить уже поздно, и непонятно, что в таком случае делать.
В тот вечер на ближнем к нам рынке почти не было хороших цветов, так что пришлось проехать на другой рынок, и я прилично опоздал к началу юбилея.
С букетом роз я шагнул за дверь, услышав нестройный шум голосов, а потом чей-то вскрик: "Идет, идет!" И сразу почему-то стало тихо. Это всеобщее внимание должно было меня насторо-жить. Но я слишком торопился, переживая опоздание.
Влетел в комнату, не совсем понимая, что же произошло.
А между тем передо мной открылся длинный стол, прямо от дверей в глубину квартиры, и бутылки, и закуска, и лица... Множество лиц, с интересом обращенных ко мне, застрявшему в дверях, будто они все ожидали от меня чуда.
Смущенный таким вниманием и необычной тишиной, я потерянно пробежал глазами по лицам и увидел желаемого мной юбиляра во главе праздничного стола, а рядом мою жену, демон-стративно державшую перед собой рюмку.
И в тот момент, когда я остановил на ней взгляд, она подняла руку повыше, чтобы я получше рассмотрел эту самую злосчастную рюмку, и тут же медленно, (ме-ед-ле-н-но!), как-то слишком показательно, всю ее осушила.
Тут гости всплеснулись, захохотали, закричали "браво", даже зааплодировали ей. А моя судьба на весь вечер, да и на всю ночь, была решена.
Собственно, в этом и заключалась ее шутка, что перед самым моим появлением она сказала:
- Посмотрите, какое лицо будет у моего мужа, когда он войдет!
Думаю, что лицо у меня было и впрямь ужасным, и не случайно. Нетрудно было предста-вить, что меня ждет. Я весь вечер пил лимонад, потому что должен был теперь вести домой машину. Но мне еще всучили пьяных гостей, чтобы их доставить домой, и пришлось их, плохо помнящих свой адрес, развозить. И кто-то вдобавок наблевал мне в машине...
Вернулся я домой трезвей трезвого, проклиная и юбилейного дружка, и машину, и мою остроумную женушку...
И свою собственную жизнь.
Ко всем прочим бедам, мне конечно же положили в тарелку то самое, пресловутое, нетерпимое мною горло.
- Но зачем, зачем тебе потребовалось выпивать? - повторял я, ощущая себя кругом несчастным. - Тебе нужна была эта рюмка?
- Нет, - отвечала бывшая жена. - Но это же интересно.
- Какой же интерес заставлять меня мучиться? - стонал я.
- Зато какой эффект, - возразила она. - Это была лучшая шутка вечера. Я думала, ты упадешь в обморок, такое было у тебя лицо! Но ты держался молодцом.
- Какое у меня было лицо?
- Сам знаешь какое.
- Не знаю.
- Какое бывает у мужчины, когда он не выпьет.
- Значит, трагическое!
- Ну, если это трагедия!
- А что же это? - простонал я.
- А это уже, мой дружок, комедия...
- И то, что наблевали в машине?
- А вот это серьезно. Но я берусь убрать.
А все-таки лучшая шутка произошла этой ночью, подумалось. Когда я застрял в лифте. И, лучше чем сама жизнь, не умеет шутить никто. И какое у меня сейчас лицо, можно себе лишь представить.
Я не стал наливать в колпачок, надоело. Я отхлебнул прямо из горла: "Герман, привет". А второй глоток - за шутников и за шутниц! Хоть в древние времена говорили иначе: "шутиха".
Когда-то на моей свадьбе нам, новобрачным, подарили складную байдарку, наполненную всякими другими подарками, и Герман описал это в стихах:
Разгорелась печка жарко в старом клубе, у реки,
Вносят легкую байдарку жениховские дружки,
Вносят бережно подарок, россыпь яблоков по дну,
И вино различных марок поднимает на волну...
Заканчивалось оно довольно бойко:
И жених не хлещет водку, пьет румынское вино,
Я б женился, дайте лодку! Сыпьте яблоки на дно!
Он и в самом деле потом, непробиваемый холостяк, по моему примеру, женился, хоть лодку ему и не дарили... Звали ее Катя - длинные волосы и заливистый такой голос, дома в застолье она с удовольствием пела русские песни. Но Германа она не любила. Это было заметно сразу. При всех костила его, особенно за то, что не умеет зарабатывать, а от стихов его никакого прока...
И жених не хлещет водку, пьет румынское вино...
Мы встретились в Переделкине в нелегкий для нас обоих час, и я отчего-то спросил:
- Герман, я вспомнил почему-то твои стихи, посвященные свадьбе... А почему вино - румынское?
- А шут его знает, - отвечал. - Мне показалось, что ты пил румынское вино... Ребята внесли тогда эту лодку на своих плечах, все были поражены, а в ней даже два спортивных костю-ма и посуда, и яблоки, и вино...
- А ты... Ты какое пил?
- Не помню. - сознался он. - А разве не румынское? Теперь я задумался.
- Может, болгарское? Или венгерское?
- Если ты настаиваешь, я заменю, - сказал он. И прочел вслух: - "И жених не хлещет водку, пьет венгерское вино..."
- Нет, румынское все-таки лучше, - согласился я. - Звучит по-другому. А водку, ты прав, я тогда еще не пил... Ну, то есть не хлестал... Это потом...
- После развода?
- Да. Я несколько лет по чужим домам скитался. С Библией и пишущей машинкой, все, что я взял из дома.
Ну, еще иконы. А вот на антресолях в бывшей квартире я заложил вино, в честь детей - Ивана и Дашки, - четыре бутылки, привезенные из Крыма, с датой их рождения. Хотелось, понимаешь, соблюсти традицию, ну, как в лучших старинных домах. Ты ведь помнишь, я об огромном столе мечтал... Как у тестя с тещей... Стол, а кругом чтобы дети, внуки, даже правнуки пусть... И я всех их угощаю... И такая радость, что они вокруг меня... А тут недавно бывшую жену встретил на улице, спрашиваю: вино-то, мол, цело? Которое на антресолях... Его бы достать, когда им по восемнадцать будет! Она лишь рукой махнула:
- Иван как-то остался на воскресенье дома, я уезжала, и пригласил дружков... Возвраща-юсь, а они все, что было, осушили и заодно твои памятные бутылки...
- Коллекционные! - воскликнул с досадой я. - Им же больше пятнадцати лет!
- Они пропустили за галстук и не заметили, - произнесла со смешком жена.
- Но там ведь и Дашкино вино?
- И золотой корень... Лекарство стояло... И его... Такая теперь, оказывается, традиция.
- Так ты, говоришь, румынское пили? - спросил я Германа.
- Не помню, - отвечал он. - Но пилось хорошо. Мороз за сорок... Аж сосны трещат... И Падун рядом... И вносят байдарку...
- Может, теперь "русской" дернем? - перебил я. И мы пошли в комнату и разлили из моего корыта.
- Ну? За детей? За внуков? За байдарку? За то вино, которое поднимает на волну? - предложил я. - У тебя сынка-то зовут Максим? Ты его хоть видишь?
Он не ответил и предложил:
- Хочешь, я пошевелю ушами?
- А шейку куриную ты мне не хочешь предложить?
Он удивился, спросил:
- А ты и шейку разлюбил?
- А еще кого?
- Да нет, я просто...
- Да уж шейку мне никто не предлагает.
- А я "моржом" заделался, в проруби купаюсь, - сказал вдруг он.
Мы еще добавили по пятьдесят граммов и закусили яблоком. И разошлись. Он ушел в свою комнату, а я в свою.
Я жил в крошечной комнатушке под номером восемь в коттедже на втором этаже, где покон-чил с собой, привязавшись ремнем к спинке кровати, известный по кино поэт и драматург Генна-дий Шпаликов.
"А не повеситься ли?" - подумалось вдруг.
Пора бы выпить и за свое собственное здоровье, так подумалось. Я приладился было к круг-ленькой бутылочке, задирая голову, поднял вверх глаза и чуть не поперхнулся. В лифте не было потолка, а был, как бы поточней сказать, некий амфитеатр, в котором из-за барьеров, в золоте и красном бархате, смотрели на меня рогатые зрители. Не знаю почему, только я не испугался.
- Вот так и живем, - произнес вслух, так чтобы они слышали. - Одни страдают, а другие себе из того, значит, театр... устроили... Значит, интересно, да? Как человек в угол сам себя загнал да еще изображает, будто ему все это приятно...
Влажные собачьи носы и волосатые острые уши напряглись, пытаясь меня уловить.
- Ничего себе подвальчик: то кошки с мышами, или алкоголики, или прости господи... Теперь еще эти... - завершил я свою мысль. И поскольку реакции не последовало, я добавил миролюбиво: - Ну, как вы насчет того, чтобы клюкнуть?
Черти завздыхали, хрипло прикашливая, но никто мохнатого копыта к бутылке не протянул.
- Ну, тогда идите к черту! - посоветовал я.
И тут они с легким шорохом испарились, оставив странный запах гари.
Я же, придя в себя, увидел тусклую лампочку, обшарпанные стены и себя в уголке, где, судя по всему, меня догнал короткий сон.
Но вот только запах гари и странное чувство, что за мной наблюдают.
"Ну, что ж, - подумалось. - Таков этот мир, что никуда без слежки, и черти тут не худший зритель, бывает и пострашней".
- Так за чертей, что ли! - спросил я, глотнув горячего. - Смотри, смотри, это мы, Господи!
МЫ ЭТО, ГОСПОДИ!
(Мы)
Переделкино - это страна, вселенная, мир... Где бродят по аллеям алкоголики и поэты (иногда это одно и то же), где кладбище, игрушечная церковка на взгорье, могила Пастернака, дачи генералов, адмиралов, валютчиков и бывших секретарей Союза писателей; где живой ключ чистой воды, где елки и сосны, где, сотрясая воздух, планируют самолеты, идущие на посадку; где в названиях переулков уживаются тени великих и ничтожеств; где легенды и мифы соседствуют с грустной памятью живых, где старомодный, приходящий в упадок Дом творчества, соединявший во все времена несоединимое: творцов, тунеядцев, мелкую шушеру, стукачей, алкашей, честолю-бивых провинциалов, блядушек всех мастей и несчастных пенсионеров.
И тех, кто потерялся, потерял место в жизни: семью, жилье, надежду - и вынужден скита-ться и проживать здесь на милости сердобольных литфондовских баб, протянуть время, и зажи-вить раны, и восстать к новой жизни...
Или повеситься...
Там и я отирался в мои не лучшие и довольно поздние годы, когда не стало ни дома, ни семьи. Было так глухо на душе, что уходил я в лес и кричал от одиночества.
Известно, что сказки особенно любят - среди взрослых - солдатики и заключенные. Бывшие детдомовцы тоже. Им недодано детства, и они компенсируют его чтением сказок.
Как-то досталось сидеть за одним столом со сказочником Александром Шаровым. Он во всем был сказочник: писал сказки, сочинил книгу о Сказочниках, да и сам он был одним из них, длинный, нескладный, и - пьющий. Выпивал он тихо, никому не мешая, но при этом мог на следующий день с виноватой улыбкой к вам подойти и спросить: "Простите, я вчера был... Как бы не в себе... Я вам, простите, вчера не помешал?" Это постоянное чувство вины преследовало его даже в снах. Один снился чаще других, он как-то рассказал нам, что ему снится, будто его хоронят и выносят на тесную межэтажную площадку гроб, но не могут никак развернуть, и ему так мучи-тельна эта процедура и потуги рабочих, что он вылезает из своего ящика и начинает им помогать...
Больше всего он боялся противоалкогольных лечебниц.
- Вы не представляете, - медленно и почти пугливо произносил он, и глаза его, прекрас-ные, чистые, сумрачно темнели. - Вы не представляете, Толя, как это страшно, когда вас запира-ют на ключ...
Еще он писал трагические рассказы о заключенных. Однажды он осмелился их нам прочи-тать. Я говорю, осмелился, потому что он уважал чужое время и особенно чужой покой, и для него было большим, почти непреодолимым препятствием отвлечь даже близко знакомых людей, ради своей персоны.
Рассказы же были поразительные, один про клоуна из цирка, который по доносу был аресто-ван и работал в лагере на лесоповале...
Однажды, обращаясь к нашей молодой застольнице, он спросил, а не приходилось ли ей ездить на курорт с возлюбленным? "А я, знаете ли, ездил..."
И тут же с мягкой улыбкой стал говорить о том, что вот ты с ней приходишь в вагон и у вас разные чемоданы, а потом как-то странно происходит, что она обязательно перемешает твои вещи со своими и какой-нибудь галстук ты обнаруживаешь среди, ее, простите, лифчиков... А вот почему?
В знаменитом "Новом мире" Твардовского мы прочитали в ту пору небольшой очерк Шаро-ва о сказочнике Януше Корчаке. Документальный рассказ о человеке, который сидел в еврейском гетто в Варшаве вместе со своими детишками, и, хотя ему предлагали свободу, он, чтобы облег-чить их последние страдания, пошел с ними в газовую камеру.
С тех пор мое отношение к Яношу Корчаку проходит через мир, через личность самого Александра Шарова. Они безусловно близнецы. Он жил так, что, я уверен, мог бы поступить так же. Один его очерк о воспитании детей начинался с картинки, где маленький сын его готовит уроки... Но забывшись глядит в окно. Отец же понукает, мол, хватит мечтать, работай, работай... И вдруг спохватывается: да что же делаю, свои уроки, пусть самые необходимые, он может и пропу-стить, а вот морозный закат за окном может уже никогда не повториться! А значит, и душа ребен-ка обеднеет...
Мы привыкли, что он исчезал на время. Но однажды он исчез навсегда. И никто этого не заметил. Переделкино жило своей жизнью. Судя по всему, он только так и мог поступить, то есть уйти из этого мира, никому не мешая. И некому уже в замечательную книгу, созданную им о великих сказочниках мира, добавить еще одну биографию... О нем самом...
Однажды сидел-посиживал я на крыльце Дома под колоннами. Местечко удобное и чтобы погреться на весеннем солнышке, и повидать, и посплетничать с коллегами, проходящими на обед.
Трое "Жигулей" лихо подрулили к подъезду, из одних вышел Миша Рощин, мы обычно звали его Мишель, из других - почти весь звездный состав тогдашнего театра "Современник", и, перекидываясь на ходу шутками и громко смеясь, они проследовали в Дом. Сам Рощин держал в руках чемоданчик и пишущую машинку.
- Ну вот, - объявил, поздоровавшись. - Вырвался... Точней - прорвался! К черту все... Понимаешь, устал от города! Теперь лишь писать и писать! А ты здесь работаешь? Давно?
Я отвечал, что работаю и давно.
- Ну, значит, будем общаться! - И он заторопился в корпус.
Через какое-то время, не успела тень от ближайшей сосны сдвинуться на полметра, вся компания вновь высыпала на улицу - знаменитости уезжали, Рощин их провожал. Прихихикивая, он подсел в одну из машин и, оглянувшись на меня, громко закричал, что сейчас он их до ворот лишь проводит и вернется... Заходи, мол, посидим. С тем и укатил. И заходить не пришлось. Он так и не появился. Только однажды уборщица, приводившая в порядок комнату для нового жильца, попросила меня забрать к себе его вещички.
- Срок-то к концу подошел, - посетовала она, - а его, значит, ищи-свищи... А у человека, может, путевка... Так куда ему ехать, если не освободилось место?
Я взял на вахте ключ и зашел в комнатку на втором этаже. Там я обнаружил чемодан, оставленный посреди комнаты, а рядом пишущую машинку. На столе стояло несколько пустых бутылок из-под шампанского и невымытые стаканы.
А еще через какой-то срок объявился на машине и Рощин. У него был белый "жигуль". И так случилось, что я снова сидел-посиживал на том же самом крьшечке, и первым, кого он увидел, был я. Он неуверенно приблизился, будто сомневался, туда ли попал. Вид у него был, мягко говоря, странный, помятый какой-то. Смущенно прихихикивая, он поинтересовался, а не помню ли я, случайно, комнату, в которой он как бы проживал.
Я сказал, что комнату, в которой он "как бы проживал", помню, она на втором этаже, но там проживает уже другой. А если он хочет получить свои вещички, то они у меня.
- Повезло, значит, - сказал он, - мне вовсе не радостно.
- А то они звонят... из этого, как его... Из Литфонда... Мол, освободите комнату, а я, честно говоря, забыл какую... А у меня, понимаешь... - легкий смешок в бороду, - странно получилось, что проводил ребят до ворот, потом до Москвы, а там еще поддали... Ну и остался ночевать дома, на денек... потом на другой, на третий... Дела навалились. И застрял...
Помолчав, спросил со вздохом:
- А ты, значит, так и работаешь? И давно?
Я сказал, что работаю. И давно.
- Господи! Хорошо-то как! - произнес он, оглядываясь. - А я так устал от города... Так мечтаю пописать... Ты долго еще тут будешь?
- Да буду, наверное, - отвечал я.
- Вот так и надо, - одобрил он. - Ты правильно живешь... И я... Я приеду. - Тон его был очень решительным. - Вот только развяжусь с делами... - пообещал он. - И сюда.. Тут такой рай... А там... - Он махнул в отчаянии рукой, забрал чемодан, пишущую машинку, погрузил в машину и уехал.
И пропал.
Рощин человек обаятельный, ласковый и безобидный. Голубые глаза доверчивые, светлая бородка, легкая усмешка. А главное, с ним легко. И без него легко, ибо он не навязчив настолько, что его как бы и нет.
Однажды я вывел "формулу" Рощина: человек, управляемый на расстоянии видимости. Ну примерно, как локатор. У него ультракороткие волны распространяются тоже в пределах видимо-сти. Вот и Рощин, пока с тобой, он разобьется в лепешку, если тебе что-то надо. А скрылся с глаз - и исчез... И никаких там уже звонков, дел или дружеских встреч. Он в это время чей-то друг еще. Но так, лишь до новой встречи. И опять он с тобой, и твой, и лучший друг задушевный, считай, до конца жизни.
Как-то вышел в "Новом мире" рассказ Рощина, кажется, это был "Бунин в Ялте". Блистате-льный рассказ, и Миша по такому поводу закатил пьянку в кафе Дома литераторов и всех на радостях поил, а я оказался случайно рядом, и он крикнул мне, чтобы я выпил с ним, за него, и тут же заказал для меня какой-то немыслимо дорогой коктейль... В проявлении чувств он непосредст-вен и широк. Временами мне казалось, что и внутренне мы близки, как и наша проза. Конечно, он ярче, мастеровитей, удачливей, что ли. Однажды он вдребезги разнес мой опус, отданный в "Новый мир". Мишель там работал у Аси Берзер в отделе прозы. Но сделал это так артистично, что я попереживал и не обиделся.
Однажды я посетил его в театральном общежитии на берегу Москвы-реки, где он проживал со своей второй женой - первая погибла в автокатастрофе актрисой Лидой: некрупной, большеглазой, смешливой и, по-моему, заводной. Судя по обстановке, жили они не легко, хотя, наверное, легкомысленно. То есть весело. И Мишель, чуть прихохатывая от смущения, попросил взаймы немного денег. Рублей так триста, чтобы выкрутиться. Он заработает, отдаст. А у меня что-то напечаталось, и, хоть было не жирно, я ему одолжил.
Мы тогда гуляли в парке культуры, на другой стороне реки, а я пришел с девочкой, в кото-рую был влюблен, и Мишель весь вечер ее смешил: был замечательно остроумен, обаятелен, так что девочка не сводила с него влюбленных глаз, а я даже почувствовал себя сибирским валенком и немного заревновал. А потом у него пошли пьесы - одна за другой, - и все успешно, а у меня, наоборот, наступило полное безденежье, и, когда он пригласил на одну из своих премьер, на "Старый Новый год" в филиале МХАТа, у Ефремова, я решился напомнить о долге. Он тотчас вернул, а при встрече, как бы вскользь, посмеиваясь, объявил, что он женился.
Это была Катя Васильева, великая актриса, ушедшая потом в монахини.
Помню, я еще спросил:
- Ну, ты теперь при деньгах?
Он удивился моему вопросу, кивнул, но потом как-то виновато стал объяснять, что он, видишь ли, не привык к большим деньгам и все, что больше трехсот, для него непонятно. И он затрудняется сказать, насколько он теперь обеспечен.
- Я только знаю, что у меня больше трехсот, - добавил он, хихикнув.
- Ну, жена теперь поможет сосчитать, - пошутил я.
- Нет, нет, - запротестовал он и добавил не без удивления, что она такая непрактичная... Даже больше, чем он сам. - И вдруг спросил: - А тебе нужны деньги?
От денег я отказался. Он пожал лишь плечами, произнеся, что всё другие берут.
- Я уж не помню, честно, кому сколько дал...
И при этом такая грустная усмешка. Мы оба знали, что это означает: всякие окололитератур-ные кусочники, как шакалы, почувствовали запах наживы и рвали... Рвали, сколько можно урвать, зная, что он не откажет. Отдавать же у нас было не принято. Это как бы налог за успех...
Однажды я вырвался поработать в Переделкино. От входа спросил дежурную, кто здесь "из наших". Оказалось, Рощин с женой. Бросив вещи, тут же к ним направился. Было еще не поздно.
Но на мой стук в дверь они с Катей откликнулись своеобразно.
- Ну, кто там еще? - спросил мужской голос. Это Мишель.
- Ну, раз стучат, значит, кому-то нужно? - Это Катя.
- А я-то при чем? - сказал Мишель.
- А я? Что, я должна, по-твоему, идти открывать?






