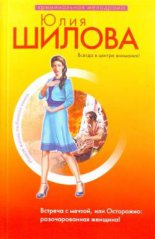Колокола Харвелл Ричард
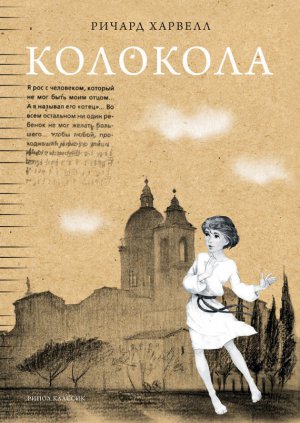
Я поблагодарил Бога за то, что мы находились на самой высокой башне в городе и наших криков никто не слышал.
— Тассо, ты следующий! — произнеся.
Николай поднялся на ноги и ухватился за ближайшую к нему веревку. Изо всех сил потянул за нее, но не рассчитал.
— Нет! — завопил Ремус. — Сейчас!
Очень скоро они уже тянули в унисон, и веревки пустились в пляс. Я закончил с ушами Тассо и принялся за Ремуса.
— А потом я закрою уши тебе, — пообещал Ремус.
— Мне не нужно, — ответил я.
— Как это так? — спросил он. — Ведь ты же оглохнешь!
У меня не было времени на объяснения.
— Моя мать, — сказал я, — она сама была колоколом.
Он озадаченно посмотрел на меня, но потом я заткнул ему второе ухо, и мы больше не могли разговаривать. Когда Ремус занял свое место, мне пришло в голову, что нужно было бы в последний раз обсудить с ними мои планы. Но Пуммерин раскачивалась уже так сильно, что ноги Тассо отрывались от пола. С каждым рывком Ремус приседал и потом вставал, когда Пуммерин шла в обратную сторону и влекла его за собой вверх. Николай, подняв руки над головой, тянул веревку к своему поясу.
Сколько пройдет времени до того, как она начнет звонить? И сколько пройдет времени, пока кто-нибудь не прибежит, чтобы остановить их? Нужно было идеально все рассчитать. Но перед тем, как уйти, мне предстояло сделать еще кое-что — я должен был выполнить свою клятву. Я бросился на колокольню. Лунный свет лился в нее со всех четырех сторон, отбрасывая на губы Пуммерин резкие тени. Я залез под колокол. Ее слабое раскачивание обдувало мое лицо холодным дыханием. Я рассудил, что первый удар зазвучит через десять минут.
Я снял с пояса нож и срезал кожаную обмотку вокруг языка, которую надели для того, чтобы приглушить сильный звон. Затем стал срывать куски кожи и шерстяную подложку. Дело шло медленно, но через несколько минут я освободил ее. Сегодня ночью она зазвучит так, как была создана звучать.
Я помчался вниз по ступеням.
— Продолжайте тянуть! — крикнул я, пробегая мимо взлетающих вверх и медленно опускающихся вниз моих друзей, но они не услышали меня.
Круг за кругом пролетал я по ступеням лестницы и достиг нефа, не упав в обморок. Задул свечу. Незаметно выскользнул из церкви и исчез в ночи.
На середине площади я услышал слабое гудение, и это наполнило меня такой радостью, что я остановился. Закрыл глаза. Первый раскат потряс ночь. Заставил задрожать меня с головы до ног. Смыл оставшийся страх.
— Да! — закричал я своим друзьям. — У вас получилось!
И еще как! Они звонили в самый большой, самый громкий колокол империи, чей звон был как шаги на небесах. Бум! Бум! Бум! Звон заполнял даже промежутки между ударами, и каждое ухо в Вене должно было слышать его сейчас. Солдаты подпрыгнули в своих кроватях, решив, что их окружает прусская армия. Императрица проснулась и послала за своим министром. В домах завопили дети, внезапно пробудившиеся ото сна. Собаки завыли, задрав головы в небо. Лед со снегом сползли с крыш. Стекла треснули в окнах по всему Инненштадту, почти до самого императорского дворца. Всем знаком был этот звон, но уж точно, думали они, никогда он не был таким громким за целых пятьдесят лет! Я выбежал с площади…
Вскарабкавшись на экипаж, я отвязал плиту, притороченную к крыше. С трудом поднял ее на плечо. В нескольких окнах дворца Риша еще мерцал свет, но то окно, что находилось ближе всего к экипажу, было темным. Наскоро помолившись и едва не опрокинувшись навзничь, на шатающихся ногах я сделал несколько шагов вперед и швырнул плиту в окно.
Раздался оглушительный грохот. Кувыркаясь, плита врезалась в окно, как пушечное ядро; зазвенело и забряцало по темной комнате разбившееся стекло, и мне оставалось только молиться, чтобы одни лишь мои уши расслышали эти звуки в громе колокольного звона.
С насеста на крыше экипажа я окинул взглядом улицу и, убедившись, что людоед не выглядывает из ворот, словно в дверь, шагнул в разбитое окно.
Пол оказался гораздо ниже, чем я рассчитывал, и, приземлившись, я тут же растянулся плашмя, прямо на битом стекле. Но через мгновение я уже вскочил на ноги, махнув рукой на порезы и царапины. Я отряхнулся от осколков, как собака отряхивается от воды.
Я оказался в комнате, напоминавшей библиотеку. Пихнул плиту под стол и, подкравшись к двери, стал прислушиваться. Вот тут-то удача и покинула меня. Сквозь громогласные раскаты колокольного звона я услышал чьи-то шаги и с ужасом увидел, как задергалась дверная ручка. Мои расчеты оказались ошибочными! Меня услышали. Едва я успел отпрыгнуть от двери, как она открылась, и в комнату вошла графиня Риша, собственной персоной.
Она закрывала руками уши, и рукава ее шелкового пеньюара спустились ей на плечи. Я удивился остроте ее локтей. Она бросила взгляд на разбитое окно.
— Чертов колокол, — пробормотала она и отвернулась.
Возможно, она вообще не слышала меня. Похоже, она искала что-то на полке.
Я не двигался.
Она нашла то, что искала, быстрым движением схватила это с полки и сунула себе в уши.
Конечно! Я понял. Она жила под самым колоколом. Значит, у нее были какие-то средства, чтобы защищать свои уши от звона. Когда она снова повернулась к двери, я все еще стоял там, надеясь, что она по ошибке примет меня за какой-нибудь забытый бюст или статую. Она стала вглядываться в меня при слабом свете луны, пытаясь разглядеть мое лицо. Попятилась.
Я бросился к ней. Но даже если бы граф Риша лежал в кровати в комнате за стеной, он не смог бы услышать ее.
Ее глаза широко открылись.
— Ты, — произнесла она, хотя я очень сомневался, что она могла расслышать себя в этом грохоте.
— Вы! — закричал я в ответ.
Я вскинул вверх свои длинные руки и склонился над ней. Она бросилась на меня.
Она царапала мне шею и пыталась вырезать глаза кинжалами своих заточенных ногтей. Я скулил и пытался закрыться от нее руками, но она была как львица — сплошные когти и яростный рев.
С каждым гулким ударом колокола она удваивала ярость своей атаки. Одной рукой она вцепилась в мои волосы, а другой пыталась свернуть мне шею. Я стал задыхаться. Она не могла слышать моего хрипа, но ее рычание отчетливо раздавалось в моих ушах.
Я выхватил нож и ткнул ей в лицо. Я промахнулся, но она заметила, как лезвие блеснуло в лунном свете, и отшатнулась, отпустив мою шею. Попятилась и прижалась спиной к стене. Я приставил трясущееся лезвие ножа к ее груди и начал глотать воздух.
Этот нож я купил для колокола. У меня не было желания пачкать его металл ее дьявольской кровью.
На полу стоял огромный сундук, который вполне мог быть поклажей какого-нибудь благородного генерала в военной кампании. И я подумал, что мог бы закрыть в нем графиню на время — пока не утихнет колокол и я не исполню задуманное. Я махнул ножом, приказывая ей забраться в сундук, что она и сделала, но от ее прощального взгляда мороз пробежал у меня по коже: в ее глазах я прочел, что следующую нашу встречу мне не пережить. Я опустил на сундуке скобу и снова приступил к исполнению своей миссии.
Дом был наполнен жизнью. К счастью, всем требовались обе руки, чтобы защитить от шума свои уши, поэтому и сами Риша, и их слуги выглядели всего лишь неуклюжими тенями в темных коридорах. Казалось, колокольный звон стал еще громче. Я представил, как три моих друга взлетают вверх и медленно опускаются обратно. У меня даже стало покалывать ноги — так дрожал дом.
Мои уши прислушивались к каждому шагу, к каждому голосу, проклинавшему колокол, и наконец я услышал тот звук, ради которого пришел сюда: детский плач. Бесшумно заскользил я вверх по лестнице, мимо изгибающихся теней, к этому плачу, а потом — по коридору, ведшему в покои Антона. Там я почти столкнулся еще с одной тенью, а когда она пробормотала: «Этот окаянный колокол!», понял, что это был сам Антон Риша.
Но он оставался глух к плачу своего сына, хотя крики раздавались из-за двери, до которой было не больше десяти шагов. Он пробежал мимо меня по коридору в сторону лестницы, без сомнения разыскивая свою мать. Я стоял, вжавшись в стену, пока не исчез звук его шагов. Потом снова помчался по коридору и ворвался в детскую.
XXIV
Сцена, которую я там увидел, разбила мое сердце. Как, скажите мне, двумя руками можно закрыть четыре уха? В полосе лунного света, льющегося из единственного окна, на голом деревянном полу лежала женщина, неестественно изогнувшись, как будто упала с лестницы. Правой рукой она прикрывала ухо ребенка, прижимая его головку к своей груди, и для себя у нее оставалась только одна левая рука. Изогнув шею, она вжималась головой в левое плечо, а свободной рукой закрывала себе правое ухо.
Наверное, это как-то действовало, но ребенок извивался в ее объятиях и надрывался от крика. Я бросился к ним и, выхватив ребенка, прижал его к своей груди. Одной рукой закрыл ему ухо, другой вытащил из кармана кусок воска. И, пока он бился у меня в руках, залепил ему сначала одно ухо, а потом другое. Лицо у него было красным, и плакать он прекратил только тогда, когда у него в легких больше не осталось воздуха на крик.
Я прижал его к своей выпуклой, как у птицы, груди — созданной для пения, а не убаюкивания младенца — и положил его голову себе на ладонь, длинными и нежными пальцами лаская его лоб. Колокол все еще сотрясал город. И я начал петь, чтобы этот ребенок — мой сын! — почувствовал внутри себя мой голос. Это успокоило его, так же как успокаивало его умиравшую бабку и его мать в то время, когда он появлялся на свет. Скоро плач затих, и он взглянул мне в глаза.
Мне было знакомо это лицо. Глаза его матери пристально смотрели на меня. А затем, когда я запел, эти глаза моргнули, и он заснул.
Лежавшая на полу нянька все еще пребывала в потрясенном состоянии и изо всех сил зажимала руками уши. Она с благодарностью подняла глаза, пытаясь понять, кто из прислуги пришел ей на помощь. А когда я сделал шаг вперед и лунный свет осветил мое лицо, она удивилась еще больше, чем Глюк, увидевший Орфея в своей комнате. Наверное, она тоже мечтала обо мне.
— Боюсь, мне придется запереть тебя в платяном шкафу, — сообщил я ей, а она лишь смотрела на мои двигающиеся губы. — Я не хочу, чтобы тебя в чем-то обвинили. Скажешь им, что ты сопротивлялась.
Нет, она ни слова не поняла, но позволила подвести себя к платяному шкафу и вошла в него, как будто я помогал ей забраться в экипаж. И я запер ее в шкафу. Звать на помощь она не стала.
Я остался наедине со своим сыном Это милое спящее личико! Ангел у меня на руках! Но пока я склонял свою голову то на одну, то на другую сторону, грохот начал стихать. Я прислушался — теперь каждый гулкий удар был тише предыдущего. Тому было только одно объяснение: кто-то взобрался по лестнице и схватил моих друзей. Пуммерин продолжала раскачиваться по инерции, и это значило, что у меня оставалось всего несколько минут, пока она не погрузится в полное молчание, а сделать нужно было еще очень много.
Я завернул младенца в какие-то одеяла из его колыбели и побежал по коридору. Дом слегка успокоился — каждый нашел для себя укромный уголок, чтобы тихонько усесться в нем, зажав уши, и ждать, пока не прекратится колокольный звон. Но, спустившись до конца лестницы, я обнаружил, что Антон стоит у двери кабинета графини Риша — у двери к моему спасению.
— Матушка! — крикнул он.
Вошел в комнату. Посмотрел на разбитое окно.
— Матушка! — снова крикнул он.
Уши у него были заткнуты, и свой голос он, наверное, слышал так, как если бы он доносился из конца длинного туннеля.
— Матушка?! — еще раз крикнул он, стоя в трех шагах от сундука, из которого время от времени доносились глухие удары.
Потом Антон пожал плечами и закрыл дверь. Повернулся к лестнице. Если бы он поднял голову, то наверняка заметил бы меня, не спускающего с него глаз. Но он предпочел продолжить поиски своей мамаши на нижнем этаже.
Через мгновение я оказался в кабинете и поспешно закрыл за собой дверь. Одна моя нога уже стояла на подоконнике, когда взгляд мой упал на сундук. Скоба на нем была опущена, но в спешке я забыл запереть замок. Я исправил эту ошибку и выбросил ключ на покрытую льдом улицу.
Пройдут часы, прежде чем они извлекут ее наружу.
Я осторожно ступил на крышу экипажа и залез на сиденье Тассо, приспособленное коротышкой для себя, а не для музико, который ростом был в два раза выше его. Одной рукой я прижимам к себе драгоценный сверток, в другой держал вожжи. Осторожно, сказал я себе, с лошадьми ты управляешься как полный болван. Я тронул их с места так бережно, будто они были четверкой ревматических старух.
— А ну-ка тише, — ласково сказал я лошадям. — Не надо спешить. У нас впереди еще четыре сотни миль.
Мы доползли до дверей Штефансдома. Остановив экипаж, я услышал, как Пуммерин в последний раз ударилась о голый язык. Ее звон все еще висел в воздухе, но больше не ранил нежные уши Вены. Я спустился вниз и, крепко прижимая наследника семейства Риша к своей груди, пошел к церкви.
Все вышло так, как я и опасался. Я спрятался за колонной и, выглянув из-за нее, увидел своих друзей в оковах. Их стерегли трое солдат, а еще один человек, церковный Kirchner[68] что-то кричал им в лицо. Ткань, обертывавшая их головы, была снята, хотя кусок муслина все еще висел на шее у Николая, как шарф. Все трое время от времени ковырялись в ушах, вычищая оттуда воск.
— Да вы знаете, что сотворили? — ревел Kirchner. — Это же святой колокол! Вы всех в городе разбудили. Саму императрицу! Она, наверное, подумала, что нас враги осаждают!
Николай, прищурившись, пытался рассмотреть этого человека.
— Вы будете наказаны!
— Да я еще тысячу раз это сделаю! — воскликнул Николай. И воздел руки над головой, как будто собирался разорвать оковы. — Ни одна тюрьма меня не удержит!
Ремус приказал другу замолчать.
— Настало время смириться, — прошептал он. — Я бы предпочел свести к минимуму наше пребывание в имперской темнице.
— Годы в заточении! — завопил Kirchner. — Вот что вас ожидает. Посмотрите, что вы наделали! — Kirchner указал пальцем на церковный пол, на котором крошечные осколки цветного оконного стекла сверкали, как миллионы рубинов.
— Это можно исправить, — сказал Николай. — Тассо их за день вставит.
— А он сможет вставить новые стекла во всей Вене? — снова завопил Kirchner.
— Даже лучше, чем целая армия ваших безмозглых…
— Николай, — одернул друга Ремус.
Kirchner стал давать указания солдатам, чтобы те отвели негодяев в самую мерзкую из имперских тюрем. Двое солдат толкнули Николая к двери, третий взял двоих оставшихся. Я скрылся за колонной, чтобы они не арестовали и меня, за компанию.
Быстрее! — взмолился я.
И словно в ответ на мои молитвы, дверь храма распахнулась, и внутрь ворвался какой-то человек. Из-под длинного теплого плаща выглядывала белая ночная сорочка. Он увидел солдат с пленниками.
— Остановитесь! — возопил он и воздел вверх руки, словно дирижер, призывающий всех к вниманию.
Вся компания подчинилась его приказу. Kirchner внимательно посмотрел на него и задохнулся от изумления:
— Шевалье!
— Освободите этих людей! — заревел Глюк; казалось, он обращается к находящемуся вдали алтарю. Затем композитор подскочил к Николаю. — Дайте мне ключ! — приказал он ближайшему солдату.
Тот повиновался, и Глюк начал открывать замок.
— Позвольте, шевалье! — воскликнул Kirchner. — Разве вы не слышали? Это те самые, что звонили в колокол!
— Конечно те самые! — воскликнул Глюк, уставившись в самый дальний конец зала. — Я сам это приказал!
Николай был свободен. Он растирал запястья и с удивлением смотрел на композитора.
— Вы? — задохнулся от удивления Kirchner.
— Вы? — пробормотал Николай.
— Я! — заревел Глюк в небеса и принялся за кандалы Ремуса.
Тассо же, когда на него перестали обращать внимание, ловким образом сам высвободил руки, тихо положив оковы на пол. А потом скрылся за колонной.
— Но зачем? — спросил Kirchner. — Для чего?
Глюк оторвался от работы. Мне даже показалось, что он задержал руки Ремуса в своих руках, как сделал бы любовник.
Композитор посмотрел на пономаря:
— У вас что, ушей нет? У вас нет сердца?
— Я… у меня… есть… — заикаясь, произнес Kirchner.
— Тогда, мой господин, — сказал Глюк с упреком, — когда в следующий раз зазвонит колокол, предлагаю вам прислушаться, как красота зовет вас в ночи.
XXV
И вот мы оставили город. Тассо гнал лошадей так, будто все черти из моего прошлого преследовали нас. Утренние торговцы отпрыгивали с нашего пути, а мы все неслись на запад, пока наконец не выехали на дорогу, ведущую в Зальцбург. Еще не успев добраться до Хюттельдорфа, мы столкнулись с серьезной проблемой. Дитя снова начало кричать. Пение на этот раз не помогло. Тассо велел сунуть ему в рот мизинец, и действительно, на какое-то время ребенок замолчал. Ремус знал что к чему. Младенцы должны сосать что-нибудь еще, помимо пальцев, поведал он нам и велел Тассо остановить экипаж. Мы находились в каком-то унылом месте. Таверны и лавки вдоль широкой, покрытой выбоинами дороги были вполне пристойными, но жилые дома в переулках так покоробились, будто их долго вымачивали в воде. Вставало солнце. Скоро нас должны были настигнуть Риша.
— Мы не можем останавливаться! — запротестовал я.
— Это не обсуждается, — сказал Ремус. — Запомни, те, кто гонится за нами, будут искать четырех жалких оборванцев с ребенком. Нам же нужно вести себя так, будто мы — люди богатые. И мы должны как можно быстрее спрятать ребенка. Он кричит, да еще эта спешка… Это только привлечет к нам внимание.
Ремус сунул руку в небольшую шкатулку герра Дуфта, которая по-прежнему оставалась почти полной. Вынул золотую монету, вышел из экипажа и скрылся в одном из этих мрачных переулков. Скоро младенец перестал доверять моему пальцу. Он завопил, и кричал до тех пор, пока лицо у него не стало багровым. Кричал, пока в его легких не кончился воздух. Слезы катились у него по щекам. Я беспомощно смотрел на него и боялся, что совершил чудовищную ошибку.
Потом Тассо показал пальцем в окно. По переулку устало тащился Ремус. Прямо за ним, переваливаясь с боку на бок, двигалась странная фигура с длинными руками, свисавшими почти до колен. Людоед графини Риша? Но Ремус выглядел вполне довольным, и, когда они подошли ближе, я увидел, что он ведет за собой женщину. Очень высокую, округлую во всех нужных местах, как, впрочем, и во многих ненужных. Ее щеки скрывались в складках жира, которые доходили до необъятных размеров груди, а живот свисал почти до колен.
Ремус открыл дверь, и она просунула внутрь экипажа свое квадратное лицо. Ее подбородок выглядел гораздо мужественнее, чем мой. Черные волосы росли у нее в тех местах, где они не росли у меня. Она окинула взглядом Николая, Ремуса и меня. Младенец снова завопил, лицо у него посинело, но она даже не посмотрела в его сторону. Она взвесила в руке золотой герра Дуфта и снова оглядела нас, как будто пытаясь решить, стоит ли оно того.
— И столько же через три месяца? — бросила она Ремусу через плечо.
— Снова столько же. Но пожалуйста, поторопитесь. У нас мало времени.
— Я должна забрать свои вещи.
— Все, что вам потребуется, мы купим по дороге.
При этих словах женщина хитро ухмыльнулась, и экипаж накренился под ее весом, когда она протиснулась внутрь. Она нависла надо мной. Руки у нее были красными и обветренными, как у мясника.
— Вы отец? — завопила она, перекрывая рев младенца.
— Это мальчик его умершей сестры, — поспешил дать объяснение Ремус.
— Но он будет называть меня отцом, — выпалил я.
— Пусть зовет вас хоть папой Римским, — пробормотала женщина, — не забывайте только платить мне вовремя.
Я кивнул, подтверждая, что беспокоиться не о чем: платить вовремя ей будут.
— Дайте младенца сюда. — Женщина протянула руки.
Хотя я держал его очень бережно, ребенок брыкался и размахивал руками. Женщина выхватила его у меня и подняла вверх, чтобы осмотреть. Он заплакал ей прямо в лицо.
— С виду прекрасный мальчик, — сообщила она нам. — Как вы его назвали?
В суматохе нашего побега этот вопрос как-то не пришел мне в голову. Все посмотрели на меня. Младенец тоже повернулся и заревел в мою сторону.
— Его зовут Николаем, — ответил я.
Старший Николай от радости захлопал в ладоши.
— Ну, Николай, — произнесла женщина в самое лицо младенцу, — полагаю, ты не прочь позавтракать.
Мановением руки она согнала Тассо с его места. Рессоры кареты застонали под тяжестью ее тела. А потом она поразила нас всех: ее ловкие пальцы быстро расстегнули пуговицы сорочки, за чем последовал сочный шлепок. И мы уставились на две громадные набухшие груди и на сосок толщиной в палец.
— Рты закрыли, — бросила нам кормилица, подталкивая голову маленького Николая к этому мягкому кургану, но почему-то наши челюсти оказались очень тяжелыми. Она покачала головой: — Ладно, но не надейтесь, что я буду прятать то, чем зарабатываю на жизнь.
Звали эту женщину фрейлейн Шмек. И очень скоро мы ощутили на себе гнет ее власти. Одной рукой фрейлейн Шмек прижимала маленького Николая к своей груди, другой втирала масло в виски Николая большого (ее громадная рука легко могла обхватить его лицо), при этом она отдавала приказы Тассо, правившему экипажем, и перечисляла свои желания Ремусу и мне относительно того, что мы должны будем купить в следующем городе. К середине первого дня мы все молча размышляли о том, есть ли какой-нибудь способ выдворить ее из нашего экипажа. Но уже на следующий день, когда младенец был счастлив, а Николай чувствовал себя здоровее, чем за все прошедшие годы, когда стало достаточно тихо для того, чтобы Ремус мог читать свои книги, а между нами и Венецией простиралось еще немалое расстояние, мы отбросили все мысли о свержении нашего нового монарха. Дамой она была не самой светской, но, однажды осознав, что наше богатство каких-либо явственных пределов не имеет, решила зажить соответствующим образом. Начала покупать кремы и духи. В Зальцбурге заказала себе наряды. У ребенка должна быть одежда из шелка и хлопка, настаивала она, а также всевозможные подтирки и обертки, чтобы справляться с теми жидкостями, которые из него выделялись.
С того самого дня она правила нашим домом — был ли это экипаж или вилла — в течение семи лет, пока в 1769 году не потребовала купить ей небольшой домик над Неаполитанским заливом. Надеюсь, она и сейчас живет там и давит своими громадными кулаками виноградные гроздья, чтобы сделать из них сок или вино.
Таким образом, нас стало шестеро, и зимой мы перевалили через Альпы. Промчавшись через Зальцбург и Инсбрук, мы достигли невысокого Бреннера[69] как раз к ранней оттепели. А потом, весной, я услышал итальянский: на нем говорили беззубые крестьяне и их черноволосые дочери с блестящими глазами. Язык, предназначенный для оперы — как мне тогда казалось, — подобно щебету птиц, звучал из каштановых рощ, по которым мы проезжали. Мы снова и снова меняли лошадей, и с каждым днем солнце грело все сильнее и сильнее. Мы устраивались на крыше нашего экипажа, и Тассо вез нас вниз, к Венецианской равнине. Ремус, по обыкновению, сидел с книгой в руке. Николай призывал нас узреть чудеса, которые виделись ему сквозь его линзы: сочные виноградные гроздья, к марту уже созревшие; золотые самородки, лежавшие на дороге; и огромных птиц, паривших высоко в небе в лучах солнца.
Я пел арии, которые хранились в моей памяти со времен репетиций Гуаданьи, и крестьяне прекращали доить коров, чтобы послушать меня, когда мы проезжали мимо. Дети в изумлении бежали за нами. А в самом центре всего этого, на крыше громадной кареты, сидела, скрестив ноги, фрейлейн Шмек, подобно богине плодородия. И пока одна ее гигантская грудь обсыхала на солнце, к другой прижимался пухлый младенец, жадно наполняющий свой живот молоком.
Мне вспомнился один день в Небельмате — это было за много лет до нашего бегства через Альпы, — когда я сидел на краю колокольни, а моя мать звонила в колокола. Я глядел на изгибы дороги Ури, лежавшей далеко внизу, и на колонну солдат, медленно маршировавшую по ней. День был такой тихий, что я мог слышать бряцание сабель и крики ездовых. Должно быть, я слишком сильно выгнул шею и наклонился вперед, желая рассмотреть, что это за диковинные существа идут толпой мимо моего дома. Не думаю, что я бы упал вниз, но моя мать, хоть и была зачарована звоном своих колоколов, внезапно забеспокоилась. Она бросила свои колотушки и схватила меня, оттащив от края. Потом крепко обняла. Ее лицо было таким встревоженным, что я показал пальцем на колонну людей на дороге, как будто говоря: Мама, я просто смотрел на солдат. Она конечно же ничего не слышала, но, прищурившись, стала рассматривать сверкающий металл — черную человеческую змею, скользившую по дороге. А потом ее лицо стало грустным. Она посмотрела на солдат, потом снова на меня, как будто говоря: О, сын мой, прости меня.
И я так и не понял тогда, что она хотела сказать.
Но много лет спустя, когда я сидел на крыше экипажа вместе с сыном и друзьями и нашим глазам открывалась Италия, я наконец-то понял. Прости меня за то, что я сделала твой мир таким маленьким — вот что она хотела сказать мне. И там, на крыше экипажа, я улыбнулся, потому что понял, что она желала мне вот это все.
Николай, сын мой, возместил ли я все то, что украл у тебя? Заменила ли тебе моя любовь удел богатства и привилегированного положения? Твое двойное наследство? Пробегись мысленным взором по всему, что было. Наша жизнь в Лондоне, когда мы остались вдвоем. Было столько славы, что толпы собирались вокруг нашей кареты. Возможно, ты вспомнишь, что я любил кого-то еще, но в моем сердце они были всего лишь слабым отголоском той первой любви. Разве запах лошадиного навоза не вызывает в тебе воспоминаний о том, как мы путешествовали по италийским землям в нашем громадном черном экипаже? К тому времени на его окнах уже висели атласные занавески, его кровати устилали мягчайшие матрасы, а серебряные и золотые монеты — плоды моего успеха — падали на пол каждый раз, как фрейлейн Шмек перетрясала наши одеяла.
Конечно же ты помнишь кое-что о годах, проведенных в Неаполе. У тебя все еще оставалось три пары коленей, на которые ты мог усесться, помимо колен твоего отца. У тебя была нянька, которую ты любил, как свою бабушку. У тебя был крошечный Тассо, которого ты очень скоро перерос. У тебя был Ремус, которого ты называл дядей и книги которого ты крал и прятал под своей кроватью.
А четвертого из нас, Николая, твоего тезку, ты, скорее всего, забыл. Мы оставили его в Венеции. Мы похоронили его под булыжниками на узкой улице, как это обычно бывает в городе, без какого-либо знака над этим местом. Он прожил всего лишь шесть месяцев после того, как мы приехали в город, который он так мечтал увидеть. Как-то утром Ремус нашел его лежащим на полу — он так и не смог подняться с колен после ночной молитвы.
Что же касается нашей жизни в Венеции… Даже если твои воспоминания о ней смутны, тебе известно о ней все: и потому, что мы очень много об этом говорили, и потому, что она уже стала легендой. История не забывает своих героев, а в самом конце 1763 года, в ночь моего дебюта в Театро Сан-Бенедетто, этим героем стал я. Каждое письменное упоминание о моем голосе повествует о том, как поразил я венецианскую публику, а в книгах потолще говорится также и о тебе, младенце, которого я держал на руках, в то время как прекрасные женщины осыпали нас с балконов лепестками роз. И с той весны жизнь моя описывалась столь многими, что не мне тебе о ней рассказывать.
Но напоследок я запасся еще одной тайной.
Той весной, после нашего побега из Вены, Тассо привел наш экипаж к тому месту, откуда, взмахни он своим кнутом еще один раз, мы бы свалились прямо в море. И потом мы все вышли из него — маленький Тассо, гигант Николай, сгорбленный Ремус, тучная нянька, музико и его сын. Никому не пришло в голову сказать мне, что Венеция — это остров, что стало бы для меня весомой причиной стремиться к какой-нибудь другой цели. Я задрожал всем телом и сказал, что на паром подниматься не буду. Николай и фрейлейн Шмек держали меня, пока Ремус завязывал мне глаза. И, лежа на палубе, я мечтал только об одном — чтобы поблизости оказался мешок с гречкой, который я мог бы обнять.
Потом мы приплыли. В восхищении смотрели мы на великолепные дворцы, на волны, колышущиеся у их стен. Ремус придерживал Николая за локоть, чтобы тот не свалился в воду. Мы гуляли по узким улицам и покупали фрейлейн Шмек ткани, духи и украшения, какие она только пожелает. На площади Сан-Марко ты завопил от радости, увидев лодки на Большом канале. Николай посмотрел вверх, на тень, падавшую от базилики. Он кивнул мне, а потом бодрым шагом пошел туда, словно солдат, готовый противостоять неприятелю, значительно превосходящему его силами. Фрейлейн Шмек окружили уличные торговцы. Она щупала, нюхала и пробовала на зуб все, что они ей предлагали. Тратила наше золото. Тассо подошел к воде и уставился на морские суда. С нами остался только Ремус.
— Вы подождете нас здесь? — спросил я.
— Конечно, — ответил он.
Я понес тебя на руках по узким улочкам, на которые никогда не попадали лучи солнца, по мостам, на которых мы останавливались, чтобы ты мог посмотреть на проплывавшие под нами гондолы. Я спрашивал у каждого: Dov’e il teatro[70]? Все показывали, и я продолжал идти в этом направлении. Но потом ты, задыхаясь от восторга, вновь тянулся рукой к солнечному лучу, сверкнувшему в окнах дворца, или к Большому каналу, и тогда мы направлялись туда. Мы снова и снова терялись в городе, но все проходившие мимо снова и снова нам помогали, пока наконец мы не оказались у театра, который я искал, у Театро Сан-Бенедетто, чье название твоя мать и я так часто шептали друг другу. Едва перевалило за полдень, и маленькая площадь была пуста, хотя из самого театра доносились звуки репетиции. У здания был великолепный фасад с колоннами, наполовину утопленными в стене, и тремя двойными дверьми из полированного дуба. Я сел на ступени и посадил тебя себе на колено.
— Николай, — сказал я. — Вот мы и пришли.
Ты посмотрел на мой рот и подпрыгнул у меня на колене.
— Я так хочу, чтобы она была здесь, с нами. Но ее здесь нет. Я сделаю то, что она велела мне сделать. Я буду стучать в эти двери до тех пор, пока они не откроются передо мной. И я буду там петь. Мы будем богатыми, и всем станет известно наше имя. Она сказала, что именно так все и будет, и я уверен, что она была права. Николай, мы больше никогда не будем говорить о ней. Все то, что с нами случилось, будет нашей тайной. Мы никому не позволим связать несчастного кастрата из Вены с музико, которым я стану. Никто не узнает, что ты — краденый сын. Я не хочу, чтобы тебя отобрали у меня.
Ты перевел взгляд с моих губ на глаза, полные слез. Ты не понял ни слова. Но ты чувствовал мою печаль и выпятил нижнюю губу, собираясь заплакать.
Тогда я встал и, с тобой на руках, начал медленно ходить взад и вперед по пустой площади. Я крепко прижимал тебя к груди, позволяя миру еще целых десять минут дожидаться моего голоса. Потому что в эти мгновения, сын мой, я пел для тебя одного.
Примечания автора
Первое вдохновение пришло с обычными живыми звуками: пение моей жены, исполнявшей арию из «Орфея» Глюка; резкий металлический звон, доносившийся с колокольни церкви-недомерка где-то в Альпах; болтовня швейцарских коровьих колокольчиков; записи текстов средневековых хоралов, которые я делал в аббатстве Святого Галла. В своем исследовании я начал восстанавливать ту историческую обстановку, в которую собирался поместить выдуманных мною персонажей.
Аббатство Святою Галла было распущено по приказу Наполеона в 1805 году, и Целестин Гюггер фон Штаудах (1701–1767), таким образом, был третьим и последним аббатом. Аббат Целестин надзирал за реставрацией тысячелетнего аббатства, в том числе за возведением церкви Святого Галла, которая в настоящее время обладает статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что касается географии Вены семнадцатого века, я полагался на работу Йозефа Даниэля фон Хюбера Vogeschauplan der Wiener Innenstadt (1785). Имевшие дурную славу ветхие шпиттельбергские таверны были большей частью снесены в начале девятнадцатого века, но то, что в моем воображении стало домом Николая и Ремуса, стоит и по сей день, и на первом этаже этого дома действительно располагается очаровательное кафе.
Дворец Риша имел прототипом дворец фюрста[71] фон Клари, а дом Гуаданьи, более скромный, находился рядом со Скоттиш Гейт и до настоящего времени не сохранился. Премьеры большинства опер Глюка, Моцарта и Бетховена проходили в Бургтеатре, до того как его снесли в 1888 году. Описание деталей театральной механики и жизни Тассо под сценой основывается на знакомстве с отреставрированным барочным театром в Ческе-Крумлове.
О премьере «Орфея и Эвридики», состоявшейся 5 октября 1762 года, и событиях, ей предшествовавших, включая предпремьерный прогон 6 августа 1762 года (который состоялся, скорее всего, в доме у Кальцабиджи, а не Гуаданьи), существуют записи в дневниках графа Карла Цинцендорфа, которые он вел с величайшей тщательностью. Существуют также две очень скудные рецензии на премьеру, в двух выпусках Wienerisches Diarium[72], которые были напечатаны после представления и датированы 6 и 13 декабря. Ни в одной из рецензий имена исполнителей не упоминаются. Имена аристократической публики, перечисляемые Мозесом, я взял из списка абонентов лож в Бургтеатре.
Глюк уехал из Вены в Париж в 1774 году, где он и переписал «Орфея», сменив исполнителя главной роли с меццо-сопрано на тенора. Гаэтано Гуаданьи вернулся в Лондон в 1769 году и, не оправдав своей репутации, впал в немилость. Через два года он уехал оттуда. Отошел от дел и поселился в Падуе, где был известен как исполнитель сольных партий в кукольном представлении «Орфея» Глюка. Умер в бедности в 1792 году, раздав все состояние своим студентам.
Пуммерин была отлита в 1705 году из двухсот восьми турецких пушек и, просуществовав до 1944 года, погибла в огне во время пожара, возникшего по вине мародеров. Колокол был отправлен в переплавку и отлит заново. В 1957 году он вновь был водружен на колокольню. Он звонит каждый год всего один раз, при наступлении Нового года. Австрийцы смотрят на раскачивающийся колокол по телевизору.
Где-то около 1750 года граф Карл Ойген привез в Штутгарт двух итальянских врачей, для того чтобы они кастрировали маленьких мальчиков, и, таким образом, двор герцога стал единственным известным местом к северу от Альп, где систематически проводилась процедура кастрации. В Италии же мальчиков продолжали кастрировать для европейских оперных сцен в течение всего девятнадцатого столетия, хотя золотой век музико закончился — ценители оперы стали отдавать предпочтение тенорам. Последний музико, Алессандро Морески, пел в Папском хоре Сикстинской капеллы до 1913 года.
В тех нескольких местах моей книги, где история и вымысел вступают в противоречие, вымысел побеждает. Самый очевидный случай: на самом деле строительство Штаудаховой церкви закончилось только в 1766 году — слишком поздно, чтобы можно было кастрировать Мозеса и он успел бы спеть в опере Глюка. Сдвинуть строительство на несколько лет назад — преступление небольшое, и оно стоит того, чтобы совпало по времени создание прекрасного строения и потрясающей оперы Глюка, которые через двести с лишним лет стали бессмертными символами той эпохи.
Благодарности
Я очень благодарен Александре Мендез-Диез за многие часы вычитки и за комментарии, посланные ею через шесть часовых поясов и один океан. Я в неоплатном долгу пред Бриджит Томас за множество бесценных улучшений в языке и стиле. Большое спасибо писателям из Thin Raft[73], которые многие годы поддерживали меня.
Большое спасибо Дэну Лазару из литературного агентства «Райтерз Хауз» за то, что дал роману новую жизнь, и за то, что сделал его еще лучше. Спасибо Стивену Барру за его потрясающую проницательность. В Саре Найт я нашел фантастического редактора, чей безграничный энтузиазм заставлял меня продолжать работу. Я выражаю благодарность Шейе Ахарт, Кире Волтон, Карин Шульце, Линде Каплан и Кристин Коппраш за их усердие и поддержку. Спасибо Францу Гстаттнеру, Эрнсту Зоклингу и интернет-сайту собора Святого Стефана.
Папа и мама, конечно же без вашей поддержки и советов я не смог бы даже начать это. Ребекка и Сэм, спасибо вам за вашу любовь. Наконец, океан благодарности Доминик — без тебя не было бы этой книги.