Опрокинутый рейд Шейкин Аскольд
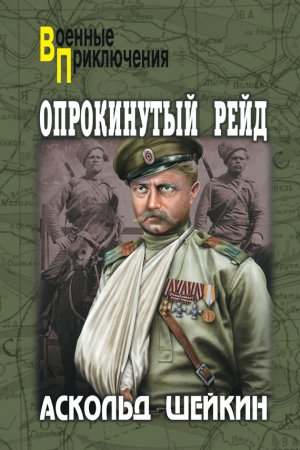
Шорохов взглянул на Варвару Петровну:
— Где это?
— И раньше где было, голубчики вы мои, в дому своем на Московской… Красивый такой домина, сердце радуется. Спросите дорогу, любой покажет.
— Зачем спрашивать, — сказал Варенцов. — Я и так найду.
Они вошли в дом. Комнатки были крошечные, заставленные фикусами в горшках и кадках. Пол покрывали дорожки из рядна. Вдоль стен стояли лысые плюшевые диваны.
— Пойдемте в управу, — предложил Шорохов.
Лицо Варвары Петровны покрылось красными пятнами:
— С дороги-то? Родные! Перекусить? Чайку? Притомились, протряслись.
Варенцов поддержал его:
— Главное — отыскать Митрофана. Как-никак, а крючок.
— Чем он торгует? — спросил Шорохов, когда через четверть часа они вышли на улицу.
— Маклерство, заклады-перезаклады, — Варенцов пренебрежительно махнул рукой. — Пустой человек. Я, бывало, посмеивался: «С тобой, Митрофан, тонуть хорошо. Весело будет. С песнями». Он на это: «Чего откладывать? Давай хоть сегодня».
• •
На центральной улице Козлова — Московской — дома были в два, в три этажа, каменные, с затейливыми крылечками. Почти возле каждого стояла небольшая толпа. Мужчины в сюртуках, зеленых и синих чиновничьих и военных мундирах, пышно разодетые дамы, чистенькие мальчики и девочки в матросках, девушки в легких изящных платьицах.
«Недобитая сволочь», — косился на них Шорохов.
Из калитки саженях в пятидесяти впереди них выбежал человек в черном пиджаке. Тотчас будто электрическим током пронизало всю разодетую публику. Пальцы рук, острия разноцветных зонтов пришли в движение, уставились на этого человека. Еще мгновение — мальчишки, а потом и мужчины, дамы с криками: «Большевик! Комиссар!»- кинулись вслед за ним, на бегу подбирая комья засохшей грязи.
Уже бежали и навстречу этому человеку. Он остановился у одной из калиток, толкнул ее. Калитка не поддалась. Его обступили. Беспомощно улыбаясь, он что-то говорил. Хотя от Шорохова это было саженях в ста, он отчетливо видел бледные губы этого человека, русую бородку, широко раскрытые глаза. Видел, как камень ударил его по лицу.
И вот уже на том месте, где только что стоял человек, грудилась в ярости колышущаяся толпа…
• •
У входа в здание городской управы Варенцов жестом отстранил со своего пути стоявших здесь молодых людей в офицерских кителях без погон, с белыми повязками на рукаве. В его движениях, выражении лица было нечто такое, что внушило почтение и этим стражам нового порядка, и тем, которые потом встречались на лестничных маршах.
Так же уверенно он прорезал благоухающую духами и помадами публику, заполнявшую коридоры. Шорохов и Нечипоренко не отставали.
Приемную председателя управы тоже заполняли господа и дамы. Почти все они обступали стол у входа в председательский кабинет. За этим столом сидел мужчина лет шестидесяти, плешивый, бородатый, с резкими чертами лица. Высокий худощавый блондин в пенсне горячо ему говорил;
— Я передаю интендантству корпуса пятнадцать тысяч рублей. Мало? Четыре мешка сахара! Тоже мало? Все, что я получил за работу у большевиков! До последней полушки! Но взамен в газетах должно быть распубликовано: «Я, гражданин Скоромников, заявляю, что был принужден стать советчиком и в этом раскаиваюсь». Ничего больше я не прошу! Но это мое право. Мое требование, наконец! Вы должны понять!
Плешивый бородач — как Шорохов сразу понял, это и был Митрофан Степанович — поднял глаза на блондина, чтобы ответить, но тут заметил их компанию. Он вскочил, растолкал обступивших стол, бросился к Варенцову. Они расцеловались. Блондин воспользовался моментом и юркнул в председательский кабинет.
— Постарел, посивел, — с интонацией Варвары Петровны говорил Митрофан Степанович. — Боже мой!..
Он обнял и Нечипоренко, и Шорохова, повторяя:
— С Дона! Господи! С Дона!
Они уселись на диване. Варенцов проговорил снисходительно:
— Не просто с Дона. От всего купечества Юга России. Гостями Донской армии едем. Не веришь? В штабе казачьем спроси.
Не сказав ни слова, Митрофан Степанович скрылся за дверью председательского кабинета и тотчас возвратился, ведя под руку круглолицего мужчину лет сорока пяти в кургузом коричневом пиджаке и серых коротких брючках.
— Господа, — ликовал Митрофан Степанович. — На ваше счастье! Знакомьтесь!
Вновь пришедший слегка поклонился:
— Чиликин — редактор-издатель ежедневной козловской газеты нового направления «Черноземная мысль».
Некоторые из господ и дам зааплодировали. Нечипоренко оглянулся на Митрофана Степановича:
— Эта хвороба зачем?
Чиликин, не смутясь, обратился к нему:
— Что вы, любезнейший! Я же не только газетчик, еще и издатель. И в таком смысле предприниматель, как и вы, господа. И признаюсь, господа, газеты, как таковой, пока нет. Всего только три часа назад генерал Мамонтов выдал на нее разрешение. Разумеется, вместе с правом распорядиться городской типографией… Ваш приезд будет гвоздем первого номера. М-м-м, примерно так: «Деловые люди освобожденного края! Вы больше не одиноки. Южные города России готовы протянуть руку помощи», — он достал из кармана блокнот. — Итак, вы прямо из столицы Дона? Как гастролирует там господин Вертинский? Как здоровье знаменитой путешественницы госпожи Граббе? Она все так же не отказывается от замысла пешком обойти все страны Европы? Что ставят в театре господина Бабенко? По-прежнему «Жрицу огня», «Искусство поцелуя», «Тайны гарема»? Вечные спектакли! Сколько в них… М-м-м!.. Видите, господа, мы в курсе событий вашей жизни, — втянув голову в плечи, он отступил на шаг. — Но все же вот и сенсация! Всего позавчера в этих стенах комиссары обсуждали свои кровавые планы, а сегодня я, редактор газеты «Черноземная мысль», интервьюирую посланцев деловых кругов Юга России… О чем вы намерены говорить с господином Калмыковым? — он кивнул на дверь председательского кабинета. — И знаете, господа, в древности считали, что мир держится на трех китах. Чепуха! Мир всегда стоял на торговле. Но смотрите: три кита — и вас трое!
— Нас четверо, — поправил его Шорохов.
— Прекрасно! — воскликнул Чиликин. — И кто же четвертый?
— Николай Мануков, ростовский негоциант, — с важностью вмешался Нечипоренко.
— Николенька? Господа! — обращаясь фазу ко всем присутствующим, возвестил Митрофан Степанович. — В былые времена Николенька Мануков играл у меня на коленях!
Снова раздались аплодисменты.
Варенцов что-то зашептал Митрофану Степановичу на ухо. Тот утвердительно кивал, улыбаясь.
Чиликин, наклонившись и тоже вполголоса, обратился к Шорохову:
— Трудно. Поверьте.
— Верю, — на всякий случай согласился тот.
— Но вы же не знаете, о чем идет речь. Я обещал генералу, что первый номер газеты будет выпущен завтра.
— И это возможно?
— Невозможного вообще ничего нет.
— В чем же трудность?
— В том лишь, что нельзя выпустить номер да еще первый, если в нем будет всего только предписание офицерам бывшей русской армии явиться для прохождения службы, тем более что сбор сегодня уже идет, и потому это вовсе не новость, ну и заявление командира корпуса. Где передовая, фельетон, комментарий, иностранные новости? Только тогда — газета.
— Простите, — тоже вполголоса ответил Шорохов. — Вы сказали: «Заявление командира корпуса». Это генерал Мамонтов?
— Да. Только что им подписано, — Чиликин приложил руку к боковому карману. — Великий документ. Бомба. Хотите познакомиться? Вы и ваши друзья… Конечно, при условии, что ваши суждения я включу в комментарий редакции. С поименной ссылкой, господа. Это важно для убедительности.
Митрофан Степанович вновь скрылся в кабинете Калмыкова, Шорохов же, Нечипоренко, Варенцов и Чиликин отошли к окну. Там редактор-издатель «Черноземной мысли» извлек из жилетного кармана золоченое пенсне, нацепил его на нос и развернул мелко исписанный лист.
— «К населению города Козлова и его окрестностей, — начал читать он торжественно. — Наши доблестные войска заняли район города Козлова. Объявляю всему населению, что вооруженные силы Юга России, частью которых мы являемся, борются за великую, единую и неделимую Россию…»- он прервал чтение. — За единую и неделимую, господа. Вспоминаете?.. Но разрешите продолжить… «Наши цели. Первое. Борьба с большевиками до полного их уничтожения. Второе. Созыв народного собрания на основании всеобщего избирательного права».
— Как? — спросил Нечипоренко. — И там это написано?-
«.. народного собрания на основании всеобщего избирательного права», — повторил Чиликин.
Желваки заходили на скулах Нечипоренко.
— «Третье, — продолжал Чиликин. — Удовлетворение земельной нужды крестьян. Четвертое. Охрана труда рабочего от эксплуатации капиталом и государством».
Но теперь уже не выдержал Варенцов.
— А ну, а ну? — он приложил руку к уху. — Снова.
— «Охрана труда рабочего от эксплуатации капиталом и государством». Варенцов отошел к двери председательского кабинета, заглянул в него, возвратился, насмешливо посмотрел на Чиликина:
— Калмыков! А я, грешным делом, подумал, кто-нибудь из комиссаров. Мол, дурачите старика, — он протянул руку к бумаге, которую держал Чиликин. — Большевики это писали. Пойдем, Христофор!
Он повернулся к выходу. Чиликин преградил ему путь:
— Любезнейший! Поверьте, и я, и генерал вполне разделяем ваши чувства. Но как же иначе выбить почву из-под ног большевистских агитаторов? Меня приход корпуса застал в Тамбове. Там генерал не делал никакого обращения к народу. По секрету скажу: там и не возникло никакой власти. А здесь — пожалуйста! Уже было проведено собрание наиболее достойных граждан, учреждена городская управа, в ней самые уважаемые господа: Калмыков, Углянский, Тарасов, Изумрудов, Савинский… Создан отряд самоохраны. Власть уже в надежных руках. Ни один большевик не уйдет от суровой кары.
— И-и что в Тамбове?
Нечипоренко испуганно смотрел на Чиликина.
Тот поморщился:
— Господа, не об этом же речь… Народ развращен. Большевики только и делали, что к нему обращались. Потому и решено выступить с программным заявлением. Тактический ход, господа! Но потому-то, я убежден, и нельзя опубликовать заявление генерала без какого-либо известия, впрямую говорящего о решительности белого движения. Иначе все приличные люди, вот как и вы сейчас, совершенно справедливо окажутся в недоумении. Хотя бы опубликовать сообщение, что союзники заняли Петроград. Что Москва восстала против большевиков… Пусть даже в такой форме: «От только что прибывших с Юга России господина Н. и господина М. стало известно…»-он снова нацепил пенсне. — Позвольте прочесть до конца. Вам многое станет яснее… «Пятое. Широкая децентрализация власти. Создание демократических земских учреждений. Шестое. Создание прочного государственного правопорядка. Упрочение законности. Мы воюем лишь с коммунистами-большевиками. Мирное население должно спокойно заниматься своим делом. Мною учреждены временное городское управление и милиция, к которым население и должно обращаться по всем вопросам. Для прекращения грабежей и насилий меры приняты. За все причиненные войсками убытки население будет удовлетворено казначейством по установлении нормальной жизни района. Командующий войсками генерал-лейтенант Мамонтов»… Совсем свеженькое, господа, еще хранящее тепло прикосновения высокой руки, — держа лист бумаги за уголок, Чиликин поднял его, словно колокол, и продолжал сушением: — «Осени себя крестным знамением, русский народ, ибо теперь уже не грубые самозванные комиссары, не безграмотные комбеды будут управлять тобой, а…» Ну и так далее, — вяло закончил он и опять воскликнул:- Но все же — новость! Оглушительную! Огромную!.. Вы представляете: типографский набор, хорошая бумага, четкая краска…
Шорохов не смог удержаться от усмешки:
— Но название…
Чиликин живо обернулся к нему:
— Позволили себе иронизировать? Напрасно. Идея командира корпуса. В открытую заявить, что белое движение могуче своей черноземностью. Глубокими корнями в народе, если брать это слово как символ. В нем, если позволите, суть программы, с которой явились освободители. С которой они победят.
В приемную вошел казачий офицер. Рванул дверь калмыковского кабинета, исчез за ней. Шорохов не успел разглядеть лица этого человека. Заметил только: высок, широкоплеч.
Дверь кабинета осталась приоткрытой. Оттуда вырвался накаленный до ярости голос:
— Вот же! Вот! Здесь написано!.. И тюрьмой будет заниматься, и к стенке ставить!.. Руки боитесь испачкать? А мы вам — собаки? Только и будем по каждому зову кидаться? Власть — так власть. Не забывайте: казачья армия может в любую минуту дальше пойти. С чем тогда тут останетесь?
Митрофан Степанович на цыпочках вышел из кабинета, притворил за собою дверь.
• • •
Чиликин, не прощаясь, удалился, а Митрофан Степанович и Варенцов минут пять о чем-то говорили в стороне, потом подозвали Нечипоренко. Может быть, они ждали, что Шорохов подойдет к ним, попросит не забывать его, свести с полезными людьми. В конце концов, компаньоны же! Этого он не сделал. В результате само собой получилось, что, выйдя из управы, они разделились. Нечипоренко, Варенцов и Митрофан Степанович повернули налево, Шорохов некоторое время стоял в раздумье, потом пошел в противоположную сторону — к городскому саду. Заходить в этот сад он не стал. Лишь поглядел в него сквозь ограду. Гуляющей публики было немало, вся разодетая, оживленная. Играл духовой военный оркестр. На танцевальной площадке господа офицеры и какие-то совсем юные девицы вальсировали.
Он пошел дальше. Теперь справа от него были соборы, слева шеренга двухэтажных домов с магазинами. В прогалах между ними виднелась заставленная возами и заполненная народом базарная площадь. И там, на площади, и здесь, у магазинов на Московской, меняли и продавали свертки материи, шинели, сапоги, мешки, кульки… Было много казаков, в большинстве своем пьяных. То один из них, то другой выгребал из карманов штанов пригоршню кусков сахара, швырял в уличную пыль. Подбирая сахар, оборванные мальчишки клубком крутились у ног казаков. Те хохотали:
— Славно большевики для вас сахару напасли!
Двери большинства магазинов были сорваны, мелом, мукой усыпаны входные ступени.
Шорохов остановился. Таким он себе все это и представлял. Стихия! «Твое ли?»- никто здесь не спрашивает. Знают: награбленное, и поскорей передают из рук в руки всякую вещь, чтобы потом иметь право ответить: «Я купил! Я сменял!» Но ведь и он, Шорохов, когда вернется из поездки, будет говорить Богачеву: «Приобрел у господ интендантов… у господ местных купцов…»
• •
Шорохова тронули за локоть. Он обернулся. Мужчина лет двадцати трех, невысокого роста, чернявый, в рыжем пиджаке, пристально смотрел на него.
— Господин — приезжий?
«Связной? — мелькнула мысль. — Наконец-то!» Но пароля он еще не услышал и потому спросил:
— Как вы угадали?
— У нас это нетрудно. Каждый новый человек на виду. К тому же я видел вас в городской управе.
— Вы — меня?
«Давай пароль!» — нетерпеливо подумал Шорохов.
— Да, — ответил чернявый. — Вас. И сразу понял, что вы из другого города. Не правда ли, странно: опять управа… То, се…
Говоря это, он настороженно оглядывался. «Связной?» — еще раз спросил про себя Шорохов, но уже с сомнением.
— Вы — продать или купить? — сказал чернявый. Нет. Это не был связной.
Снисходительно, совсем по-мануковски, Шорохов улыбнулся:
— А что вы можете предложить? — Все.
— Так не бывает.
— Бывает. Еще как! Сахар, крупу, муку, американские ботинки, галоши, мундиры, белье, сукно — английское, французское. И порядочной партией. Не привлекает?
Шорохов молчал. Конечно это не связной. Какое там!
— Недвижимость, — продолжал чернявый. — А что? Пожалуйста!.. Ну да она-то сейчас и верно никому не нужна. Другое дело вот это.
Он вроде бы даже не пошевелился, но в руке у него теперь оказалась пачка сиреневых и желтоватых, покрытых узорами и мелкой печатью, продолговатых листков. Он развернул их веером:
— Облигации «Займа свободы», первый выпуск и третий… Акции Общества русской горно-заводской промышленности… Русско-Азиатского банка… «Тульское анонимное общество на паях» — акции на предъявителя. По номиналу — пятьсот рублей штука. Отдам за двести. Романовскими, конечно, донскими — шестьсот. Знаете, сколько каждая из этих бумажек будет стоить уже через неделю?
— Вы имеете в виду, что казаки в ближайшие дни захватят Тулу?
— Почему бы нет? Три дня назад на акции нашего Общества скотобоен и холодильников никто не желал и смотреть. Сегодня попробуйте их купить! О-го-го!..
— Но какой вам расчет сейчас продавать?
— Ну, знаете… Такие, как я, продают все и всегда. Продают, чтобы снова купить… Понимаете? Я откровенен с вами, это плохо?
— И сколько же их у вас? — Шорохов потянулся к одному из радужных листов.
Слово «тульское» заинтересовало его. Если на черной бирже настойчиво предлагают эти акции, значит, казаки вообще не пойдут на Тулу. Не так ли?
Чернявый убрал руку.
— Э-э, нет, не здесь. Мы — фирма солидная. Если продавать, то по всей форме, а не так — на ходу, из-под полы. И только — товар против денег. Кредит, рассрочка — это все для других.
Шорохов прижал руку к боковому карману:
— О чем речь!
Опять настороженно оглянувшись, чернявый кивком указал на узкий, шириной в аршин, проход между домами, возле которого они стояли:
— Если серьезно заинтересовались, пойдемте… Не бойтесь, не страшно. Вы ничем не рискуете.
Кроме привычки то и дело озираться, во всем остальном он держался вполне обыкновенно, однако Шорохов напрягся. Лезть в щель между домами не хотелось.
— Идите первым, — проговорил он. — Пожалуйста.
Проход оказался очень короток. Десяток саженей. Далее начинался широкий, залитый солнечным светом двор. Там ходили люди, стояли небольшими толпами. Это была все та же базарная площадь! И всего-то!
К тому, что в узком проходе на него могут напасть, Шорохов был готов. Но, выйдя на ярко освещенную площадь, он беззаботно расслабился. В тот же момент ему на шею накинули петлю.
Он сразу повалился на спину, в ту сторону, куда и собирались рвануть тонкий волосяной шнур, чтобы перехватить ему горло. Это он сделал намеренно и как можно резче, с тем чтобы тот, кто находится позади него, если он стоял не слишком далеко, не успел отскочить.
Так и случилось. Теменем Шорохов ударил его в губы, зубы, нос. Руки Шорохова были свободны. Падая, он наудачу вскинул их. Дотянуться бы! Ему повезло. Он обхватил шею этого человека и всю свою силу вложил в ладони, в пальцы рук, почувствовал ими, как трещат, сминаясь, хрящи горла. Тело, на которое он и сам повалился, разом обмякло.
Прибежал чернявый. Видимо, он не понимал того, что произошло. Почему оба они на земле. Почему тот, второй, под Шороховым. На всякий случай ногой он ударил Шорохова по ребрам и уж затем наклонился над ним, приложил руку к его груди. Проверял, бьется ли сердце?
Шорохов захватил руку чернявого, рванул на себя, выкручивая.
Тот успел другой рукой выхватить наган и выстрелить, но пуля прошла мимо, а сам он перелетел через Шорохова и кубарем покатился в сторону заполненной народом площади, потом вскочил на ноги, побежал.
Шорохов поднялся с земли. Плечом оперся о стену ближайшего дома. Била дрожь. Так все прекрасно вокруг: солнце, много людей. И никто не попытался прийти на помощь. Занимались только своими делами. Уже установился такой порядок.
Он отыскал глазами того, который напал сзади. Неподвижен, как прежде. У ног его наган чернявого. Из-за этого, видимо, чернявый и убежал. Трусоват. Недаром же все время озирался.
Шорохов притронулся к подбородку, потом поднес руку к глазам. Она была в крови. Содрана кожа. Повезло. Шнур пришелся не на шею, а на подбородок. Потому-то бандитская пара и не смогла ничего с ним поделать. И еще в одном повезло: что их оказалось не трое.
С мучительным усилием он дотянулся рукой до бокового кармана пиджака: портсигар был на месте. Хорошо! И какая же слабость! Сделать шаг и то нету силы. Но и здесь оставаться нельзя.
После этого он бесконечно долго шел. Шел и шел, а вокруг простиралась все та же базарная площадь. И всюду на ней мужики, бабы, казаки что-то передавали друг другу, божились, переходили на крик, смеялись…
Еще одно больное место обозначалось на его теле — грудь. Там, куда пришелся удар ногой. Подлец! Как убедительно говорил!
«.. Неправда ли, странно: опять управа… Я откровенно с вами, это плохо?.. Мы — фирма солидная…»
И он верил.
— Парикмахерская.
Шорохов вслух прочитал эту вывеску и остановился.
Окошки утыкались в землю. Ступени вели в подвал. Опять бы не вляпаться, как только что.
Очень трудно давался каждый шаг по ступеням. В правом боку у него словно был вбит гвоздь и не позволял сделать вдоха. В то же время желание наполнить грудь воздухом все сильнее томило его.
В комнате, куда он вошел, стояло кресло. На полочке перед тусклым зеркалом белело блюдечко с кисточкой для бритья. Правильно: парикмахерская. Хозяина нет. Но дверь-то была открыта!
Осторожно Шорохов опустился в кресло. От боли едва не вскрикнул.
— Что же ты? — вслух обратился он сам к себе, будто это могло помочь. Из-за перегородки, тяжело передвигая ноги, вышел старик в грязном халате, небритый, сгорбленный. Через плечо у него висело полотенце.
Боль в боку не утихала. Бандиты! А он-то раскис: «Связной»… И предлагал этот тип все, что угодно. Вплоть до процентных бумаг. Самое глупое их сейчас покупать. Привлекло слово «тульское»… Смешно. Скупая товары, он в конечном счете сберегает их для Советской страны. Придут свои, все накопленное отдаст. Но тратить деньги на акции предприятий, которые наверняка уже национализированы? Нашли простака!..
Но почему же? Для него как раз скупка ценных бумаг ход очень удачный. Вполне убедительный для окружающих. В какой-то мере наивный. Выражает безусловную веру в победу белых. Но кто может знать? А если общий их с Богачевым капитал настолько велик, что допускает даже такую степень торгового риска? Зато ему, как агенту, иметь сейчас дело с таким товаром гораздо проще, чем при всей их бешеной гонке скупать муку, соль, сахар, перевозить, перетаскивать, устраивать на хранение, и притом — на глазах у таких спецов купеческого дела, как Варенцов, Манук ов, и, значит, с предельной истовостью, иначе они его в два счета раскусят. А ведь пора уже приступать к такой деятельности, чтобы тоже не вызвать подозрения у компаньонов да и у тех военных и гражданских, с которыми жизнь тут его сводит. Вот он и приступит.
Мало того! Недели через две он возвратится на Дон. В том же Ростове, на фондовой бирже, под вопли о скором захвате Москвы все это можно будет потом продать гораздо дороже, чем покупалось здесь, в круговерти мамонтовского налета.
Новая для него область торговли. Непривычная. Бесплодная по всей своей сути. Чистое спекулянтство. А то, что никто из компаньонов про такое его намерение прежде не ведал? На откровенность в делах он вообще ни к кому не навязывается. Главнейший купеческий принцип: втихомолку, сколь можешь, греби под себя.
• •
Заплачено было по-царски, но и парикмахер старался. Подбородок заклеил пластырем, грудь туго стянул бинтом. Заверил, что со временем все обойдется. Что и у господ фельдшеров никакого другого лечения в таких случаях нет. Бок, правда, болел. Болело плечо. Идти Шорохов мог лишь нисколько не напрягаясь. Торопиться же следовало. Близился вечер, а он не знал, введен ли комендантский час? Если задержат, пойдут объяснения. Он настолько слаб, что будет ему это мукой из мук.
И все-таки, выйдя на широкую площадь, на краю которой возле двухэтажного дома с балконом выстроилась шеренга людей в офицерских мундирах разных цветов, Шорохов остановился. Господ этих было десятка четыре. Шагах в пятидесяти от них стояло примерно столько же барышень, дам и мужчин.
Он догадался: это и есть то место, о котором говорил Чиликин, куда стекались офицеры бывшей русской армии, решившие вступить в корпус Мамонтова, а мужчины и дамы — их родственники. То, что он тоже здесь оказался, было редким везением, да и, слившись с толпой, он мог сколько угодно тут находиться, не привлекая ничьего внимания.
Из дома с балконом вышел казачий офицер, судя по погонам — полковник, проследовал вдоль шеренги, через каждый шаг останавливаясь и что-то спрашивая. Шорохов не слышал ни его вопросов, ни ответов на них. Зато родственники бывших господ офицеров стояли с ним совсем рядом. Их лица, слова, которыми они обменивались, жесты выражали, в общем, одно и то же: обиду из-за того, насколько непразднично все происходящее сейчас на площади. Больше всего были они обескуражены тем, что нет здесь Мамонтова. Мог бы лично приветствовать этих героев!
Их переживания не трогали Шорохова. Да, непразднично. Да, разочарование. Но и — в чем же герои? Предатели и приспособленцы вроде того истеричного гражданина в приемной у Калмыкова. Так вам и надо! И ведь многим из тех, что стояли в шеренге, Советская власть доверяла, ставила командирами, насколько могла лучше одевала, кормила.
Тут он увидел Манукова. В компании двух рослых военных в мундирах кофейного цвета он стоял у входа в дом с балконом. Один из незнакомцев поигрывал короткой тросточкой. Мануков что-то ему говорил.
Какое-то время Шорохов колебался. Подойти? Но в таком состоянии? С разукрашенной физиономией! Не подойти? Но если Мануков тоже уже заметил его, не решит ли он, что Шорохов следит за ним? Подозрительности в ростовском компаньоне хоть отбавляй. Да и не без пользы для разведывательного дела может быть эта их встреча.
Он пошел напрямик через площадь. Дамы и господа за его спиной заволновались:
— Есть! Есть еще благородные люди!..
«Да, конечно, — думал Шорохов от боли, которой сопровождался каждый шаг, все крепче сжимая зубы. — Есть. И сильные, и благородные».
Он прошел вплотную вдоль строя бывших офицеров, чтобы лучше вглядеться в каждого из них, хотя понимал, что в разведывательную сводку все увиденное никак не включить. Ему не запомнить сразу такое большое количество лиц.
— А-а, вот и мы, — нисколько не удивившись, приветствовал его Мануков и указал на своих спутников: — Знакомьтесь.
Он что-то прибавил на незнакомом Шорохову языке. Боль в боку и плече была настолько острой, что ему не удалось в ответ сделать даже легкого кивка.
— Иностранные офицеры, — пояснил Мануков. — Мои друзья. Я сказал, что вы преуспевающий русский купец из новых, возросших на дрожжах всей этой смуты. Они рады познакомиться с вами.
Шорохов сумел, наконец, отозваться:
— Особенно сейчас… Споткнулся.
— Споткнулись? — Мануков подмигнул. — Ничего. Мужчину синяк под глазом лишь украшает.
«Смейся, — подумал Шорохов. — Я-то выскочил, а вот ты бы?..» С трудом он пожал протянутые руки — боль резко отдавалась около сердца. Один из незнакомцев дружески похлопал его по спине. Он вынес и это.
— Вы нравитесь моим друзьям, — продолжал Мануков. — Они говорят, что мир принадлежит предприимчивым людям. Считают, что у вас хорошая выправка. По их мнению, вы прирожденный кавалерист.
Он даже не мог рассмеяться в ответ! Но сказал:
— Выправка теперь куда больше нужна в кабинетах. Чтобы любило начальство.
Незнакомцы заулыбались, выслушав перевод этих слов.
— Они говорят, — пояснил Мануков, — что русские шутят даже в самых удивительных случаях.
— Да-да, — Шорохов слегка наклонил голову в сторону офицерской шеренги и едва не выругался от нового приступа боли. — Мы шутим, шутят над нами…
Кто эти двое? Служат в корпусе Мамонтова? Любопытно. А если нет, то как они появились в Козлове?
Незнакомец с тросточкой что-то проговорил. Мануков обратился к Шорохову:
— Хотите с нами? Господа желают взглянуть на здание, где размещался штаб фронта красных. Интересно, не правда ли?
• • •
Они возвратились на Московскую.
Здесь все еще было много народа, занятого торопливой куплей-продажей.
По булыжнику зацокали копыта. В сопровождении шестерки верховых казаков катил экипаж. Обогнав их компанию, он остановился. Верховые спешились, выстроились поперек тротуара. Опираясь на палку, из экипажа вышел широкоплечий военный в синей шинели, прихрамывая, побрел к подъезду.
Мануков глазами указал на него:
— Мамонтов. А это «Гранд-отель», куда было я разогнался. Как чувствовал, что там остановится генерал. Ну а напротив — здание, которое нас интересует.
Чтобы не вызывать боль в груди, Шорохов осторожно, всем корпусом, повернулся к противоположной стороне улицы. Дом был кирпичный, а три этажа. У входа стоял часовой. Черными провалами глядели узкие окна.
— Выехали буквально за несколько дней. Рассказывают, вывезли даже ломаные столы.
Мануков затем снова заговорил на языке, незнакомом Шорохову, и тот, делая вид, что с интересом смотрит на часового у входа в бывший штаб, вслушивался в эту речь. В детстве ему несколько лет довелось быть певчим. Чтобы участвовать в богослужениях среди итальянских и греческих колонистов, он научился тогда на слух, нисколько не понимая смысла, будто мотив песни, быстро затверживать молитвы и канты на чужом языке.
Но какие же были трудные звуки! Лишь одну фразу он смог уловить. И то потому только, что она повторилась трижды.
Начал Мануков.
— Эйпл-сейк, итс со свиит ин чилдхууд, — нараспев произнес он. И его собеседники, улыбаясь, утвердительно и как-то умиротворенно друг за другом повторили эти слова.
Он потому еще запомнил их, что разговор тут же завершился. Один из незнакомцев посмотрел на часы. Все трое они кивками простились с Шороховым и направились ко входу в гостиницу.
«Мне тоже можно войти, — подумал Шорохов. — Не пропустят, изображу из себя дурачка: мол, сунулся вместе с приятелями. Хотел пройти в ресторан. Нельзя? Ну простите. К тому же Мануков, может, замолвит слово».
Но в те первые мгновения, когда это еще могло выглядеть натуральным, его внимание отвлек тощий парень в шинели, на костылях, наголо стриженный. Он оказался рядом с ним и протянул ладонь. На ней лежал серебряный образок на цепочке.
— Не купит ли ваше степенство? — парень скользнул взглядом по его лицу, по груди. — Рязанский я, недород там у нас.
Во взоре его была пристальность, с которой смотрел на Шорохова в первую минуту встречи там, у базара, тот, чернявый. Он отшатнулся:
— Иди. Ничего мне не нужно.
Еще раз оценивающим взглядом окинув его, парень запрыгал по тротуару.
— Любезный друг, — услышал Шорохов.
Он обернулся: Чиликин и Митрофан Степанович. Стоят в трех шагах. И эти тут же!
— Могу поделиться приятной новостью, — редактор-издатель «Черноземной мысли» счастливо улыбался. — Моя газета завтра выходит. Пока напечатанная на ремингтонах, но через два дня появится номер типографский, со всеми, как говорится, онёрами… Кто были господа, с которыми вы только что беседовали? — спросил он. — Я имею в виду тех, с кем вы общались еще до того голодранца, от которого так шарахнулись… Боже! Я только теперь разглядел. Кто вас? Где? Понимаю — сейчас вы готовы бежать от любого.
Шорохов нашел в себе силы отозваться в том же тоне:
— Полагаете, мне все тут знакомы? Чиликин иронически поклонился:
— Зачем же все? Я — газета! Господин во френче со стеком — сэр Бойль; господин во френче без стека — сэр Декстр. И тот и другой — англичане, артиллерийские офицеры, прикомандированные к корпусу Мамонтова британской миссией в Новочеркасске. Мой вопрос о них — для проверки. Пристрелка, как говорят в таких случаях. Третий — вот кто предмет моего внимания.
«Англичане. Прикомандированы к корпусу. Все точно», — отметил про себя Шорохов.
— Так кто же он, третий? — повторил Чиликин.
— Как это кто? — Шорохов обратился к Митрофану Степановичу. — Ваш Николенька. Николай Николаевич Мануков.
— Какой же Николенька, — возмущенно сказал Митрофан Степанович. — Ошибаетесь. Или шутите над стариком. Конечно, годы прошли, но…
— Ах вот как! — почти одновременно с ним воскликнул Чиликин. — А прибыл-то он в вашей компании?
Что все это могло означать? Мануков не тот, за кого себя выдает? Шорохову ничего не хотелось ни спрашивать, ни отвечать. Скорее бы вернуться в дом, лечь.
Его собеседники тоже молчали.
— А потом генералы отбудут, отбудут, — мрачно произнес Чиликин. — Блеск потускнеет… Знаете, что всего удивительней? Штаб корпуса в Козлов так и не входил. Почему? Хотелось бы задать этот вопрос господину, о котором мы сейчас говорили. И учтите: ему-то известно все.
Он торопливо простился и пошел вниз по улице. Провожая его глазами, Шорохов думал: «Итак, Мануков — самозванец. То, как он познакомился с варенцовской дочкой, ложится тут кстати. Но ведь мало того! Для истинного купца вся его гордость: „Мой товар… Моя лавка… Моя, еще от дедов, фамилия…“ А тут?.. К тому же знакомство с британскими офицерами, беседа в усадьбе с полковником, допрос, который он мне там устроил… Какой там купец! Он, как и я, секретный агент. Только из белых. В этом и дело».
— Пошли-ка, сударь, домой, — оборвал его думы Митрофан Степанович. — А то маешься-маешься…






