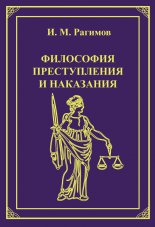Примкнуть штыки! Михеенков Сергей

Двое из их взвода, в оборванных, окровавленных шинелях, не дожидаясь помощи и перевязки, побрели в тыл. Они шли, спотыкались на комьях земли и кореньях деревьев, которые, вывороченные из земли взрывами, торчали там и тут, как арматура, падали, снова поднимались и, вытянув вперёд руки, словно слепые, потерявшие поводыря, но не потерявшие надежды, брели дальше. Курсанты провожали их злыми, завистливыми взглядами и думали: легко отделались, сегодня к вечеру будут в Подольске…
Туда же, в тыл, стали выносить и других раненых. Военфельдшер Петров и несколько курсантов складывали их в ряд под берёзой. Им помогал пожилой боец из взвода старшины Нелюбина. Тот самый, случайно назначенный санитаром. Воронцов издали узнал его.
– Перевязывайте быстрей! Лейтенант, перевязывайте, грузите в машину и везите не медля в госпиталь! – командовал капитан Челышев.
Раненые кричали, стонали, кто-то без конца звал маму, кто-то просил воды, а кто-то – покурить. Их трясло, выворачивало. Другие умирали молча, словно стеснялись обременять немощью своей истаивающей жизни тех, кому повезло остаться невредимыми. Иные – даже не приходя в сознание. Никого ни о чём они уже не просили, потому что ничего им было уже не надо. Их не страшили ни опасность повторной бомбёжки, ни возможная, с минуты на минуту, танковая атака, ни вся война, которая заполнила огромное пространство и составляла теперь суть жизни людей на сотни, тысячи километров вокруг.
Во втором отделении тоже были потери. Бомба попала в бруствер траншеи на стыке с третьим отделением, разворотила окоп, в котором прятались двое курсантов. Селиванов и Краснов помогли Воронцову вытащить их полузасыпанные землёй тела и перенести к дороге.
– Убитых – в воронку. Расширьте внизу лопатами. Побыстрее, побыстрее. – Капитан Челышев торопил курсантов и бойцов. – Складывайте в ряд. Плотнее, плотнее. Сейчас ещё и артиллеристы своих принесут. Оставьте место.
– Сдвигай, ребята, левый фланг. Всех надо уместить.
– Да куда уж, и так плотно положили. Пускай бы артиллеристы своих в другую воронку…
– Сдвигай-сдвигай. Им теперь не тесно. Всем места хватит.
– В два ряда придётся…
– Не надо в два ряда. Дай-ка лопату.
– Пошёл ты!..
Чтобы не слушать дальше нелепые препирательства курсантов, голоса которых время от времени заглушали звон бьющегося стекла, Воронцов сложил своих мёртвых на дне воронки, поплотнее сдвинул их друг к другу и пошёл искать Алёхина. После налёта он его не видел. И только теперь вспомнил о нём.
Алёхин лежал на дне траншеи вниз лицом. Похоже, он тоже был контужен. Воронцов нагнулся к нему, перевернул на спину.
– Живой?
Посиневшие губы Алёхина вздрогнули:
– Живой.
– Тогда давай вставай. Где твоя винтовка? Где она? Я не вижу её.
Алёхин тряс, мотал головой и не мог оторваться от земли. Казалось, он вжался своим телом в каждую ямочку на дне окопа, в каждую пору земли. И с каждым мгновением он сильнее и сильнее врастал в землю, спасшую его полчаса назад во время налёта.
– Встать! – закричал Воронцов; он не понимал, что с ним происходит, он действовал машинально, словно в нём сидел кто-то другой, более сильный и решительный, который точно знал, что надо делать. – Взять оружие!
– Сань… Сань… Ты что, Сань?.. – Алёхин поднял голову. Видно было, с каким трудом ему это удавалось. Голова тряслась, плечи и спина дрожали. На подбородке запёкшаяся кровь. Сгусток запёкшейся крови. «Похоже, – подумал Воронцов, – что тоже из ушей натекло. Контузия. Тоже контужен. Здесь все контуженные. Убитые, раненые и контуженные».
– Я плохо слышу. Говори громче. Я думал, ты ранен. Вставай. Где твоя винтовка?
Они начали лопатками выбрасывать со дна полузаваленной траншеи комья земли, куски изрубленной древесины. И каждый очередной ком выброшенной им земли, ударившись, отзывался уже не только в его ушах, но и во всём теле звоном и хрустом бьющегося стекла. Но винтовку Алехина они нашли в другом месте, за траншеей, под поваленной берёзой. Видимо, её смахнуло с бруствера взрывной волной. Приклад треснул пополам, ствол согнут в дугу. Осколками изуродовало и заклинило затвор, пробило магазин, сорвало намушник. Алёхин взял винтовку в руки, положил на колени, попытался вытряхнуть из затвора песок и заплакал.
– Ну не мог я за нею подняться! Когда они налетели… Сань, что мне теперь делать? Меня отдадут под трибунал?
– Вот, возьми пока мой автомат.
– А что ротный скажет? Кто я теперь без винтовки? Знаешь, что может быть за утрату личного оружия?
– Винтовку можно найти в траншее. Раненых уносили без оружия. Их винтовки где-то здесь. Поищи.
– А номер?
– Да кому теперь нужен твой номер? Давай, пока тихо. Где-нибудь найдём.
Алёхин побежал по траншее. Он перешагивал через стволы деревьев, протискивался мимо своих товарищей, которые копошились повсюду, выбрасывали из-под ног землю, поправляли брустверы, извлекли из завалов свои вещмешки, боеприпасы и личные вещи. Алёхин заглядывал в пустые ячейки, откуда только что вынесли убитых и раненых. Он уходил всё дальше и дальше, где искать винтовку было уже бессмысленно. Но остановиться он уже не мог.
– Ты кого ищешь, Алёхин? – окликнул его сержант Смирнов, когда курсант заглянул в его ячейку. – Воронцов жив?
– Жив. А винтовку мою… Взрывом, видать… Вот ищу себе другую.
– Ты что же, мудак, на бруствере её, что ли, оставил?
– Может, и на бруствере. Разбило в дребезги.
– Вдребезги. Котелок небось от осколков спрятал. Ищи теперь, раззява. Скоро атака. С чем в бой пойдёшь?
Алёхин не ожидал, что сержант Смирнов, этот простецкий малый, балагур и насмешник, который не имел привычки тыкать курсантам под нос своими сержантскими петлицами, может быть таким жёстким. «Вот он и доложит теперь лейтенанту, что я потерял винтовку», – шевельнулся в груди у Алёхина новый страх. Голова его гудела, и во время резких движений её нужно было придерживать.
– Оружие собрали и унесли туда. – Сержант махнул рукой в тыл.
«Нет, Смирнов не доложит, не такой он человек», – успокоился Алехин, с благодарностью посмотрел на коротко остриженный, в потных потёках затылок сержанта. Одним броском, который освоил уже здесь, на передовой, в окопах, он выбрался из траншеи и побежал туда, куда уносили раненых. Голову от боли раскачивало, виски сдавливало какими-то вибрирующими спазмами. Он поддерживал голову обеими руками. Каждый шаг ударами боли отзывался в затылке.
– Куда это он? – Из траншеи выглянул помкомвзвода Гаврилов. – Алёхин! Куда?! Ты ранен? Нет? Назад!
Алёхин в нерешительности остановился. Оглянулся. Он хотел было крикнуть старшему сержанту, что сейчас же вернётся, что он вовсе не ранен и не струсил, что только до старшины и обратно, но в это время тяжёлый снаряд, упруго шелестя, будто продираясь по тесному коридору, пролетел над обороной второго взвода и лёг на пригорке неподалёку от санитарных машин. Другой тут же поднял чёрную грязь на дне лощины. Третий тоже упал с недолётом. Так начинался первый артиллерийский обстрел, один из многих, которые предстояло пережить подольским курсантам в эти дни под Юхновом. Тяжёлые 105– и 150-миллиметровые снаряды полевых гаубиц вспарывали землю в лощине и в поле, вокруг шоссе и в березняке. Курсанты и десантники снова замерли в ячейках.
Вскоре стало ясно, что немцы сконцентрировали огонь своей артиллерии и миномётов в узком коридоре вдоль шоссе. А это могло означать только одно: они готовили атаку и артогнём пытались проломить коридор. Мины с чавканьем и резким металлическим хряском ложились так плотно, что, казалось, немцам и получаса будет достаточно для того, чтобы перепахать всё пространство справа и слева от шоссе вместе с окопами залёгших здесь людей, изорвать своими осколками и погубить всё живое.
Курсант Денисенко снова впал в состояние полной подавленности и был похож на сумасшедшего, который вот-вот сделает с собою что-то последнее, чтобы положить конец своим мучениям.
– Всё! Мины! Мины! От них в окопе не спрячешься! Нам крышка! Неужели это кому-то не понятно?! Уведите меня отсюда! У-ве-ди-т-те-е!
На него уже не обращали внимания. Никто его не жалел. Никто не утешал. Никого он уже особо и не раздражал.
Остро, сквозь маслянистую вонь толовой гари, запахло свежей мочой. Воронцов оглянулся и увидел, как по дрожащим штанам Денисенко расплывается тёмное пятно. «Ну, вот и ладно, – подумал он, – может, теперь ему станет легче».
– Да воскреснет Бог, – шептал второй номер пулемётного расчёта курсант Краснов, сжимая в грязных бледных ладонях маленькую бронзовую иконку-складень, – и расточатся врази его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его…
«Молись, Краснов, молись, браток», – подавленно и в то же время с надеждой думал Воронцов, вжимаясь в свой ровик и вслушиваясь то в подвывающий свист очередной мины, чтобы определить, куда она упадёт, то в слова молитвы курсанта Краснова. Воронцов и раньше, ещё в училище, видел у Краснова этот маленький, величиной с карманное зеркальце, складень. Краснов носил его аккуратно завёрнутым в белый носовой платок в кармане гимнастёрки вместе с письмами из дома. Никому никогда не показывал. За это могли отчислить из училища, исключить из комсомола.
– Да что же наша-то артиллерия молчит?! Твою капитана-мать! Заступиться за нас некому…
– Точно лупят.
– Против ихнего калибра нашим лучше помолчать.
– Будто ёлочки сажает…
– Чтоб мне неделю горячей каши не видать! Их корректирует наблюдатель! Бьют с закрытых позиций. Начинали робко, а сейчас лупят по самым головам. – Помкомвзвода Гаврилов достал из полевой сумки бинокль. Никогда прежде Воронцов бинокля у него не видел. Должно быть, трофейный. Гаврилов человек бывалый, разжился нужной вещью в первом же бою. Сквозь копоть и дым Гаврилов, как ни старался изловчиться и повыше высунуться из окопа, ничего не мог разглядеть там, куда время от времени выглядывали наблюдатели. За рекой и широкой лощиной, в которую переходила пойма, стеной стоял лес. В воздухе то и дело рыскали в поисках цели осколки, фыркали, как живые злобные существа, и Гаврилов приседал на корточки и матерился.
Дивизион капитана Россикова молчал, и было непонятно, то ли он полностью уничтожен ещё во время бомбёжки и не осталось ни одного исправного орудия, то ли артиллеристы действительно не хотели себя обнаруживать стрельбой по не определённым целям, готовясь к тому, что ещё должно было произойти, и произойти скоро, вот-вот. Должен же быть смысл у этого артобстрела. Не просто же так немцы бросали снаряды по площадям, будто ощупывая позиции курсантов и десантников.
Непосредственно по шоссе немцы огня не вели. На дорогу не упала ни одна бомба. Снаряды и мины тоже ложились вокруг.
Удары тяжёлых снарядов стали редеть. Только мины хряскали по обрезу лощины с прежним остервенением.
Помкомвзвода Гаврилов снова высунулся с биноклем из траншеи.
– Вижу Машину красу… – вдруг засмеялся он сдержанным холодным смешком и, не отрываясь от бинокля, позвал Воронцова: – Иди-ка сюда. Ты, кажется, у нас мастер по три пули подряд в «десятку» выкладывать? Давай, сержант. Есть возможность отличиться.
Миномёты перенесли огонь в глубину обороны курсантов. Атаку следовало ждать с минуты на минуту. Как они пойдут, с танками или без танков, было пока неясно.
Когда Гаврилов окликнул его по фамилии, Воронцов вздрогнул. Ему казалось, что в этой огненной кутерьме, среди ужаса и смертей, все забыли о нём. Холодные мурашки пробежали между лопаток, словно его самого только что взяли на мушку и вопрос жизни и смерти решали мгновения, которые неминуемо истекут. Точно такое же ощущение он испытал перед первой атакой. Надо было справиться с собою. Он протёр тряпицей затвор и прицельную планку, продул мушку в холодном влажном колечке намушника. Он как будто нарочно оттягивал свой выстрел. Словно надеялся, что немецкий корректировщик, которого пока ещё никто, кроме Гаврилова, не видел, выполнив свою задачу, сам исчезнет с передовой и больше не будет приносить им вреда. А значит, и высовываться, стрелять в одиночку и убивать этого немца станет просто незачем.
«Что же это я, – спохватился Воронцов, – немца жалею? Насильника? Супостата? А может, он уже мою семью… Сестрёнок… Или я боюсь его? Нет, я его не боюсь. Я его теперь не боюсь».
– Чего ты её трёшь? – сказал тем же тихим холодным голосом Гаврилов, словно боясь спугнуть цель; видимо, он понял смуту в душе Воронцова. – Давай скорее, пока не ушёл.
– Дай бинокль.
– Вон, видишь, сосёнка без макушки? На ней сидит. – И Гаврилов протянул ему трофейный бинокль на узком глянцевом ремешке.
Немец был в камуфляжной накидке и каске, обтянутой такой же пятнистой материей. Одной рукой он держал винтовку, а другой бинокль. Вот повернулся. Воронцов отчётливо увидел профиль резко очерченного лица. На винтовке что-то блеснуло. Так ведь у него снайперская винтовка!
– Это не корректировщик.
– А кто же?
– Снайпер. Обживается. Высматривает. Видимо, только что забрался туда. Веточки обламывает. Для стрельбы. Винтовку ещё не пристроил.
– Тогда прячь голову, парень. Пока он тебя не заметил.
Возле Воронцова, на дне траншеи, сгрудились курсанты. Гаврилов приказал им замереть. Они в одно мгновение присели. И теперь терпеливо ждали, что будет.
– Он меня не видит, – сказал Воронцов. – Наблюдает в бинокль за правым флангом.
– Всё правильно, – отозвался Гаврилов. – Прямо по фронту только новичок и слишком нетерпеливый может повести огонь. Этот решил стрелять вдоль фланга, чтобы его как можно дольше не обнаружили. Но ты головой не крути, он и тебя не пожалеет.
– Может, лучше пускай Селиванов – из пулемёта? Повернее будет, товарищ старший сержант?
– Нет, Воронцов, стреляй ты. Селиванов только размажет. А тут надо так: один патрон – один немец.
Гаврилов торопил. А торопиться в таких случаях не надо. Тут, как на засидке на кабанов. Выстрелить удастся раз или два, не больше. А поэтому сделать эти выстрелы надо точно. Один патрон – один немец… Легко сказать.
– Сейчас, – отозвался Воронцов, унимая дрожь в руках.
Он сунул за пазуху бинокль, так же медленно вытащил на бруствер винтовку и прицелился. Двигаться надо было, как на глухариной охоте, и не сводить взгляда с цели. Дед Евсей предупреждал: стоит от него, от глухаря, отвернуться – и в следующее мгновение увидишь его уже в другом месте. Сделаешь резкое движение, и он тебя заметит. Немецкий снайпер – не глухарь. Тот в худшем случае улетит и не станет твоей добычей. А тут не вовремя смигнёшь, потеряешь цель из виду, пропустишь то мгновение, когда надо выстрелить не медля, и ты сам, в это потерянное мгновение, станешь целью.
Снайпер, сидевший на сосне за рекой и пристально изучавший правый фланг курсантской обороны, почти сливался с пятнами сосновых ветвей. Он был вовсе не человеком, не снайпером. Он даже не дышал. Он был серо-зелёным облаком, которое медленно наплывало на кончик мушки винтовки курсанта Воронцова. Вот пятно остановилось, замерло. Ну, довольно. Сейчас проверим, человек ты или не человек. Воронцов плавно нажал на спуск. Сперва дёрнулось колечко намушника, потом серо-зелёное облако на сосне. И тут же оно изменило окраску, окутавшись голубоватым дымком. Воронцов сперва подумал, что это слеза от напряжения наползла под ресницу и стала застить. Но тут же пуля щёлкнула по брустверу между ним и Гавриловым, который, увлёкшись, терпеливо ждал с биноклем у глаз результата выстрела Воронцова. Он-то и увидел, как мгновенно отреагировал немец, запоздав на какую-то долю секунды. «Вот так, – подумал Воронцов, – полез в волки…» Первая мысль: нырнуть в окоп, ведь немец промахнулся только потому, что не успел как следует прицелиться, что стрелял навскидку, по-охотничьи. Но охота началась. И преимущество пока у него, у Воронцова, и надо воспользоваться им, выстрелить ещё раз. Нужно всего лишь успокоиться, пересилить себя, остаться на бруствере и сделать ещё один выстрел. Воронцов знал, что охотнику на той стороне лощины нужно передёрнуть затвор, выбросить стреляную гильзу и дослать в патронник новый патрон. А самозарядка Воронцова уже стояла на боевом взводе.
Сизоватый дымок рассеялся так быстро, что Воронцов даже испугался, как стремительно уходит время. Серо-зелёное облачко качнулось, что означало только одно: немец перезарядил винтовку, ему нужна ещё одна секунда, всего одна, для того чтобы хорошенько прицелиться в круглую каску, которую он теперь наверняка отчётливо видел прямо по фронту и совсем близко в развороченной артогнём траншее. Поединок, который начался совершенно неожиданно, должен был вот-вот закончиться так же мгновенно. Для серо-зелёного облака это был всего лишь эпизод, возможно, не из самых приятных. Но тем приятнее будет потом, когда его верная пуля продырявит каску этого окопника, который неосмотрительно рискнул, решив попытать удачу. Слишком большой опыт имело серо-зелёное облако, чтобы какая-то случайная пуля простого стрелка, прервала его охоту. Никто из них уже не имел возможности промахнуться, чтобы всё начать сначала или разойтись. Но разойтись уже нельзя. Стрелять. Стрелять ещё раз. Ещё раз… И тот, и другой понимали, что это может произойти уже только в другой жизни, которая, возможно, для кого-то из них начнётся потом, после второго выстрела. А вернее, после третьего. Потому что четвёртый вряд ли произойдёт.
Слеза застила глаз, но вытереть её времени уже не оставалось. Воронцов прицелился через слезу и плавно, как и в первый раз, нажал на спуск. Приклад глубже вошёл в шинельную складку на плече. Если пуля снова прошла мимо, каску его старшина уже не понесёт в обоз. Это имущество уже никому не понадобится. И будет она, пробитая навылет, валяться на дне траншеи, пока кто-нибудь из бывших товарищей не выбросит её за бруствер, чтобы не мешалась под ногами во время боя. Но облако не окуталось сизым дымком. И что с ним произошло после выстрела Воронцова, понять пока было трудно. Ещё мгновение оно неподвижно висело среди тёмно-зелёных сосновых ветвей, как будто всё ещё готовилось к выстрелу, и вдруг выронило винтовку системы «маузер» с лучшим в мире цейссовским прицелом, а потом, обламывая сучья и соскабливая с бронзового ствола молодую сосновую чешую, пахнущую смолой, тяжело рухнуло вниз.
– Попал… Гадом буду, попал! – рявкнул помкомвзвода. – Воронцов, ты попал! С меня фляжка трофейного!
А Воронцов, измождённый невероятным напряжением, уткнулся козырьком каски в землю бруствера и, не обращая внимания на ликование Гаврилова и радостные возгласы товарищей, тихо заплакал от радости. О немецком снайпере, убитом им, он не думал. Он думал о том, что смерть снова обошла его стороной.
Обстрел прекратился. Стало слышно, как стонали раненые. Офицеры и сержанты начали поднимать людей, отрывать курсантов от земли, вытаскивать из завалов и, зачумлённых толовой копотью, оглушённых, ошалевших от страха, расставлять к брустверам ячеек.
– Взять оружие!
– Приготовиться к бою!
– Приготовить гранаты!
После бомбёжки и артобстрела курсантские цепь в траншее стала реже.
За лощиной в глубине просеки, куда уходило шоссе, послышался гул моторов. Погодя донеслись отрывистые команды на немецком языке.
Помкомвзвода наблюдал в трофейный бинокль.
– Бронетранспортёры подошли. Развёртываются в цепь. Батальон, не меньше. Бронетранспортёры с пулемётами.
– Если не поддержат артиллеристы…
– Поддержат. Как же «не поддержат»? Без них нам не отбиться.
Второй номер, курсант Краснов, сидел на дне траншеи рядом с пулемётом, сверху прикрытым плащ-палаткой, и, откинувшись спиной к песчаной стенке, равнодушно и терпеливо смотрел в небо. Время от времени он спрашивал, отчего его острый юношеский кадык прыгал вверх-вниз:
– Далеко ещё, Селиван? Ну, чего молчишь?
– Идут, – отвечал ему Селиванов.
– Много?
– Много.
– С пулемётами?
– С пулемётами. Немца без пулемёта не бывает.
– Ну, пускай идут.
– А вот и танки подошли. – Гаврилов не отрывался от бинокля. – Два. Что-то маловато. Легкомысленно, с их стороны, наступать с такой незначительной поддержкой.
– Если артиллеристы не помогут, и этих хватит.
Воронцов перекладывал с места на место гранаты, трогал фитили бутылок с горючей смесью и нюхал пальцы. Запах фитилей невозможно было запомнить. «Странно, – думал он, – ничем не пахнут, а всегда пахли довольно сильно».
– А пехоты! Пехоты сколько! – взвизгивал Денисенко. – Уй, братцы! Надо окопы глубже рыть! Чего вы стоите? Ройте глубже! А то пропадём!
– Заткнись ты!
– Да нет, старшой, они нас, похоже, уже заценили. Вот, смотрите, ещё идут.
– Три, четыре…
– …от всех видимых и невидимых враг… – бормотал Краснов. Устав смотреть в небо, он уткнулся в угол окопа. Одной рукой он засовывал за пазуху завёрнутый в чистый, как снег, платочек складень, ещё тёплый от поцелуя, а другой медленно, на ощупь, стаскивал с ручного пулемёта плащ-палатку, —…паче же подкрепти от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О святый, великий Михаиле Архистратиже!
«Это Краснов Михаилу Архангелу молится, – догадался Воронцов. – А кто он, Михаил Архангел? Воин небесный. Самый главный. Воин воинов. А стало быть, самый сильный. Вот бы услышал он Краснова…»
– Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоём в веце сем и в будущем, но сподобь нас тамо купно с тобою… – Краснов торопился поскорее дочитать свою молитву и всё рассказать небесному воину Архангелу Михаилу.
«А ведь он и за меня молится, – подумал Воронцов, слушая бормотание Краснова. – И за Селиванова, и за Алехина, и за Гаврилова, и, конечно же, за Денисенко, чтобы тот не трепетал так и не пугал других, и за лейтенанта, и за всех нас, ещё живых». Эта внезапная мысль изумила Воронцова. Краснов просил небесного воина Михаила заступиться и за десантников, и за бойцов старшины Нелюбина, и за тех, кто бьётся сейчас с врагом на других участках фронта, близко и далеко. Краснов молится и за его, Воронцова, родных – отца и брата.
– …сохрани нас… от всех видимых и невидимых врагов… подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему…
«Нет, молитва Краснова нужна. Всем нам. Очень даже нужна. Она укрепляет душу перед боем, чтобы страх не угнетал её и не повергал, когда схватка близка, и её не миновать. Вон и Денисенко успокоился, слушает».
Денисенко выглянул из окопа и спросил:
– Товарищ старший сержант, а они нас видят?
– Кто?
– Танки.
– Тьфу! – И помкомвзвода выругался.
– Уй! Уй! Ещё два ползут! Вон, за бугром качаются! Они нас видят! Точно видят! И-и-и! – Денисенко снова не мог справиться с собой.
– Да замолчи ты, сучонок! – не отрывая глаз от лощины, рявкнул Гаврилов. – А то лопаткой ухо отрублю!
Денисенко сразу затих. Эта внезапная угроза, похоже, подействовала на него сильнее молитвы Краснова и танков, начинавших атаку вдоль шоссе. Денисенко видел, как в деревне курсант из третьего отделения сапёрной лопаткой зарубил немецкого пулемётчика. Так и развалил голову пополам. Как телёнку топором на бойне.
Танки уже сформировали порядок атаки. Правда, перед ними лежал перелесок, изрытый неглубокими овражками, где они неминуемо должны были нарушить свой строй, перестроиться. За ними, сперва группами по семь-десять человек, а во втором ряду правильной цепью шла пехота. Началось.
И тут в тылу послышались крики, торопливый топ лошадей и солдатских сапог, натужный скрип упряжи. Воронцов оглянулся и увидел, как к траншее из березняка артиллеристы выкатывают орудия, «сорокапятки», целых три.
– Быстрей, ребятки! Быстрей! – подбадривал расчёты офицер. Он тоже упирался в орудийный щит. Голос его был спокойным, уверенным. – Первое орудие! Разворачивай! К бою!
Капитан Россиков сам расставлял орудия, мгновенно определив для них позиции.
– Отцепляй!
– Давай-давай!
– Доводи, ребята!
Это уже командовали командиры расчётов.
– Быстро! Снаряды!
– Доворачивай! Доворачивай, говорю!
– Что там, мать твою!..
– Носов! К первому орудию! – И Россиков указал рукой на крайнее орудие, установленное под разбитой берёзой.
Сам он стал ко второму. Тут же крикнул подносчикам:
– Снаряд! Бронебойный!
– Ребята, живей!
– Бронебойный!
– Давай!
– Бронебойный!
Вот почему артиллеристы здесь сновали с лопатами и топорами всё утро. Вырубали кустарник, расчищали сектора для стрельбы, отрывали окопы и маскировали их. Значит, выжила наша артиллерия! Значит, мы не одни. «А вот теперь и посмотрим, чья оглобля длинней», – вспомнил Воронцов поговорку деда Евсея.
Капитан Россиков предпринимал рискованный маневр, в самый последний момент выведя вперёд, на прямую наводку, полубатарею лёгких противотанковых орудий.
Экипажи танков, видимо, уже обнаружили опасность, грозившую им с противоположной стороны лощины, но на линию прямой атаки свои машины они вывести не успевали и вынуждены были теперь маневрировать среди берёз под прицелами трёх «сорокапяток». Точно стрелять танки пока не могли. Однако первые пристрелочные снаряды они всё же выплюнули из своих коротких стволов, и разрывы ковырнули перепаханную бомбёжкой и артобстрелом землю вокруг курсантских позиций.
И тут сделала свой первый залп противотанковая артиллерия курсантов.
– Первое орудие – огонь!
– Второе орудие!..
– Третье!..
Резко и часто били «сорокапятки». Узкие и, казалось, заострённые в шильца их стволы дёргались после каждого выстрела, содрогалось всё орудие, подпрыгивало на резиновых колёсах, как живое. Бронебойные болванки уходили за лощину буквально над головами второго взвода, обозначая свой путь сизыми стремительными трассами. Там, за лощиной, они находили свои цели. Каждый – свою. Взламывали броню, срубали и коверкали катки, рвали траки, пробивали борта и башни, проламывались внутрь и рубили осколками брони всё живое и неживое – человеческую плоть, механизмы. Уже горел один танк, другой, третий.
– Горят!
– Они горят!
– Ребята, мы их бьём!
Болванки «сорокапяток» с упругим шелестом уходили вдоль лощины за реку. Атака их была настолько внезапной и губительной, что казалось, огонь ведут не три орудия, а дивизион.
– А-а-а! – завопил Денисенко, с мстительной яростью потрясая винтовкой с дымящимся затвором и обмётанным пороховой гарью патронником; он теперь ликовал, как и вся рота, видя, как артиллеристы методично и точно поражают главную опасность, шедшую на них из-за лощины, – танки. И ему, курсанту Денисенко, теперь уже было нестрашно. Он ловко, обойму за обоймой, вгонял в магазин своей СВТ и стрелял туда, за лощину, почти не целясь, как наставлял его перед боем Гаврилов.
– Больше пали! – кричал он, нажимая на спуск. – Больше пали!
Из траншеи и одиночных ячеек вели огонь курсанты-пехотинцы. Они пытались подавить атаку автоматчиков, отсечь их от танков, заставить залечь на невыгодных позициях. Было видно, как несколько танков, избежав точных попаданий противотанковых орудий, продолжали двигаться вперёд, стремительно приближаясь к бродам. Под прикрытием их широких бортов гурьбой, сломав строй, бежали автоматчики. Вот они миновали берёзовый колок, высыпали на чистое и быстро развернулись в правильную цепь. Но за высоткой, в тылу, на закрытых позициях тут же захлопали миномёты, и десятки мин с хряской разорвались в лощине перед цепью. Немцы попятились. Залегли. Длинными очередями застучали пулемёты прикрытия. В траншее и на артиллерийских позициях послышались крики и стоны раненых. Замолчало одно из орудий. Раненого наводчика понесли в тыл. К прицелу приник кто-то из офицеров. Добить, добить танки! Их надо было добить во что бы то ни стало.
– Огонь!
– Снаряд! Живо!
– Огонь!
– Горит, товарищ капитан! Горит, сволочь!
– Огонь! Всем вести огонь! – кричал сержант Смирнов, матерком и прибаутками подбадривая своё отделение.
Он стоял в траншее. Под ногами хрустели стреляные гильзы. Вот кончилась очередная обойма. Затвор отбросило в крайнее заднее положение. Смирнов зарядил новую и стал выцеливать пулемётчика, засевшего на склоне за валуном. Выстрел! Мимо. Пулемёт продолжал полыхать огнём, и пули стегали по брустверу и упруго вжикали над головой. Похоже было на то, как будто над траншеей, над головами курсантов кто-то зловеще размахивал стальным прутом и выбирал, высматривал, кого бы секануть по каске… Выстрел! «Почему я тороплюсь? Не надо торопиться. Спокойно, спокойно… Надо хорошенько прицелиться и выстрелить дважды. Вот так… пулемёт замолчал. Неужели попал? Нет, не попал. Вот сука!» Пулемёт снова молотил и молотил из-за валуна, поливая свинцом бруствер их траншеи. «Ленту поменял, – догадался Смирнов. – Ленточку в косичку… Быстро работает». Очередь шаркнула над траншеей. Пуля рванула шинель на рукаве и, как пчёлка, жиганула жарким своим жальцем предплечье. «Только не это», – подумал Смирнов. Рука слушалась. Значит, прошла по касательной, кость не задета. Смирнов прицелился и раз за разом выпустил в пляшущий за камнем стремительный огонёк всю обойму. Пулемёт замолк. И Смирнов увидел, как каска в камуфляже опустилась за валун и больше не появлялась. Он устало опустился в траншею, привалился спиной к гладкой стене и достал из подсумка горсть патронов россыпью.
– Уделал подругу, – сказал он сам себе и зло усмехнулся.
Винтовка заряжена новой обоймой, патрон дослан в патронник, и достаточно нажать на спуск, чтобы очередная его пуля улетела искать свою долю по ту сторону оврага. Но Смирнов помедлил и, то ли всё ещё переживая свою победу, то ли выбирая цель повернее, громко пропел какую-то похабщину. Живым это прибавило духу. Даже те, кто недолюбливал сержанта за его полублатной жаргон и солёные шутки, услышав его голос, подумали: «Ну, поёт наш похабник, значит, ещё живы». А мёртвым было уже всё равно. Мёртвые свою задачу выполнили сполна и коченели на дне траншеи и, привалившись к стенкам одиночных ячеек с открытыми глазами людей, которые не боялись уже ничего. Это о них шептал перед боем Краснов: «…и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему…»
«Все они, наши мёртвые, – думал Смирнов, – непостыдно предстанут пред Ним. А нам ещё драться надо, чтобы заслужить такое же…»
Курсанты вели огонь из винтовок, автоматов и пулемётов. Но цепи накатывали и накатывали. За одной шла другая, за другой – третья. Первая, сильно поредевшая, снова встала и короткими перебежками подкатилась к середине лощины. Ещё несколько десятков шагов, два броска, не больше – и она окажется вне зоны миномётного огня. Вот немцы перебрались через один из бродов. Уже пошли в ход ручные гранаты. Длинные, как палки, «толкушки» стали прилетать и с немецкой стороны. Потеряв танки, немцы не ослабили натиска, а наоборот, атаковали ещё ожесточённее. Последний лёгкий танк прорвался к самой траншее. Он умело маневрировал, непрерывно вёл огонь и подбил одно орудие: осколочный снаряд разорвался между станинами. Погиб почти весь расчёт. Когда прорвавшийся танк обнаружили и стали разворачивать оба орудия, он и тут сумел опередить артиллеристов: на бешеной скорости развернулся и скрылся в глубокой балке, где пушки своим огнём достать его снова не могли. Танк теперь шёл по склону балки и вскоре оказался на стыке второго и третьего взводов.
Его подожгли лейтенант Ботвинский и двое курсантов. Они подпустили его совсем близко, так близко, что с брустверов в ячейки стала осыпаться земля, расшатанная во время бомбёжки, и запах выхлопных газов потянуло ветром вдоль траншеи. Танк, натужно взрёвывая мотором, наползал на пригорок, на одиночный окоп, в котором, убрав с бруствера оружие, замерли взводный и пулемётный расчёт. Они забросали его гранатами и бутылками с горючей смесью в тот момент, когда его башенный пулемёт, стрелявший почти непрерывно, уже не мог достать их. Танк запылал, метнулся вдоль траншеи, стараясь, видимо, сбить пламя и одновременно не попасть под огонь двух уцелевших орудий. Но на его корму полетели бутылки со смесью из других окопов. Через минуту-другую его агония прекратилась. Ни один люк не открылся. Экипаж сгорел вместе с танком.
Немецкие автоматчики между тем продолжали свою упорную, хорошо организованную атаку.
Старший сержант Гаврилов поменял диск, передёрнул затвор, поискал глазами взводного, крикнул ему:
– Лейтенант! Без контратаки не удержимся! Жмут! Боюсь, гранатами забросают! Не выдержат ребята! Тогда хана всем!
– Что будем делать?
– Доложи ротному – надо контратаковать!
Старший лейтенант Мамчич во время бомбёжки находился в первом взводе. Там и застала его танковая атака. Он хорошо видел начало её, затем встречный огонь артиллеристов и то, как, несмотря на большие потери, упорно атакует немецкая пехота. Им нужна была дорога. Дорога для того, чтобы колонны с техникой пошли на Москву.
Дорогу удерживал взвод младшего лейтенанта Коржа, левофланговые отделения взвода лейтенанта Ботвинского и взвод окруженцев. И Мамчич, вдруг поняв всю опасность создавшегося положения, побежал к шоссе, в третий взвод. Там сейчас решалась судьба боя. Следом за ротным, перепрыгивая через убитых и раненых и прижимая к груди трофейный автомат, бежал связной.
Немецкие автоматчики накатывали волнами. В какой-то момент передовая цепь, легко переправившись через неглубокую реку, смешалась и разделилась на три группы. Первая бросилась вперёд, а остальные тем временем поливали курсантскую траншею огнём. Так они и атаковали: одна группа шла вперёд, делала стремительную перебежку под плотным прикрытием огня двух других.
– Грамотно наступают, – заметил старшина Нелюбин. – Вон как ползут, зипунов не жалеют.
Когда началась атака, взводу старшины Нелюбина Мамчич приказал занять оборону в самом центре, справа и слева от шоссе. Именно здесь были самые большие потери во время бомбёжки и артобстрела. Используя шоссе как прекрасный ориентир, «штуки» бросались в пике то на окопы справа, то на окопы слева от дороги. Тот же коридор прорубала и артиллерия.
Бои этих дней и для одной стороны, и для другой слились в одну, почти непрерывную, битву за шоссе. И тем, и другим нужна была Варшавка. Одни получили приказ очистить шоссе для беспрепятственного движения колонн в направлении на Москву, смять, рассеять противника, удерживающего позиции на рубеже реки Извери, в крайнем случае проломить в его обороне брешь. Другие имели приказ удерживать и дорогу, и всё это направление любой ценой.
Мамчич перелез через завал и остановился. Здесь, по его предположениям, второй взвод соединялся с третьим, и здесь, на стыке, он приказал младшему лейтенанту Коржу установить пулемёт. После бомбёжки и артналёта местность сильно изменилась. Мамчич огляделся, ища взглядом расчёт ручного пулемёта. Окоп пулемётчиков был разрушен взрывом, из земли торчал ствол изуродованного «дегтяря», треснутая пополам каска с разорванным ремешком, курсантский яловый сапог, какие выдавали в училище год назад, когда войной ещё не пахло и снабжение было другим. Голенище сапога дымилось, и смотреть на этот дымящийся сапог, который свидетельствовал о том, что никто здесь не спасся, было жутко. Кто-то из курсантов его роты, кого он наверняка хорошо знал, с кем разговаривал и кого, быть может, расспрашивал о доме и родных, ещё недавно заботливо начищал этот самый сапог перед очередной поверкой, чтобы он, командир роты, случайно не обнаружил где-нибудь на каблуке серое пятнышко пыли или присохшей глины. Мамчич хотел перешагнуть дымящийся сапог, но всё же задел каблуком, и тот сполз на дно траншеи. Чей это сапог? Лейтенанта Коржа? Или Ботвинского? И тот и другой могли быть здесь.
– Сержант! – крикнул он Воронцову, неожиданно показавшемуся в проёме полузаваленной ячейки. – Где Ботвинский?
– Там. – И Воронцов указал за поворот траншеи.
– Когда вы его видели?
– Только что.
Снова на Воронцова навалилась тишина, прерываемая сверлящим свистом. Свист не давал покоя, рвал затылок, наполнял весь его ослабевший и будто вывернутый ужасом наизнанку организм, и Воронцову едва хватало сил, чтобы не броситься наземь и не завопить, как вопил, чувствуя опасность, Денисенко. Лечь, закрыть руками глаза и уши и хотя бы на мгновение отстраниться ото всего – от обстрела, от немецкой атаки, от ротного, неизвестно откуда и зачем появившегося в их взводе, от свиста и звона разбитого стекла, раздирающего ушные перепонки.
– Ты что, ранен? Контужен? Слышишь меня, сержант?
– С трудом. Плохо слышу. Иногда ничего не слышу, товарищ старший лейтенант. Бомба… близко… Ребят побило, а я вот живой…
Мамчич ещё раз внимательно заглянул ему в лицо. В другое время и при других обстоятельствах он, наверное, отправил бы Воронцова в тыл. Выглядел тот действительно плохо. В тыл… Но не теперь. Мамчич оглянулся на связного. Нужно срочно предупредить командиров взводов, чтобы сейчас, по его команде, подняли людей в контратаку. Но выглянул ещё раз в лощину и понял: связной не успеет.
– Передай по цепи! Слышишь меня, сержант?
– Громче говорите, тогда слышу.
– Передай – примкнуть штыки! Приготовиться к атаке!
– Примкнуть!.. Приготовиться!..
Траншея сразу зашевелилась. И уже через мгновение из-за завалов донеслось ответное голосом лейтенанта Ботвинского:
– …О-о-од! Примкнуть штыки! Приготовиться к атаке!
Рота словно ждала этой команды.
– Второе отделение! Слушай мою команду! Примкнуть штыки! – прокричал в небо и Воронцов, вытащил из ножен длинный плоский штык-нож и привычным движением защёлкнул его на место. Краем глаза он заметил, что командир роты следит за его движениями, и потому старался всё сделать правильно и быстро. Ведь Мамчич ещё на первых занятиях по овладению приёмами штыкового боя учил их именно этому. С примкнутым штыком винтовка сразу потяжелела, но стала надёжнее, как будто ей вернули первоначальный её смысл и предназначение.
– Сержант, как ты думаешь, поднимутся твои ребята? – вдруг спросил его ротный.
– Поднимутся. Со мною – поднимутся.
Мамчич внимательно посмотрел на него и кивнул. Глаза его лихорадочно блестели решительностью, которую уже нельзя было отменить.
– Ты ведь уже был в штыковой?
– Был, – ответил Воронцов. – Всё отделение участвовало.
– Вот и хорошо. Значит, вокруг тебя народ бывалый.
Воронцов нехотя, через силу, улыбнулся. И вдруг почувствовал, как трусятся у него ноги, особенно правое колено, будто под ним подрезали жилу, и теперь оно, не понимая его воли, мелко бьётся о полу шинели. Ротный, видимо, заметил его озноб. Сказал спокойным голосом:
– Ничего, сержант, вот сейчас поднимемся, и им тоже страшно сделается.