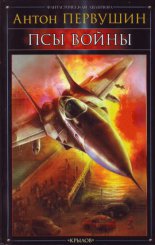Архив Ломов Виорель

– Я работаю в архиве, – выдавил Брусницын.
– Где, где? – послышались голоса.
– В архиве! – с хмельным вызовом выкрикнула Зоя, словно хотела подчеркнуть, что не все прощелыги, есть и труженики.
Брусницын приободрился. Ему хотелось понравиться хозяину дома, был свой интерес.
– Я работаю в архиве, – повторил он окрепшим голосом. – И смею вас заверить, встречал в документах описание многих диковинных яств. Предки наши умели потчевать друг друга.
– И было чем, – одобрили голоса.
– И было чем, – повторил Брусницын. – Так вот, я хочу выпить за тех, кто сегодня нам преподал урок того, что реальность куда более впечатляюща, чем любой документ, – и он повел рукой в сторону хозяина дома и его круглолицей жены.
Этот тост ему и припомнил Варгасов. Потом, когда поутихли чревоугодные страсти и гости отвалили от стола.
– А вы, Анатолий Семенович, хитрец, – Варгасов дружески обнял оробевшего Брусницына за мягкие покатые плечи и повел в свой кабинет. – Ловко вы меня достали своим тостом, изящно.
– Что вы, Будимир Леонидович, – убито произнес Брусницын. – Я и не думал, тем более…
– Тем более, что у вас есть ко мне щепетильный разговор, – подхватил Варгасов и засмеялся.
Брусницын вздохнул, с надеждой и облегчением.
Кабинет произвел впечатление. Старинный стол на резных округлых ножках был завален папками, вырезками, книгами. Письменный прибор с двумя массивными чернильницами под куполками добротной бронзы с болотной патиной, что отгораживали фигурку маленького императора со скрещенными на груди руками и треугольной шляпой у ног. Дерево за спиной императора служило пеналом, а из шляпы торчали резинки. Пресс-папье, настоящее пресс-папье с ручкой-колоколом, такое не часто встретишь в современном доме. И вообще весь кабинет, с тяжелым гардинным штофом, с рядами книг, изысканных, с золочеными корешками, бронзовым ветвистым деревом-светильником под темно-зеленым гамбургским стеклом, выглядел давно забытой оперной роскошью… Брусницына кабинет смутил, он как-то не ожидал такой изысканности в доме человека с сомнительной репутацией. «Неужели он так нуждается в моих пяти сотнях? – подумал Брусницын. – Ну и сквалыга. С чего же начать?» – злость й зависть спутали мысли, он даже прикрыл глаза.
– Мне передал наш общий знакомый Хомяков, что у вас сегодня сложности с деньгами, Анатолий Семенович, – мягко произнес Варгасов.
Брусницын криво усмехнулся и жалко повел плечами.
– Допустим, не только сегодня, – проговорил он. – Понимаете… оклад скромный. И жена работает бухгалтером. – Он слышал свой жидкий, чужой голосок и был противен сам себе. – Жду повышения, есть надежда. Замдиректора по науке уходит на пенсию.
– А вы его подталкиваете, – обронил Варгасов.
В его тоне улавливалась нотка брезгливости, тихая, незаметная, словно звук пикколо в большом оркестре.
Ах, этот сплетник Хомяков, обомлел Брусницын и пробормотал, оправдываясь:
– Почему же так? Я…
– Ну не бескорыстно же вы его тогда припечатали. Сами говорите, что ждете повышения. Бескорыстно наживают врагов только дураки. А у вас был такой тост, Анатолий Семенович… в гибкости вам не откажешь, – казалось, Варгасов играл с Брусницыным, словно кошка с полузадушенным мышонком. – Ну да ладно, все мы не ангелы. Садитесь, Анатолий Семенович.
Брусницын опустился в кресло. Только сейчас он обратил внимание на картины, что висели на стенах. Вспомнил разговор с Веней Кузиным, в поликлинике. Тут и впрямь настоящий музей – в добротных черненых рамах красовались пейзажи, портреты, жанровые сцены. Темный лак в благородных трещинах говорил о том, что путь картин в этот кабинет был сложным и долгим.
Брусницын вернулся взглядом к хозяину кабинета. И увидел в руках Варгасова пачку денег. Довольно толстую, оклеенную банковской лентой.
– Здесь, Анатолий Семенович… еще пятьсот рублей. Итак, на круг – ровно тысяча, – проговорил Варгасов.
– Но… я у вас… не просил, – дрогнул голос Брусницына.
– Да, но вам нечем вернуть мне долг… те пятьсот Рублей. Или я не так понял Хомякова?
– Да, но…
– Я, Анатолий Семенович, обнаружил в себе слабость – собирательство. Звучит дилетантски, но не могу противиться страсти… Я буду вам весьма признателен, если где-нибудь в… архиве, скажем, обнаружится нечто такое…
– В архиве? – изумился Брусницын.
– Ну, не в архиве, – помедлив, точно нехотя поправился Варгасов. – В букинистическом магазине, в антикварном… Словом, я слышал, что вы понимаете в этом толк. Только чтобы это не было громоздким. Мал золотник… В наших квартирах хранить негде, а так, чтобы в альбом… Увидите – сообщите, я тут же вас снабжу деньгами.
– Как… еще деньгами? Этой тысячи хватит на первый шаг.
– Вы меня не поняли, Анатолий Семенович. Эту тысячу я вам дарю. Ну, как премиальные, если хотите. Как гонорар за проделанную работу, забудем о ней, – Варгасов перебросил пачку Брусницыну на колени.
Когда они вышли из кабинета, гости сидели за столом перед тремя огромными тортами, пили чай.
Зоя о чем-то разговаривала с Веней Кузиным. Вид у нее был настороженный. Заметив мужа, Зоя оставила доктора и позвала Брусницына к столу.
– Что вы там уединились с Варгасовым? – шепнула она мужу, выбирая, какому торту отдать предпочтение.
– Учил меня, как жить, – Брусницын взглядом указал на торт, что с кремовым петухом. – А ты о чем шепталась с Венечкой?
– Вспоминали детство, – ответила Зоя. Не станет же она сейчас рассказывать, что Кузин не на шутку обеспокоен состоянием здоровья Брусницына. Надо пройти обследование, показаться серьезному психиатру. Появились новые лекарства. Кузину кажется, что болезнь прогрессирует, хоть и медленно. Не исключен срыв. Особенно сейчас, когда наступают сезонные перемены погоды… Все это Зоя расскажет Брусницыну дома, потом, когда они вернутся, а пока… Гостей за столом поубавилось. Часть уже разошлась, а часть перебралась к телевизору, смотреть какой-то видеофильм. Звучала музыка, выстрелы, невнятная английская речь и резкий голос переводчика.
– Помнишь, в прошлый раз морячок здесь был? Родственник Варгасовых? – проговорила Зоя, наклонясь к Брусницыну. – Ну, игру привез откуда-то, азартную. «Хочу разбогатеть», помнишь? – Зоя видела, как Брусницын ловит взглядом яркоцветный экран телевизора, поверх голов гостей. – Так вот, арестовали того родственничка. Ну и семейка, честное слово, – один выходит, другой садится… А сам Варгасов за границу решил свалить, в Германию. Эмигрировать хочет… Мне тут одна женщина порассказала… Варгасов через того родственника-морячка добро свое за рубеж отправлял, как это тебе нравится?
Брусницын замер, так и не прожевав кусок торта, – его сразила скабрезная сцена фильма. Такого он не видел никогда. Это ж надо, показывать подобное всему свету. Под смех гостей он ловил каждое слово переводчика, а тут еще Зоя о чем-то трендит под ухом… Брусницын взял свою тарелку и, оставив жену, перебрался поближе к экрану.
Человек свыкается со своим уделом, как привыкает к одежде, даже если она не совсем удобна. За два дня Брусницын так сжился с предложением Варгасова, что, казалось, оно было его собственным. Важно перешагнуть через страх. И Брусницын перешагнул через страх. История с Гальпериным не увяла, а пустила корни. А слова Варгасова: «Бескорыстно наживают врагов только дураки» – не оставляли Брусницына, отрезая всякий шанс к отступлению. Казалось, он стоит перед входом в черный тоннель и, более того, сделал первый шаг. Остановиться не было сил, тоннель втягивал его… «Сами виноваты, сами виноваты, – повторял про себя Брусницын, мысленно глядя в голубые глаза Гальперина. – Не надо было бередить мое честолюбие, подманивать. Вы сами отравили меня, Илья Борисович, и, по иронии судьбы, сами подкинули идею, в которую вдохнул энергию Варгасов. Воистину бескорыстно наживают врагов только дураки…» Уже в конце разговора, тогда, в кабинете Варгасова, Брусницын знал, что он предпримет. Идея пронзила его ударом тока, словно бесовское озарение, почти в деталях. Только бы все сошлось, только бы найти то, что ищешь. И даже если он сейчас потерпит неудачу, то все равно своего добьется, иного выхода нет… А через день Брусницын, запершись в кабинете, листал затребованные из хранилища документы личного фонда помещиков Издольских и Лопухиных… Как тогда опрометчиво обронил Гальперин, у Лопухиных и намека не оказалось на родство с помещиком-просветителем Сухоруковым, хорошо еще, что немного единиц хранения, всего двадцать три страницы. Настроение у Брусницына упало, считай, надежда уменьшилась наполовину. Что ждет его в документах Издольских? Среди трехсот единиц хранения! Многовато для срочной работы, но ничего не поделаешь… Часами он перелистывал пустяковые счета, переписку с управляющими, сметы на постройку усадьбы, бумаги по размежеванию земли, фотографии и письма, письма… Все не то, что он искал… Профессионал высокого класса, Брусницын с первого взгляда схватывал суть документа, всецело полагаясь на интуицию.
Разбор документов уже шел к концу, как и рабочий день. Ныла затекшая спина, пальцы от старой известковой бумаги залубенели, покрылись глянцевым налетом пыли, мысли притупились. Он ловил себя на том, что пропускает смысл некоторых писем, приходилось возвращаться. Блеклые от времени буквы, казалось, вдавливаются от взгляда в бумагу, приходилось пережидать, пока глаза проявят их очертания… Брусницын подумывал перенести работу на завтра, как в вялом мозгу, словно щелка в темной шторе, промерцала фраза в письме Издольского своему товарищу по военной службе Гагарину Виктору Алексеевичу… Поначалу шел разговор о болезни полковника, о чумке у собак, о какой-то девице, а в конце приписка: «… кстати, чуть было не забыл – пришли ты, наконец, записку гр. Т., а то мой честолюбивый свояк Ал. Павл. С-в меня со света сживает. Гоняет по губернии на рысаках и поносит все мое семейство, надоел. Пришли, будь ласков. Твой Мих. Издольский».
Брусницын еще раз перечитал приписку, чувствуя, как тяжелеет в груди. Что это? Зацепка, ошибка, случайное совпадение инициалов? Среди архивистов не часто, но встречаются особые профессионалы с каким-то внутренним «ультразвуковым» лучом, способным проявить смысл любой шифровки в единственном и верном толковании. Это дар от бога, неспроста же Брусницын ведал каталогом, этим межфондовым архивным справочником, где в одном месте собиралась информация, рассыпанная по многим фондам, и, чтобы подать такую информацию, нужна особая проницательность, видение не документа, а того, что стоит за ним…
Брусницын откинулся на спинку стула. Он был слаб и опустошен. Конечно, все еще впереди – в деле Гагарина могла отсутствовать эта записка, хотя Гальперин предполагал, что речь идет о целом письме. Потом, могло и не быть самого дела. Мог быть не тот Гагарин, слава богу, на Руси Гагариных много, от князей до дворовых… Но Брусницын уже был уверен. Почему? Этого объяснить нельзя, надо быть архивистом, чтобы понять. Он уповал на свой каталог, на систему, созданную руками Ильи Борисовича Гальперина и сейчас ощетинившуюся против него своими многотысячными карточками, среди которых надо разыскать одну, злосчастную, Гагарина Виктора Алексеевича, юриста и археографа, как значилось на конверте молодого Издольского.
За все годы работы в архиве Анатолий Семенович Брусницын не ждал с таким нетерпением доставки документов из хранилища.
Еще позавчера, среди сонма Гагариных, потеряв уже всякую надежду, он выудил из метрических книг запись о рождении Виктора Гагарина, сына Алексея, и, раскручивая дальше, вышел и на документы юриста и археографа. Выписал требование и послал в хранилище. А ночью уснул лишь благодаря снотворному, переволновался. Утром на работе все валилось из рук. Надо отвлечься, вернуться к забытым на время своим обязанностям, хотя бы каталожным формулярам. К этому несчастному коллежскому регистратору Перегудову, что «вошел в воду реки и не вышел из оной», бедняга. А все – деньги, были бы у бедняги деньги, он бы реку пересек по мосту. Или промчался на вороных, с форейторами на запятках… Деньги, деньги… У Гальперина оклад на восемьдесят рублей больше, чем у Брусницына, – он узнавал, сразу же после того памятного разговора на квартире у Гальперина узнал. В год набегало – девятьсот шестьдесят, чистыми. Конечно, ерунда, если от всей тысячи варгасовских премиальных осталось каких-нибудь две сотни, с ума сойти… Но все равно – назад не повернуть. Подошлет какого-нибудь Хомякова и потребует назад премиальные. Тогда хоть в реку, как коллежский регистратор Перегудов.
Что, если дело Гагарина уже доставили, а вредные девчонки из отдела использования ему не сообщают. Или оставили на полке в комнате для сотрудников и молчат?!
Брусницын вышел из каталога и, миновав два лестничных марша, перешагнул порог сырой, вечно пустующей служебной читалки. Сотрудники предпочитали работать на своих рабочих местах, чем вдыхать запах плесени, помнившей еще монахов.
Папка лежала на полке поодаль от остальных и сразу привлекла внимание Брусницына. Старинный переплет из бычьей кожи с широкой черной окантовкой. Брусницын приподнял пудовый пыльный том. Постарался юрист-археограф со своими предками и потомками, насобирал. Впрочем, не так уж и много, всего семьдесят единиц хранения. Не чуя ног, Брусницын вернулся к себе, закрылся. Отодвинул рапорт полицейского чина и положил папку в центре стола, у него были свои привычки. Шифр на папке соответствовал требованию – и номер фонда, и номер описи, и номер дела, все верно.
Затаив дыхание, Брусницын развязал тесемки и перекинул обложку. Судя по листу использования, дело Гагарина поднималось из хранилища только раз, в тридцать втором году, при контрольной проверке, о чем удостоверяла неразборчивая подпись какого-то архивиста, видно, скромный был человек. Брусницын, при плановом просмотре документов, когда работал в отделе хранения еще, старался подписываться четко, как-никак подпись его в архиве будет жить и жить. И процедура эта вызывала в нем трепетное чувство, видно, он и впрямь честолюбив…
И вновь перед глазами Брусницына потекла жизнь давно ушедших и, видимо, славных людей, занятых, в основном, мирным делом. К военным заботам относились фотографии молодого Гагарина, ротмистра Кавалергардского полка… Затем пошли рукописи статей. «О Боярской думе и дошедших до нас ее докладах», «Обозрение русских юридических памятников»… Опять же бесчисленные приходно-расходные документы по имениям Гагариных. Записки археографической комиссии. Работы по палеографии, сфрагистике.
Брусницын терпеливо переворачивал плотные страницы. Глаза привыкли к низкому, растянутому почерку. А ноздри принюхались и уже не чувствовали теплого духа, исходящего от грязно-серой бумаги с рыжеватыми разводьями по краям… Со стороны Брусницын сейчас напоминал взявшего след бывалого пса, уверенного в том, что жертва никуда не уйдет, а спешка укоротит упоительность азарта поиска…
Немой, безадресный конверт шел за листом со сводом каких-то работ по нумизматике. Первый конверт в деле. Обычно в такие конверты складывают мелкую документацию, письма, записки, всякую дребедень. Без нумерации, россыпью, порой даже не отмечая в листе использования документов.
Вытянув пальцы, Брусницын постарался освободить конверт, но спрессованные листочки упирались, пришлось взять пинцет. Надо действовать осторожно, не надорвать, не переломить, ювелирная работа…
Едва отделив несколько листочков бумаги, Брусницын не увидел, нет, он как бы почувствовал кожей, как чувствуют случайный всплеск солнечного света в лесу сквозь плотный панцирь деревьев, раскачиваемых ветром… Листочек кувырнулся и упал ничком. Переждав, Брусницын подобрал его непослушными пальцами. Подпись он признал мгновенно. Четко выведенное имя и какую-то ополовиненную фамилию, с заглавной буквой из трех параллельных штрихов, покрытых твердой уверенной чертой, точно крышей. Конечно, это не письмо, скорее пространная записка. И начиналась: «Уважаемый сударь Александр Павлович, прошу простить великодушно старика за долгую задержку с ответом на Ваше письмо…» Глаза от волнения не могли вчитаться в текст, написанный нервным высоким почерком, с прижатыми прямыми буквами, какими-то острыми, словно собранные колючки, а содержание написанного властно подрубала подпись. Брусницын ощутил тяжесть записки, словно она была из пластинки металла. Он уперся локтями в стол, пытаясь унять дрожь пальцев. Так просидел несколько минут, глядя на записку уплывающим взором. В то же время мысли его становились все четче, все злее. Почему эти мысли не пришли к нему раньше? Он не был уверен, что разыщет записку? Да, да – он тешил себя… неудачей. Уверенность в успехе поиска навязывалась ему даром провидения Гальперина, профессиональное чутье которого редко подводило.
Он пытался себя уговорить. Ну, что особенного? Несколько десятков слов лежали забытыми восемьдесят лет и пролежали бы вечность… Но уговорить себя не удавалось. Хоть это и ничего не значащие вежливые фразы, но начертанные великой рукой. И они должны увидеть свет. Пусть через нечистые лапы Варгасова, но увидеть. Не для себя же лично он их сбережет, продаст, сукин сын. Толстовскому фонду или коллекционерам. Но обнародует.
А вдруг записка фальшивая, а?! Брусницын засмеялся коротким натянутым смехом, при этом его мягкое, женское лицо оставалось печальным. А почему бы и нет? Сколько ходит по свету фальшивых писем великих мира сего! Снедаемые честолюбием, люди изготовляли эти свидетельства, под лестным для себя текстом, чтобы изнурять ближних завистью, вызвать почтение к себе, да и просто ухватить денег. Так почему бы и помещику Сухорукову так не поступить, раз он хочет прославиться на ниве народного просветительства?! Что может поднять репутацию выше, чем внимание самого Льва Николаевича Толстого!
А коль записка фальшивая, то и бог с ней, будет он еще переживать и совеститься. И без того хватает забот, от которых нет покоя ни днем ни ночью столько дней, после собрания. Вот что ему надо довести до конца, не расслабиться, не растерять решимость. А то взвалил на свои утлые плечи все проблемы разом.
Брусницын встал, сделал несколько шагов, нетвердых, крадущихся, словно был не у себя, а в квартире Гальперина… Или Варгасова… «Боже ж мой, дались они на мою голову, – горестно прошептал он непослушными губами. – Что же они делают-то со мной? С моей совестью и моей судьбой? А может быть, это и есть моя судьба, может, для этого я и родился на свет, чтобы через предательство и подлость заявить о себе миру, а?»
Брусницын сжал кулаками виски и забегал по комнате, словно мышь в клетке, от стены до стены… Надо что-то предпринять! Надо достать денег, вернуть Варгасову. Надо пойти к Гальперину, бухнуться на колени, как советовала Зоя. Надо! Надо… Надо купить Катьке зимнее пальто, надо купить себе сапоги, он всю жизнь мечтает о сапогах, высоких, с меховой подкладкой, иной раз в холод ноги так промерзнут, что мозги студятся… Столько надо, что никаких денег не хватит! А вот у Варгасова их навалом. Почему? По какой такой справедливости? О, как он их всех ненавидит. Всех! И Гальперина, и Варгасова, этого жулика и вора… И Катьку с Зоей, вечно недовольной строптивой и толстой спутницей его жизни. Он – худой, а она – толстая, это же о чем-то говорит! А Катька? В грош не ставит отца, вся в свою мать.
Голова разрывалась от мыслей, даже слегка потрескивала, как переспелый арбуз. Достаточно слабого толчка – и голова лопнет…
Брусницын остановился у зеркала. Каким образом расколотое тусклое зеркало попало под стекло одного из шкафов, никто в каталоге не знал… Если пристально лицезреть собственную физиономию, создается впечатление, что покидаешь свою оболочку и переходишь в другое обличие, становишься чужим, незнакомым человеком. Можешь беседовать с самим собой и в то же время узнавать о себе постороннее мнение.
«Что же ты решил? – молча спросил Брусницын у Брусницына. – Довести до конца то, что задумал?»
– «У меня нет иного выхода, – молча ответил Брусницын Брусницыну. – Есть только один шанс оправдаться – если на репутацию Гальперина будет брошена тень… Хотя этот циник и бретер сам по себе имеет такую репутацию, что… ему прощают многие грехи, странно, но так. Он добрый черт…»
– «Как ты пришел к такому решению? Давно?»
– «Нет. После встречи с Варгасовым. Помнишь, он сказал: «Бескорыстно создают себе врагов только дураки». Тогда и возникли у меня странные ощущения… вроде как в темной комнате, когда чувствуешь присутствие постороннего, хотя того и не видно».
– «И до сих пор не видно?»
– «Хорошо тебе задавать вопросы… Ты из другой жизни, из вполне достойной жизни, что была у меня до того злополучного вечера, когда Гальперин пригласил к себе домой и посулил свое кресло. Это – ты! А я – обманутый в своих надеждах неудачник».
– «Не канючь, ты и без того жалок… Так как?! Что предпримешь? Или побежишь за советом к Варгасову? Нашел кумира, ничего себе! Я еще мог бы понять какого-нибудь ханыгу, которому честь и достоинство россиянина – пустой звук, разменная карта. Но ты? Архивист! Ты же всей душой своей, нутром, селезенкой связан с теми судьбами, что навеки запечатлены в хранилищах архива. И своими руками за несколько сребреников продаешь… Да, всего лишь записка. Но чья? Кому? И во имя чего!»
– «Я еще ничего не решил! Не казни меня! Я еще могу так поступить, что ты охнешь…»
– «Интересно! Ну да ладно, знаю я тебя как никто: ты – это я! Но помни, сколько веревочке ни виться… И дело не в записке, дело в поступке. Свершивший преступление всегда находит оправдание, поэтому нести позор передает детям. У тебя есть Катька, она проклянет тебя».
– «Катька – стерва, кричит на меня, соплюха, в грош не ставит, вся в мать. Конечно, если отец приносит в месяц несчастную сотню…»
– «Это не оправдание… Вообще, ты стал брюзга. И знаешь почему? Тебя сожрали страсти. Слабый человек, снедаемый страстями, способен на все».
«Я тебе уже намекнул – ты даже и не представляешь, на что я способен»
– «Ладно, знаю уже, на что ты способен, видел».
– «Нет, нет. Ты еще ничего не знаешь. Я могу так поступить, что ты охнешь».
Брусницын обеими ладонями отпихнул себя от зеркала и отошел к столу…
Ножницы хранились в среднем ящике, проржавевшие и кривые. В самый раз, усмехнулся Брусницын, для подобной акции в самый раз… Он подобрал лежащее в стороне дело помещика Михаила Издольского. Нашел лист с письмом Издольского к своему армейскому приятелю, ротмистру Кавалергардского полка Виктору Гагарину… Где же эта фраза? В самом низу страницы, очень повезло… Вот она: «…кстати, чуть было не забыл – пришли ты, наконец, записку гр. Т., а то мой честолюбивый свояк Ал. Павл. С – в меня со света сживает…».
Брусницын приподнял поудобней лист и принялся аккуратно срезать подол.
«Извини, Михаил, – мысленно обратился он к Издольскому. – Надеюсь, тебе не очень больно? Иначе эксперт может выйти на архив твоего друга Андрюши Гагарина… А так – никогда, прервется цепь времен. Я аккуратно, аккуратно. Видишь, весь лист оставляю тебе, и номер листа сохранился, комар носа не подточит. Извини и не обессудь. Я этими ржавыми ножницами, брат, своей судьбой распоряжусь по совести, ты попомнишь, ты будешь доволен. Если, конечно, хватит смелости довести задуманное до конца».
Брусницын поднял с пола отрезанную полоску, придвинул пепельницу, достал спички и чиркнул. Порохом вспыхнуло пламя в локонах серого вонючего дыма. В считанные секунды от полоски бумаги остался легкий табачный пепел.
Где-то в столе был чистый конверт. Вот он, есть… Брусницын осторожно подхватил бесценную записку, упрятал в конверт и опустил во внутренний карман пиджака. Уложил разбросанные бумаги в папки, закрыл и завязал тесемки. К обеду все три затребованных дела он вернет в хранилище.
А теперь надо отвлечься, заняться работой, совсем запустил. Где там бедняга утопленник?
Брусницын опустился на стул, придвинул каталожный формуляр, взял ручку. Фразы складывались четко, переписывать он не станет, сказывался многолетний опыт. Значит, запишет так… Такой-то, такой-то… Как фамилия коллежского регистратора? Ага, Перегудов… Коллежский регистратор Перегудов осужден в долговую яму за невыплату сорока рублей золотом… Детали опустим, они в деле, помянем лишь купца Галактионова В. П., видный был купец, есть документы по коммерц-коллегии, так что купца надо помянуть, понадобится какому-нибудь исследователю… Итак, Перегудов, оказавшись в долгах, покончил самоубийством… Ну, конечно, и дату происшествия.
Брусницын начал было заполнять формуляр. Но ручка не писала, кончилась паста. Где-то валялись запасные стержни, кажется, зеленого цвета.
Брусницын медленно поднялся, подошел к шкафу. И так же медленно принялся шарить в ящиках – в одном, втором, третьем… Стержни не находились, Брусницын стал нервничать. Его злила пустая трата времени, скоро обед, а ничего не сделано. Ах, вот они, нашлись наконец! И вправду зеленые.
Стол, словно большой магнит, притягивал к себе Брусницына. И лист бумаги, на котором виднелись Царапины от сухого шарика. Брусницын сменил стержень, достал лист плотной бумаги, занес ручку и вывел первые слова:
«Начальнику управления архивами тов. Бердникову М. А. Копия – в Управление государственной безопасности. Копия – в ОБХСС при Управлении внутренних дел…»
Брусницын задумался. От кого заявление? Ага, испугался! Самое тяжелое в этом деле – написать, от кого. Ну, скажем, от анонимного доброжелателя? Ладно, допишу до конца, а там придумаю, от кого…
«…Считаю своим долгом вас уведомить, что заместитель директора Архива истории и религии по научной части, Гальперин Илья Борисович, пользуясь служебным положением, хранит дома архивные документы с письмами Льва Толстого помещику Сухорукову. Одно из четырех писем…»
Брусницын остановился… Ну?! Так что же? Иди до конца, как и задумал. Чего бояться? Все продумано, все подготовлено…
– Так, так, – бормотал Брусницын и, сузив в напряжении глаза, перечитал: «Одно из четырех писем…». Так, так… продолжим: «…датированное мартом 1891 года, было присвоено Гальпериным И. Б., с тем чтобы передать сыну, который собирается покинуть пределы нашей родины. Эта святая для каждого русского человека реликвия по воле Гальперина должна послужить предметом личного обогащения…»
Брусницын перечитал написанное. Коряво получается. Но ничего, на машинке он все поправит…
Глава четвертая
1
Сметану продавали в первом отделе, а творог в третьем. Дарья Никитична быстро сообразила. Заняла очередь за сметаной, а «творожную» очередь придерживала глазами, ждала последнего. Так и стояла, вывернув шею. И дождалась.
– Эй, дед, ты за мной будешь! Я тут пока управлюсь! – крикнула Дарья Никитична.
Дед – а им оказался старый архивный поденщик Александр Емельянович Забелин – звякнул молочным бидоном и обиженно зыркнул маленькими фиалочными глазками на шумливую старуху.
– Дарья? Ты, нет?! – изумился Забелин.
Дарья Никитична вгляделась.
– Батюшка… Александр Емельяныч! – признала она. – Ты-то как здесь оказался?
– Живу рядышком, забыла? А тебя-то чем подманили?
– И я тут живу теперь.
В магазине недовольно заворчали. Это ж надо, такой галдеж устроили старички. Боятся свою очередь упустить и орут, точно на улице.
– Ладно, вам-то что?! – приструнила Дарья Никитична недовольных. – Подумаешь, господа! И слова громкого не скажи. На похороны мы еще успеем! – разделалась Дарья Никитична с очередью. – Ты вот что, Александр Емельяныч, возьми мне полкило творога, а я тебе сметаны отвешу, у меня банка лишняя прихвачена. Сколько тебе?
– Граммов двести, – Забелин смущенно поглядывал на очередь.
В магазине восстановился хмурый деловой гомон.
Забелин был супругом приятельницы Дарьи Никитичны и вообще добрым знакомым. Только не виделись несколько лет. И вдруг такая встреча.
Вышли из магазина вместе. Первым делом расспросила Дарья Никитична о здоровье своей подружки, рассказала о своем здоровье – так все ничего, только диабет замучил.
– Ты что же, Дарья? – выслушал Забелин. – В наш район переехала?
– К. племяннику перебралась, – запнулась Дарья Никитична. – Поят меня, кормят… Правда, при диабете какая кормежка? Только творогом и питаюсь. Да звар пью, на ревене… А ты? Слушай, ну ты и выглядишь, жених, ей-богу! Небось слово знаешь?
– Знаю, Дарья. Все на ногах, поэтому, – ответил польщенный Забелин. – Как вышел на пенсию – ноги в руки и… Просижу недельку в архиве, подберу материал – ив дорогу. То одних разыскиваю, то других.
– В архиве, говоришь? – встрепенулась Дарья Никитична.
– В архиве. Я там свой человек… Сходи в исполком, там макет выставили старого города. Моя затея. Грамоту дали и премию, – хвалился Забелин. – А теперь вот просветителями занимаюсь. Народными. Мельник был один. Так он картинную галерею собирал. Лекции по искусству читал для простого народа… Такие люди на Руси жили. И все в архиве на полках стоят, как воробушки, ждут своего часа…
Не торопясь, они шли по сонной боковой улочке. Самое время для душевного разговора – десять утра: служивый народ разбежался по учреждениям, детей загнали в сады и школы, собак позапирали охранять добро… И самим спешить некуда – жена Забелина еще вчера уехала к больной сестре, ночевать там останется, у Дарьи Никитичны тоже особых строгостей не было – стервоза Ольга на работе, а сам Будимирка, прохиндеистый племянник, заперся в кабинете, колдует. О чем он там колдует, непонятно. Заходил Хомяков, принес какие-то папки, ушел, торопился на работу. Зыркнул хмуро на Дарью Никитичну, может, пожалел, что язык свой распустил по пьяни… Так что время Дарью Никитичну не стесняло, и она всей душой радовалась встрече. Добрые отношения связывали ее с Забелиными, было о чем вспомнить. И рассказать было о чем, рассказывать Дарья Никитична любила, разойдется – и не остановишь. А кому еще открыться ей, не племяннику же, если речь в рассказе и шла о нем.
Забелин слушал внимательно, статно спрямив плечи, сияя тугими щечками. Нравилась ему Дарья Никитична давно, будь он один – присватался бы к вдовице. В молодости многим голову кружил, натерпелась от него жена. И сейчас глазки блестят, комплиментами архивных женщин закидал. И ухаживать не разучился – то грибочков на меду поднесет, то конфетину, то байку расскажет. Особенно по душе ему пришлась чернявая Нина Чемоданова, целую банку грибов ей снес…
– Что, Александр Емельяныч, может, посидим немного, дух переведем. А то несемся, как ракеты, – Дарья Никитична опустилась на драную скамейку.
– Посидим, Дарья, – согласился Забелин. – Да, дела у тебя, прямо скажу, не очень.
– Куда уж, – вздохнула Дарья Никитична, – вывозят меня из России, Емельяныч, может, в последний раз и видимся. Вывозят, как Стенька Разин шемаханскую царицу. И бросят где-нибудь, на кой я им сдалась.
– Ты мне эту варварскую песню не напоминай, Дарья, – вдруг вскипел Забелин.
– Чего так, Александр Емельяныч?
– Нашли чем бахвалиться, елки корень… Бросает беззащитную женщину в реку и хвастает. Нет чтобы самому броситься. Или кого из своих бандюг кинуть… Над беззащитной женщиной изголяется, фашист.
– Ты что, Емельяныч? Фашист. Нашел тоже, – притихла Дарья Никитична. – Песня ведь.
– Песня песне рознь. Только русского человека позорят… А те поют себе и не понимают, кого славят, умиляются.
Тощий воробьишко спикировал на асфальт перед скамейкой и приблизился скоком, словно с поручением. Маленькая головка ходила как на шарнире, выбирая, как бы не проглядеть опасность, лежалые перышки еще не взъерошили холода.
Забелин полез в свой «сидор». Воробьишко взлетел, но тотчас вновь опустился. Колупнув творог, Забелин бросил на асфальт несколько крошек. Птаха изловчилась, ухватила клювиком подарок. Тут же слетело еще три воробья… Дарья Никитична последовала примеру Забелина. Так они сидели, подкидывая пропитание.
– Малявки, а прожорливые, – примиренчески произнес Забелин.
– То-то, – не стала дуться Дарья Никитична.
– А ты, Дарья, ерепенься, не давайся, – проговорил Забелин. – Что значит – «хотят вывезти»?
– Опутали меня, Емельяныч, – вздохнула Дарья Никитична. – Говорят: сирота ты, куда денешься, старая… Сто лет не вспоминали, а тут вспомнили.
– Почему?
– Так я для них, этот… паровоз. У меня мать немка, имею право на выезд к своим, немцам.
– К демократам? – подковырнул Забелин.
– Куда там! Что они, дураки? У меня племянник знаешь какой настырный, что ты… Всех, говорит, куплю-перекуплю, а выезд оформлю… Точно, как этот вон, рыжий. Кыш, паразит! – Дарья Никитична взмахнула рукой, пугая крупного рыжего воробья, что ловчее всех справлялся с творогом, утаскивая чуть ли не из клюва сотоварищей. Воробьи дружно вспорхнули и, вереща, рассыпались по веткам кустарника, возмущенно поглядывая на кормильцев.
– Говорит, хочу там развернуться. Дать волю своему таланту, – продолжала Дарья Никитична.
– А какой у него талант?
– Какой? Жулик он, ясное дело.
– Жулики только у нас могут развернуться.
– Ну… не такой он жулик, – чуть обиделась Дарья Никитична. – Коммерсант, скорей… Чего ему тут не хватает, живет как бог… Слушай, Емельяныч, хочешь, сходим ко мне? Поглядишь, как люди живут.
– Здрасьте. Чего это я вдруг? – замялся Забелин.
Дарья Никитична распалила его любопытство, самую настойчивую черту характера. Забелина интересовало все на свете, неспроста в архиве штаны просиживал.
– Как же так, приду – здрасьте, я ваша тетя, да?
– Ну и что? Не имею права своих друзей видеть? – задело Дарью Никитичну. – Раз на мне выезжают, имею право. Не рабыня я белая. Не нравится – пенсия у меня всегда есть. Вообще-то Будимирка парень неплохой, жена его настропаляет. Родить, стерва, не может, думает, там ей, прости господи, другую свечу поставят, ей-богу.
Забелин одобрительно хихикнул, такие шутки он всегда ценил.
– Пошли, пошли. Сырничков напеку, небось голодаешь без жены, – искушала Дарья Никитична. – А хочешь, вина поднесу. Того добра у Будимирки навалом. С медалями, точно у натасканного пса.
Вторая Пролетарская находилась отсюда недалеко, а душевный разговор сокращал путь вдвое. Дарья Никитична познакомилась с семейством Забелиных в госпитале, где лежал после ранения ее единственный сын Сережа. Его ранили в голову в июне сорок пятого, уже после победы, на территории Чехословакии. Сережа из госпиталя так и не выбрался, полетела светлая его душа вслед своему отцу, которого пуля нашла в сорок втором, под Ленинградом. А сын Забелиных выбрался из госпиталя, на костылях, но выбрался. С тех пор Дарья Никитична и поддерживала добрые отношения с Забелиными, но в последние годы виделись редко. Было что вспомнить, было…
Подойдя к дому, Дарья Никитична охнула – белая Будимиркина автомашина, что обычно паслась у подъезда, исчезла, оставив на асфальте масляное пятно. «Никак, уехал племянничек», – подумала старая и воспряла духом. Признаться, она в душе робела – ведет постороннего человека в чужой дом. Косить глазом будет племянничек, да и кому понравится… А так – уехал себе и уехал. Угасший было пыл вновь разгорелся, ключи у нее в кармане, пока Будимирка вернется, они с Емельянычем управятся – попьют чайку да сырников поедят.
Дарья Никитична шагнула в подъезд. Присмиревший Александр Емельянович держался позади, решив про себя – если что, даст дёру, мало ли какое настроение будет у того бандита, – всю дорогу Дарья Никитична стращала Забелина жутким характером своего племянника, видно, поубавилась охота вести в квартиру постороннего, а духу в этом признаться не хватало. Так что Забелин хоть и трусил, да только с любопытством своим справиться не мог.
А тут, у самого подъезда, Дарья Никитична вдруг повеселела, озорно глянула на оробевшего спутника:
– Пошли, пошли, Александр Емельяныч. Лифт не работает, ремонт затеяли… Ничего, доползем. Ты только мою сумку понеси, а я ключи достану, – она решила не сообщать Забелину, что племянник куда-то сиганул, будет сюрприз.
Взобравшись на площадку, она увидела у своих дверей какого-то мужчину, в плаще, шляпе, с портфелем в руках.
– Вы к нам? – спросила Дарья Никитична, чувствуя спиной, как Забелин настороженно остановился за лестничным поворотом.
– Да, – промямлил мужчина. – К Варгасову. Здравствуйте. Звоню-звоню, никто не открывает. А мы договорились.
– Уехал, верно, – нехотя раскрыла сюрприз Дарья Никитична. – А что надо? Передать что? – теперь она вспомнила, что видела этого мужчину у Варгасовых, правда, народу в тот вечер было много…
– Мне он лично нужен, – мямлил мужчина. – Я хотел… – мужчина вдруг осекся, точно увидел черта. Повернулся и побежал вверх по лестнице.
– Да куда же вы?! Эй! – растерялась Дарья Никитична. – Куда это он дунул, Александр Емельяныч?
– Понятия не имею, – обескураженно ответил Забелин. – Только я высунулся, а он и сквозанул… А кто такой?
– Не знаю… Ходят ненормальные, – Дарья Никитична стояла, задрав голову и придерживая рукой сбившийся платок. – Где вы там?! Чудной какой-то… Да ладно, будем мы еще тут всяких психов дожидаться.
Разобравшись с непростыми ключами, Дарья Никитична пропустила в прихожую гостя, захлопнула дверь и еще простояла некоторое время, прислушиваясь.
В тот день Будимир Леонидович Варгасов испытывал особую опустошенность. Она подкатывала давно, с тех пор как приговором суда его поместили в колонию общего режима. Наказание, хоть и не суровое, но больно ударившее по честолюбию Варгасова. Конечно, он сумел создать себе там довольно сносное существование, слава богу, и средств, и связей оказалось более чем достаточно. Однако сам факт осуждения его потряс. Да, погибли люди на объекте его Дачно-строительного управления, да, управляющий должен нести ответственность. Но управляющим был не кто-нибудь, а он, Будимир Варгасов, который держал в кулаке «весь город»… Как ни юлили тогда судья с прокурором, как ни клялись в любви к нему, как ни уверяли, что дело находится на контроле в Прокуратуре СССР, – угораздило же, что среди погибших был сын министра, – Варгасов им это не простил. И своей обидой перегнул палку. Гордыня в его среде – ненадежное оружие, надо утереться и сказать спасибо. Не только у тебя есть деньги и связи… Так что, покинув колонию, Варгасов почувствовал вокруг себя особое разряжение. И дело вовсе не в министерском сынке, Варгасов это понял, не дурак. И то, что вокруг образовалась разряженность, следствие не пребывания в колонии и подмоченной репутации, а его строптивости. Как сказал один из теоретиков этой жизни, его домашний врач и эксперт-искусствовед Вениамин Кузин: «Вы, Будимир Леонидович, теперь, по их мнению, должны есть и пить на то, что припрятали. Теперь их время складывать за щеку. Потом придут другие. И так далее».
Тогда и решил Варгасов выбраться из страны. А тут еще и жена со своими проблемами.
По мере того как раскручивался маховик, Варгасов все яснее улавливал сбой в его работе. Он уже не был тем Варгасовым, он все больше становился его однофамильцем. Память восстанавливала детали, штришки, хоть и мелкие, но весьма симптоматичные. Скажем, по выходе из колонии ему отказали в том самом аварийном фургоне, что в былые дни, во время славных отлучек из колонии, сутки покорно ждал его во дворе дома. Не нравился тон, которым разговаривали с ним в учреждениях, куда он вынужденно обращался после отбытия наказания. А в горкоме бывшие друзья-товарищи его полмесяца не принимали. С оформлением попечительства над теткой вопрос оттягивался, а он с таким трудом сманил старую зануду к себе, без нее трудновато осуществить затею… Последним камешком, подпортившим настроение в тот день, был разговор с бывшим приятелем, начальником отдела Комитета госбезопасности. Поводом служил арест родственника жены, радиста сухогруза «Северлес». Его задержали в Таллинне с какой-то дешевой контрабандой – то ли колготки, то ли плащи. Сам по себе факт мало беспокоил Варгасова, в тот злополучный рейс родственник жены уходил без «особых» поручений. А ведь предупреждал его Варгасов не мелочиться, не пачкаться, серьезным делом занят – перевозил в светлые дали семейное добро: камушки, побрякушки, бумаги кое-какие… У Варгасова на местах имелись надежные люди, из эмигрантов, сохранят в лучшем виде. Так нет, попался на дешевых колготках, дурень… «Ты, Будимир, не пыли из-за родственничка, – посмеивался приятель-гебист. – Пожурят – отпустят. Иначе весь торговый флот надо сажать в кутузку… А вот тебе скоро пятьдесят стукнет, подумай крепко…» Чем же не понравился Варгасову тот разговор? Смехом не понравился. Каким-то тихим ерническим смехом, с намеком. Раньше приятель смеялся громко, раззявя рот, прищелкивая толстым языком… И еще не понравился тем, что приятель избегал встречи – не показывался, не звонил. Сам же Варгасов ему звонить не хотел, можно дело испортить – приятеля-гебиста звонки пугали, да еще от недавнего заключенного. И встретились они сегодня случайно, в Доме кино, на просмотре зарубежного фильма. Хорошо, Варгасов вспомнил о просмотре, решил съездить, развеяться, тем более днем.
Вернулся домой вконец опустошенным и с твердым убеждением, что надо торопиться.
Прошел на кухню. Тетка Дарья хлопотала у мойки. Судя по склоненному затылку, была не в духе, старая калоша. Чего ей еще надо? Живет как у Христа за пазухой, дом полная чаша. Нет, ей лучше было в развалюхе № 5 по улице Достоевского… Ну, так сходит когда-нибудь в магазин, не торопясь. Сегодня утром, к примеру, как ушла в молочный, так и пропала, хорошо хоть с ключами разобралась, иначе Варгасову бы не выбраться в Дом кино. Интересно, где она пропадала?
– Тёть Дарья… Вы что там, в магазине, вологодского масла дожидались? – спросил игриво Варгасов.
– За творогом стояла, – уклончиво ответила Дарья Никитична. – Сырники ешь. Наготовила свежих. Небось у своей красавицы таких не попробуешь.
– Что вы… все к ней вяжетесь, – сдержанно произнес Варгасов, примериваясь к сырникам, что аппетитными розовыми кружками лежали в миске.
– А то и цепляюсь, что по ее милости должна дом свой оставлять, – тетка была явно не в духе. – Что я там забыла, в Германии?
– Опять двадцать пять, – Варгасова отвлек звонок телефона. Облегченно вздохнув, он снял со стены трубку. Но слышал только дыхание своего неизвестного абонента.
– Который раз кто-то звонит и молчит, зараза, – вставила Дарья Никитична.
– Алло! – произнес Варгасов. – Что вы молчите?
– Будимир Леонидович? – тихо прошелестело в трубке.
– Ну, я, – напрягся Варгасов: – Кто это?
– Анатолий Семенович, – с облегчением донеслось из трубки. – Брусницын… Только не повторяйте мою фамилию вслух, прошу вас.
– Ах, это вы? – просьба Брусницына обескуражила Варгасова. – Что же так? Я вас ждал вчера, а вы…
– Нет, нет… Мы ведь договорились – вчера вечером или сегодня в первой половине дня, – запротестовал Брусницын. – Я был у вас в начале двенадцатого, но не застал… Спуститесь, пожалуйста, на улицу.
– Так поднимайтесь ко мне, – продолжал недоумевать Варгасов.
– Нет, нет… Я жду вас у овощного киоска. На углу вашего дома.
Варгасов повесил трубку и чертыхнулся. Прошел в кабинет и приблизился к окну, отсюда хорошо просматривался весь угол дома. Из телефонной будки, что напротив овощного ларя, вышел мужчина в шляпе, с портфелем в руке. Посмотрел на часы, огляделся по сторонам и встал, в ожидании прильнув спиной к стене дома.
Варгасов не ведал, какое смятение овладело сейчас Анатолием Брусницыным, как билось его сердце, отдаваясь в горле сильными толчками. Все время, после того как он выбрался из варгасовского подъезда, мысли Брусницына занимал один вопрос – узнал его старик-краевед Забелин или нет?! Факт, из-за которого могла поломаться судьба Брусницына, рухнуть его жизнь. И, главное, ничего уже не изменить – все три анонимных письма отосланы адресатам, и не исключено, что уже лежат на столах строгих казенных учреждений… А тут появляется свидетель того, что он, Брусницын, лично приходил в дом к Варгасову. И в случае, если Варгасов признается, откуда у него… архивный документ, Брусницын уже не отопрется, и версия корыстной продажи Гальпериным ценнейшего раритета – отпадет. Ясно, кто доставил Варгасову этот документ, следователи свое дело знают, все расколют… А если не отдавать Варгасову записку Толстого, унести обратно в архив? Что тогда? И тогда плохо… По анонимке начнут трясти Гальперина, искать четвертое письмо. Но вряд ли они выйдут на юриста-археографа Алексея Гагарина, ведь тропинку к нему Брусницын сжег. Подсказать? Это вызовет подозрение. А тут и вновь может подоспеть дед-краевед Забелин и привлечь внимание следователя к персоне Брусницына, даже если и не найдут документ у Варгасова, даже если только возникнут слухи.
И вдруг сознание Брусницына обожгла мысль – а что если и старик Забелин работает на Варгасова? А?! А почему бы и нет? Старик Забелин, Хомяков… Они ходят к Варгасову, они вхожи в архив, Хомяков вообще на службе.
Ручка отяжелевшего портфеля проскальзывала в мокрой ладони. Горячую спину, вдоль позвоночника, холодила колкая струйка пота…
Ну, а если все-таки Забелин его не разглядел?! Конечно, не разглядел, иначе обязательно бы отреагировал, у старика живой характер, он бы не смолчал К тому же свет от окна падал со стороны Брусницына и дальше, в лицо старика Забелина. Поэтому Брусницын мгновенно его признал, едва лицо старика вынырнуло из лестничного проема… Так, переменно впадая в истерику- и остужая ее здравым рассуждением, Брусницын промучился около часа, ничего определенного не решив. Доведя себя до исступления, он впал в совершеннейшую апатию. Словно в полусне подошел к телефону, выбрал из кармана монетку. Единственное, что он определенно решил, это не подниматься в квартиру Варгасова, не исключено, что старичок-краевед еще сидит… «Ах вы, сволочи! – набирая номер телефона, поносил он про себя и старика Забелина, и Хомякова. – Я бы вам показал, паразиты…» – впервые так остро, до боли, Брусницын пожалел о шлагбауме, который опустил перед ним искуситель Варгасов.
А Варгасов уже шел навстречу, раскинув руки и сердечно улыбаясь…
Когда Будимир Леонидович вернулся домой, на нем не было лица. И без того крепко сколоченный, сейчас он казался каракатицей, накаченной гневом. Черные широкие брови кустились над яростными глазами, тяжелые шаги продавливали покойную тишину квартиры.
– Ты чего, Будимирка? – Дарья Никитична испуганно присела на край табурета. – Убить меня собрался? Погляди на себя.
– Это ты погляди на себя! – прокричал Варгасов. – Ты кого сюда приводила? А?!
– Кто? – глазки Дарьи Никитичны заметались по кухне.
– Ты! Кто… Я спрашиваю, кого ты сюда водила?
– А что особенного? – обомлела догадкой Дарья Никитична. – Ты что, Будимирка? Спятил, нет? Бога побойся, такое думать о старой тетке… То же мой знакомый, старичок-боровичок.
– То-то, боровичок! – взвился Варгасов. – Он что, в архиве работает?
– Работает? Да он же пенсионер… Господи, что с тобой, Будимир? Что особенного? Ну, посидели, чаек попили, сырников поели, поговорили.
– Где ты его встретила? У нашего дома?
– Где встречаются старики? В молочном магазине, – мягко ответила Дарья Никитична. – Чего ты испугался, точно за тобой черти гонятся? Думаешь, он следит за тобой? Нужен ты ему больно.
Варгасов приблизил к тетке бешеное лицо.
– Ну?! И что вы тут делали? Кроме чая!
– Ничего… Я ему квартиру показала. Хвастала, как ты живешь, – простодушно ответила Дарья Никитична. – Что особенного?
– И в кабинете были?
Дарья Никитична молчала, борясь с искушением сказать правду. Слезы наворачивались на глаза. За что ей такое наказание? Жила себе спокойно и жила. Если что и случалось, сама ответ и держала, ни от кого не зависела… А тут крикун этот того и гляди кулаком поддаст, весь в отца своего, Леньку, тот тоже все норовил горло сьое жилами опутать, что не так – в крик. С какой такой стати, интересно.
– И в кабинет водила? – наседал Варгасов. – Стол мой показывала, да?
Дарья Никитична смежила дряблые веки, отмывая глаза.