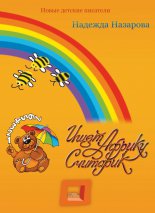Николай I без ретуши Гордин Яков

Твой старый верный друг папа.
Н.
С.-Петербург. 8 мая 1837 г.
2) Получено 11 мая 1837 г.
На дороге из Ярославля близ Ростова
Сегодня утром прибыл фельдъегерь с письмом твоим, любезный Саша, от 6 мая из Твери. Благодарю Бога, что ты здоров и совершаешь благополучно свою поездку; с радостью и любопытством читал я все подробности твоего пребывания. Меня не удивляет, что тебя хорошо принимают; теперь только что ты въехал в сердце России, тут-то увидишь, до какой степени добр народ и как жива привязанность его к нашей семье.
Мне приятно весьма слышать от Кавелина, что твое поведение согласно с моими желаниями и что ты показываешься таким, как должно будущему царю русскому. Не одного, а многих увидишь подобных лицам «Ревизора», но остерегись и не показывай при людях, что смешными тебе кажутся, иной смешон по наружности, но зато хорош по другим важнейшим достоинствам, в этом надо быть крайне осторожным. Сегодни ты следуешь Ярославлем и вспомнишь меня в угловой комнате или на балконе, любопытно знать, как это тебе понравится. Погода у нас другой день стоит холодная, и я не мог прозвести полковых смотров, вчера мы прибивали знамена, и мы за тебя вдавили гвозди; завтра будет им освящение в Малой церкви; и сборный взвод их примет и отнесет в свое место. Сегодни был я в Первом кадетском корпусе и был весьма доволен учением, невзначай сделанным, учились молодцами. Нового, впрочем, ничего нет. […]
Кланяйся спутникам, надеюсь, что Виельгорский отделался от простуды. Князю Ливену лучше.
Прощай, любезный Дидешка, Бог с тобой. Обнимаю тебя от всего сердца.
Твой старый верный друг.
Н.
Царское Село. 14 мая 1837 г.
3) Получено 21 мая 1837 г.
На дороге из Вятки
между Глазовым и Ижевским заводом
Вчера после обеда получили мы твое письмо, любезный Саша, из Ярославля; благодарю Бога, что доселе все благополучно в вашем путешествии… Скажи Кавелину, чтоб чрез передового фельдъегеря открытым предписанием от моего имени к местным властям строжайше запрещено было выпрягать у тебя лошадей. Всего более опасаюсь подобных сцен, тут до беды недалеко. Хотя ты мне про Ярославль не говоришь, но кажется, это место тебе полюбилось. Сегодни [ищу] тебя в Костроме в Ипатьевском монастыре, где предвижу те же сцены.
Хотя ты уверяешь меня, что от 5 часов осмотров ты не утомляешься, однако смотри лишнего не делай, а дели по силам твоим, ибо успеть можешь и не сряду смотреть. Я замучен учениями, всеми был очень доволен, кроме Финляндских; Литовский очень понравился, а Павловским был отменно доволен. Теперь дал себе несколько дней отдыха и займусь чтением бумаг. На той неделе буду смотреть кавалергардов и конную гвардию. Погода у нас стоит отличная, сегодни вечером была небольшая гроза и славный дождик, после которого мы с мама проехали в кабриолете; вечер был отличный, и воздух напитан духом от сырых берез, т. е. чудо! […]
Твой верный старый друг. Н.
Твой Нептун (собака. – Я. Г.) со мной. Знакомится хорошо и гуляет, и очень мне послушен.
Царское Село. 19 мая 1837 г.
4) Получено 28 мая 1837 г.
На Кушвинском Благодатском заводе
Сегодни утром, вставая, нашел я письмо твое, любезный Саша, из Костромы, и благодарю милосердого Бога, что путешествие твое до сих пор идет благополучно, и молю Его, чтоб дал тебе довершить все сходно с нашим желанием и ожиданием. Радуюсь, что ты ознакомился с частью сердца России и увидел всю цену благословенного сего края, увидел и как там любят свою надежду. Какой важный разительный урок для тебя, которого чистая душа умеет ощущать высокие чувства! Не чувствуешь ли ты в себе новую силу подвизаться на то дело, на которое Бог тебя предназначил? Не любишь ли отныне еще сильнее нашу славную, добрую Родину, нашу матушку Россию. Люби ее нежно; люби ее с гордостью, что ей принадлежен и родиной называть смеешь, ею править, когда Бог сие определит для ее славы, для ее счастия! Молю Бога всякий день в всяком случае, чтоб сподобил тебя на сие великое дело к пользе, чести и славе России. Благодарю искренно Кавелина за продолжение его писем, желаю, чтоб упоминал мне, как тобой доволен.
Журнал пишется хорошо, но нужно в нем помещать более подробностей об виденном вами, ибо он должен быть общий resume, или ваш памятник поездки, дабы со временем, в него заглядывая, вспоминать про виденное. Здесь нового ничего у нас нет, погода стоит прекрасная, сего дни учил оба 1-х бат[альона] Преображенского и Семеновского полков. Первым был очень доволен, вторым не столько. Послезавтра смотреть буду кавалергардов и конную гвардию… Князю Ливену опять похуже. Жаль мне, что Виельгорский все плохо поправляется, лишь бы не хуже было; кланяйся всем твоим спутникам.
Бог с тобой, любезный Саша, обнимаю тебя от души. Где-то письмо сие получишь? Полагаю, в Перми.
Прощай, твой старый верный друг папа.
Н.
Александрия. 24 июня 1837 г.
11) Получено 29 июня 1837 г.
на ст[анции] Чунаки
между Саратовом и Пензой
Благодарю тебя искренно, любезный Саша, за доброе твое письмо из Оренбурга, которое вчера вечером получил. Благодарю Бога, что твоя поездка продолжает быть успешной и что ты с пользою видишь любопытный этот край. Искренно же благодарю тебя за все твои добрые чувства ко мне по случаю дня моего рождения. Знай же, что лучший для меня подарок есть ты сам; тогда, когда имею случай и причину тебе сказать, что и тобой доволен. Все, что ко мне доходит про тебя, дает мне право с радостью тебе сказать, да, я тобой доволен. В мои лета начинаешь другими глазами смотреть на свет, и утешение свое находишь в детях, когда они отвечают родительским справедливым надеждам. Этим счастьем, одним, величайшим, истинным, наградил нас досель милосердый Бог в наших милых детях.
На тебя же взираю я еще иными глазами, может быть, еще с важнейшей точки; я стараюсь в тебе найти себе залог будущего счастья нашей любимой матушки России, той, для которой дышу, которой вас всех посвятил еще до вашего рождения, за которую ты также отвечать будешь Богу! Когда вижу, что надежды мои обещают быть не тщетными, что ты чувствуешь, что я хочу, чтоб ты чувствовал, что ты, час от часу более узнавая край, более и более его любишь и чувствуешь всю огромность будущей твоей ответственности, – тогда я счастлив. Спасибо тебе.
С удовольствием читал я описание всего тобой виденного… Башкиры добрый народ, но я полагаю, что полезнее со [временем] обратить его в хлебопашцы, ибо пользы военной от него нет, зло же может когда-нибудь от них произойти. Вообще дикий вооруженный народ иметь за собой неудобно. Погода у нас сделалась ужасная, холод и дожди не перестают. Несмотря на то вчера в Красном Селе в 5-м часу утра делал я тревогу и был всем отлично доволен, и тем более, что не было ни одного даже бат[альонного] учения, все шло славно. […] Сегодни открывается [театр], а ход завтрашнего дня предположенный, обычный. […] Прощай, милый Саша, Бог с тобой.
Твой навечно старый друг папа.
Н.
Жена мне вручила твои подарки, милый Саша, за которые искренно благодарю; завтра явлюсь с твоим палашом.
Заметим, что кроме патриотических наставлений и государственных соображений – обратить кочевых башкир в землепашцев – основное содержание писем – описание фрунтовых занятий, которым сорокалетний глава империи отдавался со страстью. Несмотря на участие в турецкой войне, он так и не осознал разницу между парадными учениями и реальной войной…
Чрезвычайно трогательными были переписка и дневник великого князя Константина Николаевича, будущего сподвижника Александра II в проведении Великих реформ 1860-х годов.
Константина император предназначил для военно-морской карьеры, и с отрочества великий князь принимал участие в плаваниях под руководством своего воспитателя известного адмирала Федора Петровича Литке.
Письма Константину, находившемуся в море, Николая Павловича и великого князя Александра Николаевича, переписанные Константином в дневник
«Царское Село. 9 июня 1844 г.
По приезде моем сюда получил я два твоих милых письма, любезный Костя, и радуюсь душевно, что благополучно совершил свою поездку и с полным усердием принимаешься за службу. Я надеюсь, что чувство долга тебя поддержит и что будешь уметь, готовясь на свое ремесло, с усердием и прилежанием и полною любовью, приобресть уважение твоего начальства и твоих товарищей по службе; в том да поможет тебе милосердый Бог и возвратит к нам целым и здоровым.
Здесь предлежит нам жестокое испытание. Бедная наша Адини в весьма опасном положении. Отчаиваться было бы грешно, но должно нам всем с покорностью и безропотно покориться воле Божией; ему лучше известно, что нам нужно, сколько оное для нас и непонятно. Смиренно будем же ожидать, что он определит. Ты же ищи крепости и утешения у него же с полною покорностью и надеждою. […] Да хранит тебя всемилосердый Бог нам в утешение… Целую тебя душевно. Твой навеки старый друг, папа Н.».
Тут я весь залился слезами и снова усердно молился Богу. Далее я прочел письмо Саши.
«Царское Село, 9/21 июня 1844 г.
Прости меня, любезный Костя, что до сих пор не отвечал тебе на твое милое письмо, но мне столько было хлопот все это ремя, что я ни минуты свободной не имел.
Третьего дня папа воротился благополучно из Англии; мы с братьями ездили к нему на встречу в Петергоф.
К несчастью, причина его скорого возвращения столь для нас грустна! Тебе, вероятно, писали, что бедной нашей Адини хуже; наконец доктора объявили нам третьего дни, что нет уже никакой надежды. Ты можешь себе представить, как это нас поразило.
Нам остается только молиться Богу. Впрочем, да будет воля Его. Вот одно утешение на этом свете в подобных случаях, ибо оно нам напоминает, что мы все созданы для другой жизни. Не могу более писать. У меня слезы так и льются. Обнимаю тебя от всей души. Твой верный брат и друг. Александр».
Тут я горько зарыдал, и оно мне показало всю правду, о которой другие письма только напоминали. Так с тяжелым сердцем, но не без надежды я лег спать.
Из дневника великого князя Константина Николаевича
1 июля 1844 г. Сегодня чрезвычайно свежо. Если б мы шли бейдевинд, то, может быть, мы нашли бы, что это шторм. Крюйсель был закреплен, и [с] других двух марселей были взяты три рифа. Волнение развело огромнейшее. Мы имели узлов 10 и 11 и одно время больше 12. Сегодня 1 июля. Возможно ли это подумать? У нас такой холод, что мы наверху в теплых зимних шинелях.
А дома! В Петергофе! Эта мысль наводит на меня тоску невыразимую. У меня в душе какое-то чувство тяжелое, которого не могу объяснить. Оно так и рвется. Множество воспоминаний вдруг в ней теснятся… Это все меня так и душит. Я сам не знаю, что со мною делается. И ничего этого не выходит наружу. Все остается внутри, и тем больше меня томит и мучает. О Боже мой! Боже мой! Адини! Бедная, что с ней делается? Мама, папа, которые, говорят, с горя как бы десятью годами состарились! А я у Нордкапа! На том краю света, ничего не вижу, не слышу, тоскую. И скоро ли это ужасное положение мое кончится?
24 июля 1844 г. В 4 часа меня разбудили на вахту. Ночью сделался противный ветер. Наконец, пройдя брантвахту и сделав еще два поворота, вызвали всех наверх. Мы убрались парусами, привели к ветру, и наконец раздалась блаженная команда: «Из бухты вон. Отдай якорь». Кончен поход. Мы дома. Мы воротились. Архангельский поход был, а не есть…
Папа мне сказал: «Бог нам ее еще сохранил. Она еще жива, но вот и все, что можно сказать об ней». Папа повел меня в церковь, стал на колени, мы последовали за ним, и тогда я стал усердно молиться. Сперва я благодарил Господа Бога за то, что он привел нас так счастливо домой, а потом молил его за бедную нашу Адини.
Когда папа встал, у него были слезы на глазах. Он меня поцеловал и сказал: «Продолжай, как начал».
29 июля. Адини больше нет на свете. Да будет воля Твоя.
30 июля. Ужасно первое утро! Панихида утром, панихида вечером. Обедня. Первая ектенья без нее! Отрадные слезы. Адини уж больше нет на свете. Одна отрада в молитве.
31 июля. Сегодня день смерти Адини. Теперь мы оплакиваем другую Адини. Утром в 10 часов была коротенькая молитва перед Адини. Потом мы подошли к ее постели и перенесли в другую постель, вечную, тихую.
Мисс Г. упала без чувств. Мы все рыдали. Адини лежит в гробе. Мы все за него схватились, подняли, понесли. Я шел с левой стороны у ног ее. У меня впечатлелось навсегда ее лицо в эту минуту. Мы ее понесли через сад в церковь и поставили ее на стол. Там дослужили панихиду, потом обедню, и вечером опять панихиду.
1 августа 1844 г. Гроб поставили в Адинин ландау. Мы сели верхом и поехали шагом. Адини навсегда оставила Царское Село.
3 августа. Гроб стоит закрытый, но 3 августа его открыли. Мы с ней в последний раз простились. Папа и мама ее благословили и последние поцеловали. Мы ее в последний раз видели до минуты общего соединения.
4 августа. Настал наконец тяжелый последний день. Не забуду я никогда, как гроб понесли, как папа вполголоса сказал: «С Богом», как гроб медленно стал опускаться в тихую могилу, как мы все бросили на него землю, как, наконец, я в последний раз взглянул на него в глубине могилы – и все исчезло с лица земли, что было Адини.
Судя по письмам – да и по дальнейшей судьбе! – молодые великие князья не похожи были на своего отца в молодости. Было ли это влияние Жуковского, который отнюдь не походил на воспитателей Николая и Михаила, или же они унаследовали мягкость характера от матери, но факт остается фактом. Это были люди совершенно иного склада, хотя и любили своего отца и преклонялись перед ним.
Как они оценивали его государственную деятельность, станет ясно позже.
Николай отвечал им нежной отцовской любовью.
Из письма Николая I великому князю Константину Николаевичу. 9 сентября 1852 года
От всей души поздравляю тебя, мой милый Костя, благополучным достижением 25 лет. Господь тебя, видимо, благословил в эти первые 25 лет жизни, дав тебе ум и способности быть полезным слугою государству, сохранив среди неприятельского огня и в морских твоих путешествиях и даровав высшее из всех – семейное – счастие: добрую, милую жену и двух ангелов детей. Вступая ныне в совершенно зрелые лета, будь зрел и деяниями, более и более свыкаясь с делами, основывая мнения твои не на минутных впечатлениях, не на детских или юношеских предрассудках, но на испытанной истине, на правосудии, на прямом чувстве долга верноподданного слуги. Справедливо заслуженное об себе доброе мнение поддержки и впредь, в чем и ничуть я не сомневаюсь.
Благодарю за письмо, долго писать не могу. Твоим полком, как и всей кавалерией, был я отменно доволен. Сейчас еду на корпусное ученье. Желаю, чтобы было хорошо. Обними милую Санни[31] и крошек. Обнимаю тебя от души. Твой.
Из «Записок» барона Модеста Андреевича Корфа
Государь был, как всегда, бесподобен. Он сидел при брате (Михаиле Павловиче. – Я. Г.) по часам, навещая его притом беспрестанно, и днем и ночью, из Лазенок[32], места своего пребывания, в Бельведер, где больной умирал… Во все это время у государя смертельно болела голова, и он, однако ж, не давал себе ни минуты покоя: ему беспрестанно поливали голову одеколоном и уксусом, а он все стоял тут неотлучно как представитель высшей родственной любви, сам за всем смотря и обо всем думая. Нередко он становился возле постели на колени и горячо целовал руки больного, которые тот, в болезненном бессилии своем, тщетно старался отнять… Когда врачи объявили, что настал последний час, государь, видя возле себя Толстого[33], велел ему стать на колени у изголовья.
– Вот, – сказал он, – где принадлежит тебе место.
Между тем смерть еще медлила, и тогда государь, наклонясь к уху стоявшего на коленях, прошептал:
– Не очень ли вы устали, мой милый?
Государь оставил Варшаву в самый день кончины великого князя, после упомянутой выше вечерней панихиды, и приехал в Царское Село 31 августа [1849]. На следующий день напечатан был манифест о горестной утрате, омрачившей общую радость при счастливых событиях, которые покрыли новою славою русское оружие (имеется в виду разгром венгерских мятежников. – Я. Г.). […]
Как прекрасны, как справедливы были заключительные выражения этого манифеста в отношении к отшедшему! Конечно, вся жизнь его, все труды и попечения были беспрерывно посвящаемы на службу царю и отечеству; конечно, по чистоте сердца, дел и намерений никто более его не был достоин великого имени христианина! При всем том известие о кончине того, которого ошибки были всегда виною ума и никогда сердца, Петербург принял вообще холодно. Немногие сквозь жесткую оболочку наружности Михаила Павловича умели разгадать высокие его чувства и чистоту души; у большей части были в памяти только строгость его к военным, выходившая иногда за пределы дисциплинарные, его придирки, наконец, разные странные поступки его при выступлении весною гвардейского корпуса в поход, которые, точно, можно было объяснить лишь уже развивавшимся в нем в то вемя болезненным раздражением.
Над свежим трупом обыкновенно забывают слабости и недостатки человека и хвалят, что в нем было хорошего. С Михаилом Павловичем случилось почти совсем противное. Облагодетельствованные им – а сколь было таких, особенно между бедными офицерами, – и поставленные в возможность оценить его по справедливости молчали, или голос их исчезал в толпе, а преобладающее большинство вспоминало только все дурное, потому что оно оглашалось и поражало собою умы; добрые же дела покойного творились во мраке тайны.
Не то было с государем. В самую первую минуту после кончины великого князя он сказал окружающим:
– Я потерял не только брата и друга, но и такого человека, который один мог говорить мне правду и – говорил ее, и еще такого, которому одному и я мог говорить всю правду.
Действительно, смерть Михаила Павловича положила незаменимый пробел в сердечной будущности императора Николая.
Государь за домашними у себя обедами говорил обыкновенно по-русски, и только обращаясь к императрице или когда у других шел разговор с нею, переходил к французскому языку. Гости вообще не заводили новых материй без особенного вызова, разве только иногда с императрицею; но государь сам был очень разговорчив, и беседа редко прерывалась, кроме именно того обеда, о котором я теперь говорю и при котором грустное расположение духа государя (после свежей его потери) выражалось и в чертах его, и в отрывочности разговора. Перешептывания между соседями за такими обедами случались редко. Стол был вообще очень хорош, хотя не особенно изыскан; вина подавались после каждого блюда, а кофе не за столом, но уже после. Государь сидел всегда возле императрицы, занимавшей первое место, гости же размещались по чинам. После обеда государь обыкновенно становился у камина и подзывал к себе кого-нибудь из общества. Садились тут редко, кроме императрицы. Все, и с обедом, продолжалось обыкновенно немногим более полутора часов.
Государь после кончины Михаила Павловича долго не обращался ни к одному из обыкновенных, столь вообще малых и редких, развлечений своих. Так, например, он более месяца не брался за карты, хотя до этого печального события очень любил в осенние и зимние вечера, особенно же в пребывание в Царском Селе, играть в вист-преферанс. Тем более все обрадовались, когда 29 сентября, после долгих убеждений императрицы, он решился наконец сесть за обыкновенную свою партию. На этот раз составляли ее великий князь Константин Николаевич, генерал-адъютант Плаутин и граф Апраксин. Играли по четвертаку.
Из «Воспоминаний артиста об императоре Николае Павловиче» Федора Алексеевича Бурдина
Театр был любимым удовольствием государя Николая Павловича, и он на все его отрасли обращал одинаковое внимание; скабрезных пьес и фарсов не терпел, прекрасно понимал искусство и особенно любил haute comedie[34], а русскими любимыми пьесами были «Горе от ума» и «Ревизор».
Пьесы ставились тщательно, как того требовало достоинство императорского театра, на декорации и костюмы денег не жалели, чем и пользовались чиновники, наживая большие состояния; постановка балетов, по их смете, обходилась от 30 до 40 тысяч. За малейший беспорядок государь взыскивал с распорядителей строго и однажды приказал посадить под арест на три дня известного декоратора и машиниста Роллера за то, что при перемене одна декорация запуталась за другую.
Он был неповинен в цензурных безобразиях того времени, где чиновники, стараясь выказать свое усердие, были les royalists plus que le roi[35]. Лучшим доказательством тому служит, что он лично пропустил для сцены «Горе от ума» и «Ревизора».
Вот как был пропущен «Ревизор». Жуковский, покровительствовавший Гоголю, однажды сообщил государю, что молодой талантливый писатель Гоголь написал замечательную комедию, в которой с беспощадным юмором клеймит провинциальную администрацию и с редкой правдой и комизмом рисует провинциальные нравы и общество. Государь заинтересовался.
– Если вашему величеству в минуты досуга будет угодно ее прослушать, то я ее прочел бы вам.
Государь охотно согласился. С удовольствием выслушал комедию, смеялся от души и приказал поставить на сцене. Впоследствии он говаривал: «В этой пьесе досталось всем, а мне в особенности». Рассказ этот я слышал неоднократно от М. С. Щепкина, которому, в свою очередь, он был передан самим Гоголем.
Во внимание к таланту В. А. Каратыгина, он ему дозволил исключительно один раз в свой бенефис дать «Вильгельма Телля», так как Каратыгин страстно желал сыграть эту роль.
Как он здраво и глубоко понимал искусство, может служить примером следующий рассказ. В Москве в 1851 году с огромным успехом была сыграна в первый раз комедия Островского «Не в свои сани не садись». Простотой без искусственности, глубокой любовью к русскому человеку она поразила всех и произвела потрясающее впечатление. Появление этой пьесы было событием в русском театре. Вследствие огромного успеха в Москве в том же году, в конце сезона ее поставили в Петербурге.
Государь, страстно любя театр, смотрел каждую оригинальную пьесу, хотя бы она была в одном действии. Зная это, при постановке комедии Островского чиновники ужасно перетрусились. «Что скажет государь, – говорили они, – увидя на сцене безнравственного дворянина и рядом с ним честного купчишку!.. всем – и нам, и автору, и цензору, будет беда!»… Ввиду этого хотели положить комедию под сукно, но говор о пьесе в обществе усиливался более и более, и дирекция, предавши себя на волю Божью, решилась поставить ее.
Комедия имела громадный успех. На второе представление приехал государь. Начальство трепетало… Просмотрев комедию, государь остался отменно доволен и соизволил так выразиться: «Очень мало пьес, которые бы мне доставляли такое удовольствие, как эта. Ce n’est pas une piece, c’est une leon![36]» В следующее же представление опять приехал смотреть пьесу и привез с собой всю августейшую семью: государыню и наследника цесаревича с супругой, и потом приезжал еще раз смотреть ее весной после Святой недели, а между тем усердные чиновники в то же время держали автора, А. Н. Островского, под надзором полиции за его комедию «Свои люди – сочтемся». […]
Государь желал успеха русской драматической литературе, поощрял литераторов; доказательством тому служат неоднократные пособия Гоголю, драгоценные подарки всем авторам, писавшим тогда для сцены: Кукольнику, Полевому, Каратыгину, Григорьеву, а Полевому он, ввиду его стесненного положения, пожаловал пенсию.
Государь, очень часто приходивший во время представления на сцену, удостаивал милостивой беседы артистов и однажды, встретив Каратыгина и Григорьева, поклонился им в пояс, сказавши: «Напишите, пожалуйста, что-нибудь порядочное».
Его милости к артистам были неисчерпаемы. Во время болезни Дюра он прислал к нему своего доктора. Узнав о плохом здоровье Максимова, приказал его отправить лечиться за счет дирекции за границу.
В Красном Селе спектакли были четыре раза в неделю, и он приказал выстроить дачи для артистов, чтобы меньше затруднять их переездом.
Сосницкому по интригам отказали в заключении с ним контракта, и он вышел в отставку. Государь не знал об этом. Однажды, с ним встретившись, он спросил его: «Отчего я тебя давно не видал на сцене?».
– Я в отставке, ваше величество, – отвечал Сосницкий.
– Это отчего?
– Вероятно, находят, что я уже стар и не могу работать, поэтому со мной не возобновили контракта.
– Что за вздор – я хочу, чтобы ты служил! Передай директору, что я лично ему приказываю немедленно принять тебя на службу.
Разумеется, Сосницкий был принят, и не только директору, но и министру двора было выражено сильное неудовольствие государя.
Любовь артистов к государю доходила до обожания. Трудно передать тот восторг, который он вселял своим ласковым словом, в котором равно выражалась и приветливость, и величие.
После предствления каждой новой пьесы, имевшей мало-мальски порядочный успех, все главные исполнители получали подарки и были лично обласканы государем.
После красносельских лагерей государь со всем семейством переезжал на жительство в Царское Село, где и оставался до 8 ноября, дня именин великого князя Михаила Павловича.
Во время пребывания в Царском Селе, при дворе, постоянно были два раза в неделю спектакли, состоявшие из одной русской и из одной французской пьесы.
Артисты приезжали с утра, завтракали во дворце, обедали, после обеда, если кому угодно, катались по парку в придворных линейках, предоставленных им по приказанию государя; после спектакля ужинали и возвращались в Петербург; за эти спектакли все артисты были награждаемы высочайшими подарками.
Желая возвысить звание артиста в обществе, государь император предоставил актерам первого разряда по прослужении десяти лет звание личного почетного гражданина, а по прослужении 15-ти – потомственного.
А. М. Максимов рассказывал мне, до какой степени он сочувствовал молодым артистам. «Я всегда волнуюсь и робею за молодого человека, – говорил император, – беспрестанно боюсь, чтоб он не сделал какой-нибудь неловкости или промаха, и только смотря на опытных артистов, не испытываю этого чувства; за тебя я всегда спокоен!»
Государь Николай Павлович так хорошо был знаком с составом труппы, что без афиши знал фамилию каждого маленького актера.
Что же мудреного, что при такой любви и внимании к театру могущественного монарха, перед которым трепетали распорядители, зная, что малейшая небрежность и упущение не пройдут безнаказанно, театр стоял так высоко. […]
В заключение расскажу несколько характерных случаев, бывших при встрече государя с артистами.
Государь очень жаловал французского актера Верне, который был очень остроумен. Однажды государь, гуляя пешком, встретил его в Большой Морской, остановил и несколько минут с ним разговаривал. Едва государь удалился, как будто из-под земли вырос квартальный и потребовал у Верне объяснения, что ему говорил государь. Верне, не зная по-русски, не мог ему ответить; квартальный арестовал его и доставил в канцелярию обер-полицеймейстера, которым тогда был Кокошкин. Кокошкина в то время не было дома; когда он возвратился, то, разумеется, Верне был освобожден с извинением.
Вскоре после этого государь, бывши в Михайловском театре, пришел на сцену и, увидя Верне, подозвал его к себе. Верне вместо ответа замахал руками и опрометью бросился бежать… Это удивило государя. Когда по его приказанию явился к нему Верне, он спросил его:
– Что это значит, вы от меня бегаете и не хотите со мной разговаривать?
– Разговаривать с вами, государь, честь слишком велика, но и опасна – это значит отправляться в полицию; за разговоры с вами я уже просидел полдня под арестом!
– Каким образом?
Верне рассказал, как это случилось. Государь очень смеялся, но Кокошкину досталось.
П. А. Каратыгин отличался необыкновенной находчивостью и остроумием. Однажды летом в Петергофе был спектакль. За неимением места приехавшие для спектакля артисты были помещены там, где моют белье. Государь, встретив Каратыгина, спросил его: всем ли они довольны?
– Всем, ваше величество; нас хотели поласкать и поместили в прачечной.
Однажды государь пришел на сцену с великим князем Михаилом Павловичем. Великий князь был в очень веселом расположении духа и острил беспрерывно. Государь, обратясь к Каратыгину, сказал:
– У тебя брат отбивает хлеб!
– У меня останется соль, ваше величество, – отвечал Каратыгин.
Актер Григорьев 2-й, играя апраксинского купца в пьесе «Ложа 3-го яруса на бенефисе Тальони», рассказывая о представлении балета, позволил себе в присутствии государя остроумную импровизацию, не находящуюся в пьесе.
Государю эта выходка очень понравилась, и он разрешил Григорьеву говорить в этой пьеске все, что он захочет. Григорьев, будучи человеком талантливым и острым, очень ловко этим воспользовался. Он говорил в шуточной форме обо всем, что тогда интересовало петербургское общество. Вся столица сбегалась слушать остроты Григорьева, успех был громадный, и на эту маленькую пьеску с трудом доставали билеты.
В особенности от Григорьева доставалось Гречу и Булгарину. Тогда Греч читал публичные лекции русского языка, а Григорьев говорил на сцене, что немец в Большой Мещанской (где читал Греч) русским язык показывает. Булгарин написал пьесу «Шкуна Нюкарлеби». Григорьева спрашивают на сцене, что такое «Шкуна Нюкарлеби».
– Шкуна? это судно, – отвечает он.
– А Нюкарлеби?
– А это то, что в судне!
Булгарин и Греч выходили из себя, ездили жаловаться к директору А. М. Гедеонову, просили, чтобы он запретил Григорьеву глумиться над ними… но Гедеонов отвечал, что не имеет на это права, а пусть обратятся к государю императору, который дозволил шутить Григорьеву.
В. А. Каратыгин был очень большого роста. Однажды государь сказал ему:
– Однако, ты выше меня, Каратыгин!
– Длиннее, ваше величество, – отвечал ему знаменитый трагик.
Государь очень любил Максимова и часто удостаивал с ним беседовать. Однажды, пользуясь благосклонным разговором государя, Максимов спросил его: можно ли на сцене надевать настоящую военную форму? Государь ответил:
– Если ты играешь честного офицера, то, конечно, можно; представляя же человека порочного, ты порочишь и мундир, и тогда этого нельзя!
Максимова уже давно соблазнял гвардейский мундир; воспользовавшись дозволением государя, он на свой счет сделал себе гвардейскую коннопионерную форму и надел ее, играя офицера в водевиле «Путаница». Как нарочно, в это представление приехал государь.
В антракте перед началом водевиля, выходя из ложи на сцену, он увидел в полуосвещенной кулисе Максимова и принял его за настоящего офицера.
– Зачем вы здесь? – строго спросил его император.
Максимов оробел и не отвечал ни слова.
– Зачем вы здесь? – еще строже повторил государь.
Максимов, за несколько времени перед этим кутивший, не являлся к исполнению своих обязанностей. Ему показалось, что за это государь гневается, и растерялся окончательно.
– Зачем вы здесь? Кто вы такой? Как ваша фамилия? – и, взяв его за рукав, подвел к лампе, посмотрел в лицо и увидал, что это Максимов.
– Фу, братец, я тебя совсем не узнал в этом мундире.
У Максимова отлегло от сердца. После он говорил, что натерпелся такого страха, что не только бы обер-офицерский мундир не надел, а даже и фельдмаршальский!
Государь очень интересовался постановкой балета «Восстание в серале», где женщины должны были представлять различные военные эволюции. Для обучения всем приемам были присланы хорошие гвардейские унтер-офицеры. Сначала это занимало танцовщиц, а потом надоело, и они стали лениться. Узнав об этом, государь приехал на репетицию и строго объявил театральным амазонкам: если они не будут заниматься как следует, то он прикажет поставить их на два часа на мороз с ружьями, в танцевальных башмачках. Надобно было видеть, с каким жаром перепуганные рекруты в юбках принялись за дело; успех превзошел ожидания, и балет произвел фурор. […]
Нигде так не выразилась снисходительность и любовь к артистам государя, как в следующем происшествии. Однажды, после спектакля во дворце в Царском Селе, во время ужина два маленьких артиста, Годунов и Беккер, выпили лишнее и поссорились между собою. Ссора дошла до того, что Годунов пустил в Беккера бутылкой; бутылка пролетела мимо, разбилась об стену и попортила ее. Ужинали в янтарной зале; от удара бутылки отскочил от стены кусок янтаря. Все страшно перепугались; узнав это, в страхе прибежали директор, министр двора князь Волконский; все ужасались при мысли, что будет, когда государь узнает об этом. Ни поправить скоро, ни скрыть этого нельзя. Государь, проходя ежедневно по этой зале, должен был непременно увидеть попорченную стену. Виновных посадили под арест, но это не исправляло дела, и министр и директор ожидали грозы. Такой проступок не мог пройти безнаказанно и не у такого строгого государя. Министр боялся резкого выговора, директор – отставки, а виновным все предсказывали красную шапку[37].
Действительно, через несколько дней государь, увидя испорченную стену, спросил у князя Волконского: «Что это значит?» Министр со страхом ответил ему, что это испортили артисты, выпивши лишний стакан вина.
– Так на будущее время давай им больше воды, – сказал государь; тем дело и кончилось.
Да будет благословенна память незабвенного монарха, покровителя родного искусства и артистов.
Из «Записок» барона Модеста Андреевича Корфа
При императоре Николае давались, обыкновенно по несколько раз в зиму, балы в Концертной зале (Зимнего дворца. – Я. Г.) (это был официальный их титул), составлявшие середину между большими парадными балами и домашними вечерами аничкинского общества. На эти балы приглашались не по выбору, означавшему степень милости или приближенности, а по званиям и степеням службы. Сверх дипломатического корпуса, гвардейских генералов и нескольких полковых офицеров, назначавшихся по наряду, в списке лиц на балы Концертной залы стояли: первые и вторые чины двора, министры, члены Государственного совета, статс-секретари и первоприсутствующие сенаторы департаментов и общих собраний. Из числа камергеров и камер-юнкеров приглашались только назначенные в дежурство при дамах императорской фамилии. Все званые приезжали в мундирах.
Балы начинались полонезами, в которых ходили государь с почетнейшими дамами, а императрица, великие княгини и княжны – с почетнейшими кавалерами, и оканчивались, после всех обыкновенных танцев, ужином (иногда танцы продолжались еще и после ужина), с музыкой, в большой аванзале (Николаевской зале), или в Помпеевой галерее, Арапской комнате и ротонде, но в таком случае уже без музыки. Особенную прелесть таких балов, кроме возможной непринужденности, составляло то, что на время их открывались и все внутренние комнаты императрицы: кабинет, почивальня, купальня и проч., верх роскоши и вкуса.
На последнем публичном маскараде в Дворянском собрании перед постом одна дама, интригуя государя, спросила:
– Какое сходство между маскированным балом и железной дорогой?
– То, что они оба сближают, – отвечал он, ни на минуту не задумавшись.
Находчивость императора Николая в частном разговоре была вообще очень замечательна, и молодые женщины не могли не находить особенной прелести в его беседе. Какой-то иностранец сказал о нем, что он никогда не искал нравиться. Если бы и признать это правдой, то нельзя не сознаться, что сама природа действовала за него, и он не только нравился, но и обворожал каждого, кто видел и знал его в коротком кругу, тем более в семейной и домашней жизни.
Император и Александра Смирнова-Россет
Из дневниковых записей Василия Осиповича Ключевского
Николай у Александры Осиповны в гостиной чувствовал и вел себя как за границей, свободомыслящим европейцем, джентльменом, а не русским самодержцем, запросто, даже почтительно разговаривал с русским писателем, которого его застеночный цензор нравов Бенкендорф сажал в крепость без объяснения причин. Это были не эстетика и не патриотика, а своего рода домашняя диэтика. Портя себе вкус к жизни ежедневными лакомствами безотчетной власти, восстанавливал его минутным сухоядением корректности и джентльментства в гостиной образованной и умной полурусской барыни, бывшей фрейлины, петербургский дом которой, как нечто экстерриториальное, подобно квартирам иностранных посланников, изъят был из-под действия русских властей и законов.
Читая свидетельства людей, близко наблюдавших частную жизнь Николая Павловича, трудно поверить, что тот же самый человек был способен на холодную неоправданную жестокость.
Это, разумеется, имеет свое объяснение: представления Николая о себе как о частном человеке, семьянине и покровителе малых сих, и властителе, призванном следить за малейшими покушениями на государственный интерес, как он его понимал, обязанном карать подобные покушения с максимальной строгостью, – эти представления различались фундаментально.
Именно вторая – холодная и безжалостная – сторона его натуры окрашивала функционирование системы. Особенно это касалось армии.
Проницательный Ключевский предложил очень точную и выразительную модель этой двойственности на примере отношений императора и фрейлины, а затем светской дамы Александры Смирновой-Россет, которой Николай симпатизировал. О подоплеке их отношений в бытность Смирновой фрейлиной можно только догадываться.
Николай Павлович как персонаж проходит через все воспоминания и дневники Смирновой-Россет. Он явно интересовал ее как личность. Потому стоит выделить основные ее свидетельства и наблюдения в небольшой отдельный сюжет.
Из воспоминаний и дневников Александры Осиповны Смирновой-Россет
Аксаков негодовал однажды на меня, потому что я считала, что император Николай мог не только любить Вареньку Нелидову, но и сделать ее своей любовницей. Я ужасно разгневалась.
Вечером Моден читал какой-то роман вслух. Императрица вязала шнурочек на рогатке… Вдруг слышался ровный и мерный шаг государя, он приходил бледный, в сюртуке Измайловского полка без эполет… Он работал иногда до двух часов. Я видела, как поваренки ставили на конфорку ужин. Они мне сказали, что он почти ничего не ел.
Граф Воронцов Михаил Семенович обедал часто у государя, теперь обедает часто фельдмаршал Орлов два раза в неделю, граф Киселев Павел Дмитриевич, Петр Михайлович Волконский реже, Клейнмихель, Уваров, очень редко Блудов, Перовский. Вообще садятся они вчетвером: цари, Ольга Николаевна и Константин Николаевич. Когда же царь бывает у фрейлины Нелидовой? В 9-м часу после гуляния пьет кофе, потом в 10-м сходит к императрице, там занимается, в 1 опять навещает ее, всех детей, больших и малых, и гуляет. В 4 часа садится кушать, в 6 гуляет, в 7 пьет чай со всей семьей, опять занимается, в десятого половине сходит в собрание, ужинает, гуляет в 11, около двенадцати ложится почивать. Почивает с императрицей в одной кровати.
Это было в [18]38 году… Эта зима была одной из самых блистательных. Государыня была еще хороша, прекрасные ее плечи и руки были еще пышные и полные, и при свечах, на бале, танцуя, она еще затмевала первых красавиц. В Аничковом дворце танцевали всякую неделю в белой гостиной; не приглашалось более ста персон. Государь занимался в особенности бар[онессой] Крюднер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюднер. Я была свободна как птица и смотрела на все эти проделки как на театральное представление, не подозревая, что тут развивалось драматическое чувство зависти, ненависти, неудовлетворенной страсти, которая не преступала из границ единственно оттого, что было сознание в неискренности государя. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал ей все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами, и взглядами, не всегда прилично красноречивыми. Однажды в конце бала, когда пара за парой быстро и весело скользили в мазурке, усталые, мы присели в уголке за камином с бар[онессой] Крюднер; она была в белом платье, зеленые листья обвивали ее белокурые локоны; она была блистательно хороша, но не весела. Наискось в дверях стоял царь с Е. М. Бутурлиной, которая беспечной своей веселостью более, чем красотой, всех привлекала, и, казалось, с ней живо говорил; она отворачивалась, играла веером, смеялась иногда и показывала ряд прекрасных белых своих жемчугов; потом, по своей привычке, складывала, протягивая, свои руки, – словом, была в весьма большом чувстве неловкости. Я сказала м-м Крюднер: «Вы ужинали, но последние почести сего для нее». «Это странный человек, – сказала она, – нужо, однако, чтобы у этого был какой-нибудь результат, с ним никогда конца не бывает; у него на это нет мужества; он придает странное значение верности. Все эти маневры с ней ничего не доказывают».
Государь был кавалер Вареньки Нелидовой, она прекрасно ездила верхом, но всех лучше императрица. Она была так грациозна и почти не касалась лошади. Ее кавалер был Михаил Павлович. Государь мне сказал: «Зачем ты меня не выбираешь?» (по-русски он всегда говорил мне «ты»). «Ты» был критерием его расположения к женщинам и мужчинам. Ярцевой он всегда говорил «вы», Любе Хилковой тоже, графу Воронцову «вы», Киселеву «ты», Потоцкому тоже, Канкрину из уважения «вы», также многим генералам прошлого царствования: Уварову, Дризену, Мордвинову, Аракчееву и Сперанскому.
В ту зиму [1831–1832] не было конца вечерам и балам: танцевали у графини Лаваль, у Сухозанетши, у графини Разумовской и в Аничкове дважды в неделю. На Масленой танцевали с утра декольте и в коротких рукавах, ездили в пошевнях на Елагин, где катались с горы в больших дилижансах, как их называли. Мужики в красных рубахах правили; государь садился охотно в эти сани и дамы. Потом переходили к другой забаве: садились в пошевни императрица, рядом с ней или Салтыкова, или Фредерикс и княгиня Трубецкая; за санями привязывались салазки одна за другой, туда усаживался государь, за ним Урусова или Варенька Нелидова. На Каменном острову была лужайка, которую нарочно закидывали снегом; тут делали крутой поворот и поднимался смех: салазки опрокидывались.
Государь перебил разговор. Я ему напомнила о Гоголе, он был благосклонен. «У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». «Читали ли вы „Мертвые души“?» – спросила я. «Да разве они его? Я думал, это Соллогуба». Я советовала, ему их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма.
Имя Гоголя, с которым Смирнова близко дружила, часто возникает в ее разговорах с императором. Иногда в неожиданных контекстах.
Из воспоминаний и дневников Александры Осиповны Смирновой-Россет
Государь жаловался на Орлова: «Алексей Федорович в дороге как заснет, так навалится на меня, что мне хоть из коляски вылезать». «Государь, что же делать? – сказал Орлов. – Во сне равенство, море по колено». А я думаю, наяву у самого душа в пятки уходит, когда разгневается царь и возглаголит яростию своею….Мое дело просить, и не стыдно просить для других, для себя, слава Богу, ничего не прошу. Государь приказал ему заняться с Гоголем, он также говорил: «Ведь он еще молод и ничего такого не сделал». Прошу покорно господ министров сказать, что такое надо сделать в литературе, чтобы получить патент на достоинство литератора в их смысле.
Из воспоминаний и дневников Александры Осиповны Смирновой-Россет
На вечере я сказала государыне, что собираюсь просить государя (о Гоголе. – Я. Г.), она мне отвечала: «Он приходит сюда, чтобы отдохнуть, и вы знаете, как он не любит, когда с ним говорят о делах: если он в добром настроении, я сделаю вам знак, и вы сможете отдать свою просьбу». Он пришел в хорошем расположении… Я ему сообщила поручение Жуковского (Жуковский просил Смирнову похлопотать у Николая о пенсии для Гоголя. – Я. Г.), он отвечал: «Вы знаете, что пенсии назначаются капитальным трудам, а я не знаю, удостаивается ли повесть „Тарантас“».
Я заметила, что «Тарантас» – сочинение Соллогуба, а «Мертвые души» – большой роман. «Ну, так я его прочту, потому что позабыл „Ревизора“ и „Разъезд“».
В воскресенье на обычном вечере Орлов напустился на меня и грубым, громким голосом сказал мне: «Как вы смели беспокоить государя, и с каких пор вы – русский меценат?» Я отвечала: «С тех пор как императрица мне мигнет, чтобы я адресовалась к императору, и с тех пор как я читала произведения Гоголя, которых вы не знаете, потому что вы грубый неуч и книг не читаете, кроме гнусных сплетен ваших голубых штанов» (с 1845 года Алексей Федорович Орлов был шефом жандармов. – Я. Г.). За словами я не ходила в карман. Государь обхватил меня рукой и сказал Орлову: «Я один виноват, потому что не сказал тебе, Алеша, что Гоголю следует пенсия».
Встретившись в Риме, Смирнова и Гоголь поднялись под купол собора Св. Петра. Прочли надпись Николая Павловича: «Я здесь молился о дорогой России!»
Стиль
Из дневника литератора Александра Васильевича Никитенко
Нынешний государь знает науку царствовать. Говорят, он неутомим в трудах, все сам рассматривает, во все вникает. Он прост в образе жизни. Его строгость к другим в связи со строгостью к самому себе; это, конечно, редкость в государях самодержавных. Ему недостает, однако, главного, а именно людей, которые могли бы быть ему настоящими помощниками. У нас есть придворные, но нет министров; есть люди деловые, но нет людей с умом самостоятельным и душою возвышенною. Один Сперанский.
Вот любопытный анекдот о нынешнем государе. В одну из его прогулок перед ним падает на колени человек и просит у него правосудия на одного какого-то богатого помещика, который занял у него восемь тысяч рублей, составлявших все его достояние, и теперь их ему не отдает. Между тем проситель и семейство его крайне нуждаются.
– Есть у тебя нужные документы? – спросил государь.
– Есть, ваше величество, вексель – и вот он.
Император, удостоверясь в законности документа, приказал отнести оный к маклеру и потребовать, чтобы тот сделал на нем надпись о передаче оного Николаю Павловичу Романову.
Проситель сделал по приказанию, но маклер принял его за сумасшедшего и отправил к генерал-губернатору. Последнему тем временем уже приказано было выдать заимодавцу всю сумму с процентами, что и было им тут же исполнено. Государь, получив вексель, протестовал его и на третий день тоже получил всю сумму с процентами. Тогда он призвал к себе должника, сделал ему строгий выговор, а начальству внушение, чтобы оно впредь не допускало подобных послаблений и не менее скоро удовлетворяло законные требования его подданных, как и его собственные.
Правосудие государя должно поднять у нас кредит, а уменьшение акцизов и пошлин развяжет руки промышленности – и торговля процветет. Система финансов у нас еще не так запутана; нужны простые меры, чтобы возбудить движение и жизнь в оцепеневших членах нашего государственного тела. Ах, если бы он придумал средство скинуть цепи с десяти миллионов рабов! Как оживилась бы деятельность народа! Сколько рук, ныне устремленных только на то, чтобы услуживать тунеядцам, обратилось бы к трудам общеполезным! В одном доме графа [Д. Н.] Шереметева живет до четырех сот человек, существование которых проявляется только в том, что они едят, пьют и спят спокойным сном на счет класса производящего.
Из «Записок» барона Модеста Андреевича Корфа
Однажды, в первый год царствования императора Николая, при откровенной беседе князь Любецкий выговорил ему множество истин относительно России и его самого. Выслушав все благосклонно, государь вдруг остановил своего собеседника вопросом:
– Да скажи, пожалуйста: откуда у тебя берется смелость высказывать мне все это прямо в глаза?
– Я вижу, государь, что кто хочет говорить вам правду, не в вас к тому находит помеху, и я действую по этому убеждению. Но власть – самая большая баловница в мире! Теперь вы милостиво позволяете мне болтать и не гневаетесь, но лет через десять, или и меньше, все переменится, и тогда, свыкнувшись с всемогуществом, с лестью и с поклонничеством, вы за то, что теперь так легко мне сходит, прикажете, может быть, меня повесить.
– Никогда, – сказал государь, – я всегда буду рад правде и позволю тебе тогда, как и теперь, если я стану говорить или делать вздор, сказать мне прямо: Николай, ты врешь.
«Года два после того, – продолжал Любецкий в своем мне об этом рассказе, – я опять приехал в Петербург и явился к государю. В этот раз он принял меня чрезвычайно холодно, и даже не в кабинете, как прежде, а в передней зале, и, оборотясь с рассеянным лицом к окошку, встретил самыми сухими расспросами о погоде, о дороге и проч. Не было и тени прежней доверчивости, и я, разумеется, сохранял с моей стороны глубочайший этикет, не позволяя себе ни малейших намеков на прежние беседы.
Вдруг через несколько минут государь обратился ко мне с громким хохотом и с протянутой рукой:
– Что, хорошо ли я сыграл свою роль избалованного могуществом и лестью? – сказал он. – Нет, я не переменился и не переменюсь никогда, и если ты в чем не согласишься со мною, то можешь по-прежнему смело сказать: Николай, ты врешь!»…
В поездку государя в 1834 году по разным губерниям при нем находились только генерал-адъютант граф Бенкендорф, управлявший в то время корпусом жандармов и III отделением Собственной его величества канцелярии, статс-секретарь Позен и врач Енохин[38]. Вот что на одном из остановочных пунктов Позен слышал из соседней с государевым кабинетом комнаты.