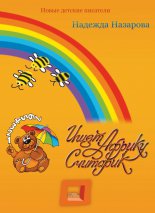Николай I без ретуши Гордин Яков

При этой казни, сколько помню, женщинам не позволялось присутствовать, а, по приказанию начальства, собраны были только мужчины, в числе которых находились отцы, братья и другие родственники наказываемых. Всем зрителям довелось пережить страшные, едва ли не более мучительные часы, чем казнимым. Но мало того. Были случаи, что между осужденными и солдатами, их наказывающими, существовали близкие родственные связи: брат бичевал брата, сын истязал отца… Наказанных развозили по домам обывателей на санях, конвоируемых несколькими казаками. Надобно заметить, что, так как всех 300 человек, наказанных в одном только нашем округе, в лазарете поместить было нельзя, то для них отведены были некоторые избы поселян. Сюда уже беспрепятственно ходили все родные, приносили больным съестные припасы и водку для обмывания ран: водка предохраняла раны от гниения.
Ни одному из наказанных шпицрутенами не было назначено, как мне потом рассказывали, менее 1000 ударов; большей же частью – давали по 2, даже по 3 тысячи ударов; братьям Ларичам, как распространителям мятежа, дано по 4000 ударов каждому, оба на другой день после казни умерли. Перемерло, впрочем, много из казненных, этому способствовали недостаток докторов, отсутствие медицинских средств, неимение хороших помещений, недостаток надлежащего ухода за больными и проч. В народе во все время казней и всех их последствий не замечалось никакого озлобления, ни малейшего ропота против начальства, говорили только: «Господь наказывает нас за грехи».
Ни до, ни после николаевского царствования это чудовищное наказание не применялось с такой угрюмой последовательностью, и ни один император не подписывал столь бестрепетно эти приговоры к мучительной смерти.
Был ли Николай Павлович жесток?
Из воспоминаний эмигранта-публициста Ивана Гавриловича Головина
Одного солдата из инженерных войск приговорили к прогнанию сквозь строй. Николай, бывший тогда начальником инженеров, прибавил от себя число ударов, назначенных солдату; его адъютант М… П… заметил, что не следовало ничего изменять в приговоре, так как несчастный все равно умрет. Николай согласился с этим доводом, но адъютант был поражен тем равнодушием, с которым он подписал смертный приговор.
Из статьи историка Сергея Владимировича Мироненко «Николай I»
Столкнувшись в первые годы своего царствования с повседневным пренебрежением к нормам закона, Николай принялся упорно и постоянно это пресекать. Характерны его резолюции на мемориях Государственного совета по поводу случаев применения пыток полицией и судебными органами.
[Например]…эмоциональная резолюция на мемории о смерти некоего Климова, посаженного столичным начальством «в неподвижную колоду», где он бился, «кричал и через несколько часов умер». Николай писал: «Из дела видно, что человек от последствий пытки умер. Дело ужасное и доказывающее совершенное небрежение начальства. Я предписываю заготовить указ Сенату, дабы оным наистрожайше подтверждено было, чтобы никто и нигде не осмеливался выдумывать особых способов наказания или содержания под предлогом безопасности».
Отвращение к жестокости, к самой возможности пытки, очевидное в словах императора, вызывает уважение. Однако может показаться необъяснимым, почему Николай так ужасается гибели одного человека под пыткой и совершенно хладнокровно воспринимает смерть сотен солдат, засеченных шпицрутенами во время подавления волнений 1831 года в Новгородских военных поселениях. Все дело в том, что шпицрутены были предусмотрены законом, воинским уставом. А стул с цепями и неподвижная колода были незаконны.
При этом, правда, надо вспомнить резолюции, которыми молодой император сопровождал мятежников 14 декабря, отправляя их после допросов в Петропавловскую крепость, – «Заковать так, чтоб пошевелиться не мог».
Это ли не пытка?
А под шпицрутенами гибли не сотни, а тысячи приговоренных. И Николай, разумеется, это прекрасно знал…
Из журнала «Русская старина». 1883 год, декабрь
Во время отсутствия графа Воронцова из Одессы в 1827 году новороссийскими губерниями управлял тайный советник граф Пален. Во всеподданнейшем рапорте от 11 октября 1827 года граф донес о тайном переходе двух евреев через р. Прут и присовокуплял, что одно только определение смертной казни за карантинные преступления способно положить конец оным. Император Николай на этом рапорте написал нижеследующую резолюцию:
«Виновных прогнать сквозь тысячу человек 12 раз. Слава богу смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить».
Мы уже не в первый раз встречаемся с этим выражением августейшего гуманизма. Стало быть, для Николая Павловича это был привычный и естественный подход к решению человеческой судьбы.
Из статьи Льва Николаевича Толстого «Николай Палкин»
Мы ночевали у 95-летнего солдата. Он служил при Александре I и Николае.
– Что, умереть хочешь?
– Умереть? Еще как хочу. Прежде боялся, а теперь об одном Бога прошу: только бы покаяться, причаститься привел Бог. А то грехов много.
– Какие же грехи?
– Как какие? Ведь я когда служил? При Николае; тогда разве такая, как нынче, служба была! Тогда что было? У! Вспоминать, так ужасть берет. Я еще Александра застал. Александра того хвалили солдаты, говорили – милостив был.
И вспомнил последние времена царствования Александра, когда из 100 – 20 человек забивали насмерть. Хорош же был Николай, когда в сравнении с ним Александр казался милостивым,
– А мне довелось при Николае служить, – сказал старик. И тотчас же оживился и стал рассказывать.
– Тогда что было, – заговорил он. – Тогда на 50 палок и порток не снимали; а 150, 200, 300… насмерть запарывали.
Говорил он и с отвращением, и с ужасом, и не без гордости о прежнем молодечестве.
– А уж палками – недели не проходило, чтобы не забивали насмерть человека или двух из полка. Нынче уж и не знают, что такое палки, а тогда это словечко со рта не сходило. Палки, палки!.. У нас и солдаты Николая Палкиным прозвали. Николай Павлыч, а они говорят Николай Палкин. Так и пошло ему прозвище.
– Так вот, как вспомнишь про то время, – продолжал старик, – да век-то отжил – помирать надо, как вспомнишь, так и жутко станет. Много греха на душу принято. Дело подначальное было. Тебе всыпят 150 палок за солдата (отставной солдат был унтер-офицер и фельдфебель, теперь кандидат), а ты ему 200. У тебя не заживет от того, а ты его мучаешь – вот и грех.
– Унтер-офицера до смерти убивали солдат молодых. Прикладом или кулаком свиснет в какое место нужное: в грудь, или в голову, он и помрет. И никогда взыску не было. Помрет от убоя, а начальство пишет: «Властию Божиею помре». И крышка. А тогда разве понимал это? Только об себе думаешь. А теперь вот ворочаешься на печке, ночь не спится, все тебе думается, все представляется. Хорошо, как успеешь причаститься по закону христианскому, да простится тебе, а то ужасть берет. Как вспомнить все, что сам терпел да от тебя терпели, так и аду не надо, хуже аду всякого…
Я живо представил себе то, что должно вспоминаться в его старческом одиночестве этому умирающему человеку, и мне вчуже стало жутко. Я вспомнил про те ужасы, кроме палок, в которых он должен был принимать участие. Про загоняние насмерть сквозь строй, про расстреливание, про убийства и грабежи городов и деревень на войне (он участвовал в польской войне), и я стал расспрашивать его про это. Я спросил его про прогоняние сквозь строй.
Он рассказал подробно про это ужасное дело. Как ведут человека, привязанного к ружьям и между поставленными улицей солдатами с шпицрутенами палками, как все бьют, а позади солдат ходят офицеры и покрикивают: «Бей больней!»
– «Бей больней!» – прокричал старик начальническим голосом, очевидно не без удовольствия вспоминая и передавая этот молодечески-начальнический тон.
Он рассказал все подробности без всякого раскаянии, как бы он рассказывал о том, как бьют быков и свежуют говядину. Он рассказал о том, как водят несчастного взад и вперед между рядами, как тянется и падает забиваемый человек на штыки, как сначала видны кровяные рубцы, как они перекрещиваются, как понемногу рубцы сливаются, выступает и брызжет кровь, как клочьями летит окровавленное мясо, как оголяются кости, как сначала еще кричит несчастный и как потом только охает глухо с каждым шагом и с каждым ударом, как потом затихает и как доктор, для этого приставленный, подходит и щупает пульс, оглядывает и решает, можно ли еще бить человека или надо погодить и отложить до другого раза, когда заживет, чтобы можно было начать мученье сначала и додать то количество ударов, которое какие-то звери, с Палкиным во главе, решили, что надо дать ему. Доктор употребляет свое знание на то, чтобы человек не умер прежде, чем не вынесет все те мучения, которые может вынести его тело.
Рассказывал солдат после, как после того, как он не может больше ходить, несчастного кладут на шинель ничком и с кровяной подушкой во всю спину несут в госпиталь вылечивать с тем, чтобы, когда он вылечится, додать ему ту тысячу или две палок, которые он недополучил и не вынес сразу.
Рассказывал, как они просят смерти и им не дают ее сразу, а вылечивают и бьют другой, иногда третий раз. И он живет и лечится в госпитале, ожидая новых мучений, которые доведут его до смерти.
И его ведут второй или третий раз и тогда уже добивают насмерть. И все это за то, что человек или бежит от палок, или имел мужество и самоотвержение жаловаться за своих товарищей на то, что их дурно кормят, а начальство крадет их паек.
Он рассказывал все это, и когда я старался вызвать его раскаяние при этом воспоминании, он сначала удивился, а потом как будто испугался.
– Нет, – говорит, – это что ж, это по суду. В этом разве я причинен? Это по суду, по закону…
Крестьянский вопрос
После пугачевщины, тяжко травмировавшей сознание как рядового дворянства, так и высшей власти, любому разумному человеку было ясно, что вопрос крепостного права есть роковой вопрос внутренней политики России.
Война 1812 года, в которой крестьянство приняло столь яростное участие, породило надежды на скорую перемену в его, крестьянства, жизни.
Этого не произошло. Триумфатор, победитель Наполеона, кумир молодого офицерства Александр I трагически упустил момент для начала фундаментальных реформ…
Страшная вещь – обманутые народные ожидания.
В отчете императору Николаю за 1839 год шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф писал: «Крепостное право есть пороховой погреб под государством».
Русское дворянство постоянно ощущало грозный вулканический гул под ногами.
Не в последнюю очередь это стимулировало возникновение тайных обществ, взрыв 14 декабря и мятеж Черниговского полка.
Николай понимал, что крестьянский вопрос – центральный вопрос его царствования. Но как приступить к делу, он не знал.
Ему нужны были надежные соратники. Таковых оказалось только два: Михаил Михайлович Сперанский и Павел Дмитриевич Киселев.
Из записок барона Модеста Андреевича Корфа
«Сперанского, – говорил государь, – не все понимали и не все довольно умели ценить; сперва я и сам, может быть, больше всех был виноват против него в этом отношении. Мне столько было наговорено о его либеральных идеях; клевета коснулась его даже и по случаю истории 14 декабря! Но потом все эти обвинения рассыпались как пыль. Я нашел в нем самого преданного, верного и ревностного слугу, с огромными сведениями, с огромной опытностью. Теперь все знают, чем Россия ему обязана – и клеветники умолкли».
Николай был слишком самоуверен в оценке людей. Он сильно преувеличивал свою проницательность. Сперанский и в самом деле был близок с некоторыми из членов тайных обществ и, безусловно, разделял многие их идеи. Вполне возможно, что в случае победы мятежников 14 декабря он вошел бы во Временное правление, которому декабристы собирались вручить власть.
Но, испытав в александровское время клевету, унижение, ссылку, Сперанский сделался крайне осторожен и держал свои идеи при себе. Но во всяком случае, он был несомненным противником крепостного права в тех его формах, в которых оно тогда существовало.
Говоря о его заслугах перед Россией, Николай имел в виду Полное собрание российских законов, изданное под руководством Сперанского. Сперанский входил и во все секретные комитеты, которые император создавал для выработки антикрепостнических программ. Он и Павел Дмитриевич Киселев были в этих комитетах последовательными сторонниками реформ.
В приватных заметках Сперанский ясно сформулировал свое представление о положении русского общества.
Из записки Михаила Михайловича Сперанского «О коренных законах государства»
Я нахожу в России два состояния – рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов.
Киселев, с молодости думавший об отмене крепостного права, был естественным союзником Сперанского. Но положение его было куда прочнее. После блестящего руководства армией в войне с Турцией он был назначен наместником оккупированных Дунайских княжеств – Молдавии и Валахии – и провел там радикальные реформы, освободив, в частности, крестьян из-под власти местных феодалов.
Из воспоминаний дочери Николая I великой княжны Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской
Весной этого года [1834] с Нижнего Дуная возвратился Киселев. Он пробыл там с самого окончания турецкой кампании в 1828 году, чтобы привести в порядок эти прекрасные, богатые земли, так долго страдавшие под турецким ярмом. Еще и теперь, после пятидесяти лет, Молдавия и Валахия, которые ныне принадлежат Румынии, вспоминают с благодарностью реформы Киселева, положившие начало их экономическому благосостоянию. Он, в свою очередь, любил этот край, его мягкость, синеву его небес, и еще его удерживала там сердечная привязанность. Мне в то время было двенадцать лет. Как сейчас вижу его таким, каким он был, когда вернулся: красивый мужчина лет около сорока, с выразительными глазами, очаровывающий собеседника, о чем бы он ни говорил. Совершенно независимый в своих взглядах, всегда полный блестящих идей, образованный и в то же время всегда готовый научиться еще чему-нибудь, он даже и в разговорах с папа, который с ним очень считался, сохранял свою независимость. Один из одареннейших деятелей тогдашнего царствования, с 1835 года он стал членом всех тайных комитетов по крестьянскому вопросу. С этих пор в течение пятнадцати лет он оставался всегда дорогим гостем нашего дома. В разговорах с глазу на глаз папа любил противоречия, даже охотно вызывал на них, и он особенно любил свободную манеру Киселева в разговорах.
Киселев вернулся в Петербург 8 мая 1834 года и на следующий же день был призван к императору. Отчет о проделанной работе он послал император заранее.
Разговор Николая и Киселева приводит А. П. Заблоцкий-Десятовский.
Из книги Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского «Граф П. Д. Киселев и его время»
– Я читал твой отчет, я прочитал его весь с большим удовольствием.
– Ужели ваше величество приняли труд сами прочесть эту толстую тетрадь, в которой много вещей бесполезных?
– Я посвятил три вечера на это чтение. Меня в особенности заинтересовало то, что ты говоришь об освобождении крестьян. Мы займемся этим когда-нибудь; я знаю, что могу рассчитывать на тебя, ибо мы оба имеем те же идеи, питаем те же чувства в этом важном вопросе, которого мои министры не понимают и который их пугает.
Император показал Киселеву на папки, во множестве стоящие на полках.
Из книги Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского «Граф П. Д. Киселев и его время»
– Здесь со вступления моего на престол собрал все бумаги, относящиеся до процесса, который я хочу вести против рабства, когда наступит время, чтобы освободить крестьян по всей империи…
За первой аудиенцией последовала вторая.
Из книги Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского «Граф П. Д. Киселев и его время»
[Киселев рассказывал: ] «В 1834 году по возвращении моем из княжеств, император Николай Павлович, при вечернем разговоре, изволил мне сказать, что, занимаясь подготовлением труднейших дел, которые могут пасть на наследника, он признает необходимейшим преобразование крепостного права, которое в настоящем его положении более оставаться не может. „Я, – продолжал государь, – говорил со многими из моих сотрудников и ни в одном не нашел прямого сочувствия; даже в семействе моем некоторые (Константин и Михаил Павловичи) были совершенно противны. Несмотря на то, я учредил комитет из 7 членов для рассмотрения постановлений о крепостном праве. Я нашел противодействие. По отчету твоему о княжествах я видел, что ты этим делом занимался и тем положил основание к будущему довершению этого важного преобразования; помогай мне в деле, которое я почитаю должным передать сыну с возможным облегчением при исполнении, и для того подумай, каким образом надлежит приступить без огласки к собранию нужных материалов и составлению проекта или руководства к постепенному осуществлению мысли, которая меня постоянно занимает, но которую без доброго пособия исполнить не могу“.
Я не скрыл от Государя удовольствия, с которым выслушал христианское его предложение, которое при удачном совершении, возвысит Россию и его царствование; но вместе с тем я не умолчал о предстоящих затруднениях, которые потребуют больших усилий и энергии. В нескольких словах я объяснил различие нашего законодательства от того, которое сохранилось в княжествах: там с XVI столетия гражданская свобода установилась соборною грамотою господаря Гики; бояры, т. е. исключительные владельцы земли, мало-помалу исказили статьи этой первоначальной грамоты, заменяя ее произволом, по их сказанию, обычаем: основный закон был изменен произвольным действием землевладельцев без участия законодательной власти при слабом и корыстном господарском управлении; у нас, напротив, крепостное право постепенно входило в состав законов и утвердилось наконец понятие, что человек, живущий на помещичьей земле, есть вещь, принадлежащая помещику. В княжествах я мог, основываясь на коренных законах, никогда не отмененных и не замененных другими, составить предварительное положение, которое хлебопашцами было встречено с восторгом, а боярами без особого неудовольствия. Это положение было моим прощальным приветом. Оно показало, однако же, мне все трудности предмета и недостаточную мою опытность в подобном деле; не менее того я с душевным удовольствием принимаю ваше приказание, более уповая на усердие, чем на способности, коими располагать могу…
Государь, перебив мои слова, изволил сказать: „И я неопытен, но твердо уповаю на внушение Всевышнего, который нас просветит и направит“ (это изречение было ему обычное, и я не раз слышал его при разрешении затруднительных и спорных вопросов); этим заключился тот первый разговор о сем предмете. Государь, отпуская меня, подтвердил необходимость содержать в строгой тайне его преднамерение, прибавив: „Ты можешь при объяснениях с Сперанским об учреждении V отделения моей канцелярии коснуться и крестьянского вопроса вообще, не упоминая о нашем нынешнем разговоре. Он одарен необычайною памятью и всегда готов отвечать положительным образом на все обстоятельства того времени; он пострадал невинно, я это слышал от императора Александра Павловича, который говорил, что он в долгу пред этою жертвою политических столкновений, которые тогда преодолеть не мог, но которые он себя обязанным вознаградить считает. Покойный государь начал, а я должен это довершить“».
Этот разговор и высказанная пред тем его величеством, при первом свидании с Киселевым, по его возвращении, в минуты откровенности, готовность вести войну против рабства – название, в другом интимном разговоре, Киселева «начальником штаба по крестьянскому делу», давали ему надежду, что судьба предназначила ему главную роль в деле освобождения крестьян. Эта надежда, эта вера в свою миссию не покидали Киселева до отъезда его из отечества.
Император Николай Павлович был верен своему слову: он вел войну с рабством во все свое царствование, но не решался взглянуть прямо в лицо чудовищу и дать ему генеральную битву; война его с крепостным нравом была, так сказать, партизанскою, в которой за набегами более или менее удачными, следовали иногда и отступления. Он, подобно великой своей бабке, мог сказать: «Крестьянский вопрос дело весьма трудное: где только начнут его трогать, он нигде не поддается». Не находя ни в ком, ни в своем семействе, ни в окружавших его, кроме Киселева, поддержки своему желанию уничтожить крепостное право, государь не решался на издание общего и притом обязательного закона, а ограничивался мерами частными, более или менее пальятивного свойства, предпринимавшимися под влиянием господствовавшей тогда мысли, что такими лишь мерами крепостное право уничтожится постепенно, мало-помалу, и что крестьяне получат свободу прежде, чем слово будет высказано в законе, и наконец, что действия решительные в крестьянском вопросе повлекли бы за собой грозные для государства опасности. Поэтому история крепостного права в царствование императора Николая не представляет ничего целого; ее составляют отдельные мероприятия….Во всех совещаниях об этих мерах участвовал Киселев, и голос его имел большое значение…
Из воспоминаний Александры Осиповны Смирновой-Россет
Государь сказал Киселеву: «Пора мне заняться нашими крестьянами. Я то и дело получаю известия, что в той или другой губернии стреляют в помещиков, в Кременчуге высекли почтенного Паскевича (не фельдмаршала, а его родственника. – Я. Г.), потому что, как военный, он строго требовал порядка; высекли несчастного Базилевского – я отдам его под опеку, он живет в нужде, все знают, что его секли, и все его презирают, а он и в ус не дует. Я не хочу разорять дворян. В 12 году они сослужили службу, жертвовали и кровью и деньгами… Я хочу отпустить крестьян с землей, но так, чтобы крестьянин не смел отлучаться из деревни без спросу барина или управляющего: дать личную свободу народу, который привык к долголетнем рабству, опасно. Я начну с инвентарей; крестьянин должен работать на барина три дня и три дня на себя; для выкупа земли, которую он имеет, он должен будет платить известную сумму по качеству земли, и надобно выплатить несколько лет, земля будет его. Я думаю, что надо сохранить мирскую поруку, а подати должны быть поменее»….Затем последовал указ об обязанных крестьянах, который остался мертвой буквой.
Прежде чем приступить к взрывоопасной проблеме крепостных крестьян, Николай решил заняться устройством быта крестьян государственных, которых в России были миллионы и которые существовали отнюдь не благополучно.
В 1769 году, в самые либеральные времена Екатерины II, ею был издан указ, касающийся именно государственных, или казенных, крестьян.
Из указа Екатерины II 1769 года «О государственных крестьянах»
В случае неуплаты крестьянами в годовой срок подушной недоимки забирать в города старост и выборных, держать под караулом, употреблять их в тяжелые городовые работы без платежа заработанных денег, доколе вся недоимка заплачена не будет.
Сенатор Иван Васильевич Капнист, обозревший положение казенных крестьян с 1821 по 1838 год, представил картину печальную и выразительную. Недаром император поручил расхлебывать эту с XVIII века варившуюся кашу именно твердому и преданному своим идеям Киселеву.
Из дневника Павла Дмитриевича Киселева
1836 года февраля 17-го
Я имел честь обедать у его императорского величества с графами Головкиным и Бенкендорфом. После обеда, по отъезде сих господ, государь приказал мне остаться и, посадив меня противу своего стула, начал следующий разговор: «Мне с тобою нужно объясниться по делу, которое тебе известно, ибо ты, кажется, в комитете с Васильчиковым. Дело об устройстве крестьян (казенных). Я давно убедился в необходимости преобразования их положения; но министр финансов, от упрямства или неуменья, находит это невозможным. Я его знаю и потому настаивал на необходимости заняться пристально и, увидев, что с ним это дело не пойдет, решился приступить к нему сам и положить основание под личным своим руководством.
Я желаю прежде всего сделать испытание на петербургской губернии и, как во всяком преобразовании, надо прежде всего иметь ясное понятие о том, что есть то размежевание земель, которое Канкрин (министр финансов. – Я. Г.) всегда представляет невозможным, должно быть первоначальным действием этого занятия. Я приказывал Сперанскому объясниться по сему с Шубертом[16] и получил в ответ, что он имеет возможность дать на сей предмет свое пособие; вот начало – но тут много подробностей, которыми и некогда мне заниматься и которые, признаюсь, мне мало знакомы. Посему мне нужен помощник, и, как я твои мысли на этот предмет знаю, то хочу тебя просить принять все это дело под свое попечение и заняться со мною предварительным, примерным устройством этих крестьян, после чего мы перейдем в другие губернии и мало-помалу круг нашего действия расширится. Канкрин сам уже убедился, что на нынешнем основании от департамента успеха ждать не можно, а я ему доказал по прочтении исходящих и входящих бумаг за целую неделю, что они пишут вздор, что он бумаг этих не видит и что все дело идет без толку. Поручить же преобразование петербургских крестьян Эссену (петербургский генерал-губернатор. – Я. Г.) – кроме вздора ничего не будет. А потому не откажи мне и прими на себя труд этот в помощь мне».
Я встал и сказал государю, что готов с душевным удовольствием посвятить все свои силы и усердие на дело столь важное и тем более для меня лестное, что я почитаю устроение крестьян как дело великое его царствования и как дело необходимое для будущего спокойствия государства, что я готов быть его секретарем, лишь бы я мог иметь ту силу нравственную в делах, которая необходима для успеха; что министры финансов и внутренних дел это новое учреждение не будут видеть с удовольствием, что борьба была бы неравная для меня, если все дело не будет совершаться под его, государевым, личным влиянием; что, наконец, я на этот предмет совершенно полагаюсь на его величество и благодарю за доверие, которое потщусь оправдать всеми силами, доколе их не утрачу…
Это в высшей степени характерная для николаевского царствования ситуация. Император не доверяет ни министрам, ни генерал-губернатору, деятельность которых, как он полагает, может породить лишь вздор, и выстраивает некую параллельную систему для решения насущных государственных задач.
Из письма Павла Дмитриевича Киселева Николаю I
По личному внимательному наблюдению моему безнравственность установленных властей и самих крестьян достигла высшей степени и требует усиленных мер для искоренения злоупотреблений, которые расстроили хозяйственный быт крестьян в самом основании, породили в них нерасположение к труду, и без того мало вознаграждаемому, и тем остановили, а в некоторых случаях уничтожили надлежащее развитие государственного богатства. Огромные недоимки, накопившиеся после Всемилостивейшего манифеста 1826 года, служат достаточным тому доказательством, а запутанность сих недоимок, и особенно меры, употребляемые к сбору оные, часто с людей и селений, не подлежащих взысканию, производят в одних равнодушие, а в других беззаботливость к исправному выполнению повинностей и, угрожая конечным разорением крестьян, могут поселить в них чувства, доселе добродушному русскому народу несвойственные.
Киселев прямо говорил об угрозе крестьянского бунта. Какие чувства по отношению к властям свойственны могут быть «добродушному русскому народу», показала пугачевщина, о которой прекрасно помнили все, а император даже и говорил.
Недаром Николай способствовал изданию пушкинского «Пугачевского бунта».
Из статьи историка Сергея Владимировича Мироненко «Николай I»
Однако заниматься одновременно и государственной, и помещичьей деревней Николай признал неудобным, и было решено начать с подготовки реформы государственных крестьян. Для этого создали специальное Пятое отделение Собственной его императорского величества канцелярии, во главе которого поставили П. Д. Киселева. Внутри отделения при активном содействии М. М. Сперанского создали новую систему управления государственными имениями.
Вновь и вновь проводилась в жизнь мысль Николая о том, что государство, ничего решительно и принципиально не меняя, в состоянии решить любые проблемы одними структурными преобразованиями.
Вершиной мощного бюрократического аппарата стало министерство государственных имуществ, в губерниях были созданы палаты государственных имуществ, ставшие местными органами министерства. Каждая губерния делилась на несколько округов, во главе которых стояли окружные начальники и их помощники, каждый округ – на несколько волостей, которые управлялись уже на выборной основе, волости – на сельские общества, где избирались сельские старшины, сельские старосты, сборщики податей, смотрители хлебных магазинов, сотские, десятские и, наконец, члены сельских судебных расправ.
Возник дорогостоящий бюрократический аппарат, в котором чиновник играл ту же роль, что и помещик в частновладельческой деревне. Сохранение в неизменности прежних крепостнических принципов давало многим современникам законное основание считать, что гнет чиновников не столь уж сильно отличается от гнета помещиков, хотя новая система управления позволила несколько улучшить положение государственных крестьян.
Местные и центральные органы занимались увеличением наделов там, где они были меньше установленных норм, переселением государственных крестьян из центров аграрного перенаселения на окраины, где еще хватало свободных земель, улучшалась и регулировалась оброчная система, министерство стремилось перевести все натуральные повинности в денежные и тем самым стимулировать развитие рыночных отношений, строились школы, больницы, ветеринарные пункты, внедрялись прогрессивные формы ведения хозяйства.
Таким образом, хотя реформа и не внесла принципиальных изменений в положение государственных крестьян, все же она принадлежит к немногим удавшимся мероприятиям николаевского царствования. А П. Д. Киселев за свою деятельность в министерстве прочно завоевал в консервативной и реакционной части общества репутацию «красного».
Новый Секретный комитет 1839 года, по мысли Николая I, должен был заложить основы постепенно реализуемой реформы – теперь уже помещичьей деревни. Единственным условием, поставленным императором, была неприкосновенность помещичьей земельной собственности.
Какой же проект реформы был предложен Киселевым комитету? Проанализировав историю крепостного права в России и опыт освобождения крестьян в других странах, он предложил способ освобождения, подобный использованному в Австрии и Дунайских княжествах. Принципами проекта были: отчуждение помещиками части их земельной собственности в пользование крестьян и обязанность последних компенсировать это трудами или денежным оброком, личная свобода крестьян, право на движимую собственность и право, заполнив обязанности в отношении помещика, «переходить в другое состояние или переселяться на другие свободные владельческие земли».
Но… Вся деятельность Комитета 1839–1842 годов – это история того, как консервативное большинство его членов, пользуясь тактикой пассивного сопротивления, критикой без позитивных предложений, сводило на нет любую программу, а вместе с ней и саму идею реформы. Это и история того, как император, столь решительно поддержавший сначала проекты Киселева, шаг за шагом отступал от них, как только наталкивался на сопротивление им самим подобранной бюрократической элиты.
Из журнала Государственного совета от 30 марта 1842 года
По назначении к докладу в сем заседании журнала соединенных департаментов законов и экономии, касательно договоров помещиков с крестьянами, государь император, прибыв в Государственный совет, объявить изволил, что прежде слушания сего дела нужным считает ознакомить членов с своим образом мыслей по сему предмету и с руководившими его величество побуждениями. Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его у нас положении, есть зло, для всех ощутительное и очевидное; но прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным. Блаженной памяти император Александр I, в намерениях коего в начале его царствования было даровать свободу крепостным людям, впоследствии сам отклонился от сей мысли, как еще совершенно преждевременной и невозможной в исполнении. Его величество также не изволит никогда на сие решиться, считая, что если когда можно будет к тому приступить, вообще весьма еще далеко, то в настоящую эпоху всякий помысел о сем был бы лишь преступным посягательством на общественное спокойствие и благо государства. Пугачевский бунт доказал, до чего может достигнуть буйство черни. Позднейшие события и попытки сего рода доселе всегда были счастливо прекращаемы, что, конечно, и впредь точно так же будет предметом особенной и, с помощию Божиею, успешной заботливости правительства. Но нельзя скрывать от себя, что ныне мысли уже не те, какие бывали прежде, и всякому благоразумному наблюдателю ясно, что теперешнее положение не может продолжаться навсегда. Причины сей перемены мыслей и чаще повторяющихся в последнее время беспокойств нельзя не отнести главнейшее: во-первых, к собственной неосторожности помещиков, которые дают крепостным своим людям несвойственное им высшее воспитание и, чрез то развивая в них новый круг понятий, делают положение их еще более тягостным; и во-вторых, к тому, что некоторые помещики, хотя, благодаря Богу, самое меньшее их число, забывая благородный долг, употребляют во зло свою власть, а к пресечению сих злоупотреблений дворянские предводители, как многие из них его величеству отзывались, не находят средств в законе, ничем почти не ограничивающем помещичьей власти. Но если настоящее положение таково, что не может продолжаться, а решительные к прекращению оного меры, без общего потрясения, невозможны, то необходимо, по крайности, приуготовить средства для постепенного перехода к иному порядку вещей и, не устрашаясь пред всякою переменою, хладнокровно обсудить ее пользу и последствия. Не должно давать вольности, но должно открыть путь к другому, переходному состоянию, связав с ним ненарушимое охранение вотчинной собственности на землю. Государь император почитает сие священною своею обязанностию и обязанностию преемников своих на престоле, а средства к тому, по мнению его величества, вполне представляются в предложенном ныне Государственному совету проекте указа. Он, во-первых, не есть закон новый, а лишь – последствие и, так сказать, развитие существующего сорок лет закона о свободных хлебопашцах; во-вторых, устраняет, однако же, вредное начало помянутого закона – отчуждение от помещиков поземельной собственности, которую, напротив, столько по всему желательно видеть навсегда неприкосновенною в руках дворянства, мысль, от коей его величество никогда не отступит; в-третьих, выражает прямо волю и убеждение правительства, что земля есть собственность не населенных на ней крестьян, а помещиков, предмет – также первостепенной важности для будущего спокойствия; наконец, в-четвертых, без всяких крутых переворотов, без вида даже нововведения, дает каждому благонамеренному владельцу средства улучшить положение его крестьян и, отнюдь не налагая сего по принуждению или с стеснением прав собственности, предоставляет все единственно доброй его воле и влечению собственного сердца. С другой стороны, оставляя крестьян крепкими той земле, на коей они записаны, проект избегает неудобств тех положений, которые доселе действовали в Остзейских губерниях, положений, доведших крестьян до самого жалкого состояния, обративших их в батраков и побудивших ныне тамошнее дворянство единодушно просить именно того же, что теперь здесь предполагается. Между тем его величество изволит повторять, что все должно идти постепенно и не может и не должно быть сделано разом или вдруг. Настоящий проект содержит в себе одни главные начала и указания. Он открывает, как уже сказано, всякому способ под защитою и при пособии закона следовать сердечному своему влечению. В ограждение интереса помещиков ставится добрая их воля и собственная заботливость, а интерес крестьян будет ограждаться рассмотрением проектов условий не только местными властями, но и высшим правительством, с утверждения власти самодержавной. Идти теперь далее и обнять вперед прочие, может статься, весьма обширные развития сих главных начал невозможно. При желании помещиков воспользоваться действием указа представляемые от них проекты условий, на местностях и на различных родах хозяйства основанные, будучи соображаемы тем же порядком, как договоры с свободными хлебопашцами, по практическим данным укажут, что нужно и можно будет сделать в подробностях и что теперь, при всей осторожности и предусмотрительности, легко могло бы быть упущено. Но отлагать начинание, которого польза очевидна, и отлагать потому лишь, что некоторые вопросы с намерением оставляются неразрешенными и что на первый раз предвидятся некоторые недоумения, государь император не изволит находить никакой причины. Невозможно ожидать, чтобы дело сие принялось вдруг и повсеместно. Это не соответствовало бы даже и видам правительства. Между тем, при постепенном и вероятно медленном развитии на различных пунктах империи, опыт всего лучше придет здесь на помощь. Им развяжутся всего надежнее и такие вопросы, которые теперь, без пособия его, кажутся затруднительными. В законе должны быть одни главные начала; частности разрешатся при частных случаях, и совокупный свод сих случаев впоследствии будет основою целого, положительного уже законодательства.
Далее государь император присовокупить изволил, что хотя делом сим весьма продолжительно и подробно занимался особый комитет, однако, не скрывая от себя всей его важности, его величество не решился подписать указа без нового пересмотра в Государственном совете; почему, любя всегда правду и полагаясь на опытность и верноподданническое усердие его членов, приглашать их изволит изъяснить теперь со всею откровенностию их мысли, не стесняясь личным его величества убеждением. Одного только государь император не может не поставить с прискорбием на вид Совету, именно – той публичной, естественно преувеличенной молвы о сем деле, которой источник заключается в неуместных разглашениях со стороны лиц, облеченных высочайшим доверием и обязанных к хранению государственной тайны самым долгом их присяги. Подтверждая, вследствие того, пред всем собранием Государственного совета о ненарушимом впредь исполнении сего присяжного долга со стороны как членов, так и канцелярии, его величество изволит предварять, что если, сверх ожидания, дошли бы еще до его сведения подобные разглашения, то виновные будут судимы по строгости законов, как за преступление государственное.
Засим, по высочайшей воле, прочтены были государственным секретарем журнал Соединенных департаментов и самый проект указа. Государь император, открывая суждение отдельно по каждой статье, удостоил всемилостивейше выслушать мнения и замечания членов, совокупно с сделанными на них возражениями…
После сего государь император повелеть изволил прочесть для сведения Государственного совета проект циркуляра от министра внутренних дел, который в упреждение всяких превратных толков и могущих произойти от них беспокойств предполагается, по воле его величества, разослать ко всем начальникам губерний современно с обнародованием указа.
Повторив засим вновь сказанное прежде о ненарушимом на будущее время сохранении присяжной по делам тайны, государь император изволил закрыть собрание, удостоив членов всемилостивейшего приветствия с совершением столь благого, в мыслях его величества, дела.
Из книги Андрея Парфеновича Заблоцкого-Десятовского «Граф Киселев и его время»
…Государственный секретарь граф Корф о заседании 30 марта [1842] в своих записках рассказывает, что «против указа говорили Кутузов[17], граф Гурьев и князь Волконский, а князь Д. В. Голицын предложил новую мысль; он сказал, что договоры, если оставить их на волю владельцев, едва ли кем будут заключаемы, и потому предлагал прямо ограничить власть помещиков инвентарями, взяв в пример и основание известный указ Павла I об ограничении работ крестьян на помещиков 3 днями в неделю.
Но эта мысль очевидно противоречила убеждению государя о необходимости сохранить крепостное право, по крайней мере до времени, неприкосновенным. „Я, конечно, – сказал он, – самодержавный и самовластный, но на такую меру никогда не решусь, как не решусь и на то, чтобы приказать помещикам заключать договоры; это должно быть делом доброй их воли, и только опыт укажет, в какой степени можно будет перейти от добровольного к обязанному“.
Граф Киселев встал только однажды, чтобы сказать коротко, что согласился на заключения комитета и теперь не спорит против них единственно, в той надежде, что это будет предисловием или вступлением к чему-нибудь лучшему и обширнейшему впоследствии времени».
Чрез три дня после Общего собрания Государственного совета, именно 2 апреля, был подписан государем указ об обязанных крестьянах.
Это историческое заседание Государственного совета с основополагающей речью императора было фактическим итогом неоднократных попыток Николая Павловича приступить к реформе крепостного права.
Указ об обязанных крестьянах позволял помещикам в случае их собственного желания освобождать крестьян без земли и заключать с ними договора, по которым крестьяне должны были отрабатывать за пользование землей оброк или барщину. Крестьянин получал личную свободу. Помещик оставлял за собой владение землей.
Ничего сколько-нибудь существенного указ не произвел. До смерти Николая в 1855 году в разряд «обязанных» перешли из 10 миллионов крепостных около 25 тысяч крестьян…
И это понятно – выполнение указа всецело зависело от воли помещика. «Я, конечно, самодержавный и самовластный, но на такую меру никогда не решусь…»
Железный император признал свое поражение. Он отступил. Он боялся дворянства больше, чем грядущей пугачевщины…
Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны
Влечение папа к тому, чтобы быть обо всем осведомленным и учиться новому, происходило от сознания, что те науки, которые он проходил в молодости, были недостаточны. Войны в начале столетия и его страсть ко всему военному были тому виной. Совершенно неожиданно он вступил на трон в 1825 году. Он командовал в то время бригадой пехоты и понятия не имел о правлении, о хозяйстве или законодательстве. Он осознавал свою неподготовленность и старался окружить себя достойными людьми. Чтобы создать свод законов, выведя наше законодательство из тогдашнего хаоса, он призвал Сперанского и был удовлетворен окончанием этого труда еще в свое царствование. Его другой большой заботой было улучшение судьбы крестьян. Киселев явился главным его сотрудником в этой области. 26 декабря 1837 года он был поставлен во главе нового Министерства государственных имуществ, в ведение которого поступили все казенные крестьяне; он оставался на этом посту до 1856 года, когда был назначен послом в Париж.
Я не могу судить о том, были ли его реформы удачными или нет. С невероятным трудом и отчаянной решимостью он проводил их в жизнь, встречая всевозможные препятствия, как, например, глубоко укоренившееся предубеждение и злобу тех, чьи интересы были затронуты, а также отрицательное отношение со стороны остальных министров. Думаю, что управление имениями тети Елены (великой княгини Елены Павловны. – Я. Г.), в которых, согласно плану Киселева, проводились приготовления к освобождению крестьян, подтверждает, что таковые могли быть проведены только благодаря личной инициативе и на ограниченном пространстве, так как масса в своем большинстве без определенного водительства не может понять, что значат такие реформы. Во всяком случае папа, несмотря на все свое могущество и бесстрашие, боялся тех сдвигов, которые могли из этого произойти.
Надо отдать должное великой княжне Ольге Николаевне, ставшей королевой Вюртембергской, писавшей свои записки уже в 1880-е годы. Она почти буквально повторяет фразу самого Николая о его страхе перед радикальной крестьянской реформой.
Близкие к императору люди понимали степень его нерешительности и корни этой нерешительности.
В 1840-е годы проницательные современники заметили, что одновременно с нарастанием несокрушимой самоуверенности императора он становился все более печальным.
Из воспоминаний великой княжны Ольги Николаевны
В конце зимы в одно прекрасное утро, когда мы сидели спокойно у мама, занятые чтением вслух и рукоделием, послышались вдруг шаги папа в неурочное время. Затянутый в мундир, он вошел с серьезным лицом. «Благослови меня, жена, – сказал он мама. – Я стою перед самым значительным актом своего царствования. Сейчас я предложу в Государственном совете план, представляющий собой первый шаг к освобождению крестьян». Это был указ для так называемых оброчных крестьян, по которому крепостные становились лично свободными, но должны были продолжать служить своему помещику дальше. Помещиков призывали к участию в таком освобождении, провести же его в жизнь предоставлялось им самим.
Князь Михаил Воронцов (кавказский наместник) был первым и единственным последовавшим этому призыву. Он пробовал было провести его в одном из своих имений в Петербургской губернии, но встретил столько препятствий со стороны местных учреждений, что почти сожалел о своем шаге. Когда Воронцов пожаловался на это Киселеву, он услышал в ответ: «Что вы хотите! Мы еще варвары». Таким образом, указ остался невыполненным, что было для папа горчайшим разочарованием. Когда в 1854 году началась Крымская война, он сказал Саше (наследнику великому князю Александру Николаевичу. – Я. Г.): «Я не доживу до осуществления моей мечты; твоим делом будет ее закончить».
Император глазами графа Киселева
Из воспоминаний Павла Дмитриевича Киселева
Император Николай Павлович в интимных беседах часто говорил о своей недостаточной образованности.
– А как могло быть иначе, – говорил он. – Наш с братом Михаилом главный наставник был не слишком просвещенным человеком и не отличался способностью не то что руководить нашим ученьем, но хотя бы привить нам вкус к нему; напротив, он был ворчлив, а порою жесток. Любая детская шалость приводила его в невообразимую ярость, он нас бранил на все лады, часто сопровождая свою брань щипками, что, разумеется, было весьма неприятно. Мне доставалось сильнее, чем Михаилу, чей легкий и веселый характер больше нравился наставнику.
Государь император при обсуждении того или иного вопроса часто говорил:
– Я этого не знаю, да и ткуда мне знать с моим убогим образованием? В 18 лет я поступил на службу и с тех пор – прощай, ученье! Я страстно люблю военную службу и предан ей душой и телом. С тех пор как я нахожусь на нынешнем посту (вместо того чтобы сказать – с тех пор как я царствую и правлю), я очень мало читаю. У меня нет времени, но я все же нахожу его, чтобы почитать Тьера. Выбранный им ныне сюжет и то, как он его преподносит, заставляют меня предпочесть его всем серьезным трудам, которые мне присылают. Я всегда с нетерпением ожидаю следующего тома. В промежутках тешу себя чтением Поля де Кока и «Journal des Debats»[18], я читаю его уже 40 лет. Если я и знаю что-то, то обязан этому беседам с умными и знающими людьми. Вот самое лучшее и необходимое просвещение, какое только можно вообразить…
Однажды государь рассказал мне, что, будучи женихом дочери прусского короля, он проездом в Лондон оказался в Париже (по-моему, в 1816 году) и провел целый день в Нейи.
– Я получил столь сильное впечатление от его семейной жизни, – сказал он, – о коей еще недавно я сам мечтал, не отдавая себе в том отчета, что попросил герцога Орлеанского позволения приехать через день проститься с ним и его семьей. Он дал согласие, и я провел еще один день, можно сказать, наслаждаясь счастьем, поскольку мои первые впечатления от Нейи подтвердились; и с тех пор я решил в своей семейной жизни придерживаться усвоенных мною правил. То, что я вам рассказываю, моей жене известно, и она может подтвердить. Людовик Филипп показался мне тогда человеком благородным, мудрым и счастливым. Со всей горячностью молодости я увидел в нем образец той жизни, к коей я себя готовил. Но с той минуты, как он ловким трюком стянул корону со своего племянника короля, чьим опекуном и покровителем по родству он являлся, – о! с той минуты мое отношение к этому человеку не могло не перемениться. Я приказал Нессельроде строго придерживаться всех наших обязательств по отношению к Франции, и когда Пален, назначенный послом, прибыл проститься и спросил меня, что передать королю от моего имени, я ответил: «Ничего. У вас есть дипломатические предписания, достаточно будет их».
Император Николай Павлович в порыве откровенности мог наговорить лишнего. Однажды во время семейного обеда, накрытого на четыре персоны – я был единственным посторонним, – его величество принялся резко порицать Людовика Филиппа. Я позволил себе предупредить его по-русски, что дворецкий, прислуживавший за столом, француз.
– Ну и что? – возразил государь.
– Но такие неосторожные высказывания, ваше величество…
Он не дал мне закончить, заметив, что «такие высказывания – лучшее наказание за дурные поступки; впрочем, если за нами шпионят, пусть получают за свои деньги!»
Государь любил повторять, что без принципа власти нет общественного блага, что это значит исполнять долг, а не пытаться завоевать популярность слабодушием, что народами следует управлять, а не заискивать перед ними, что любовь должна приобретаться благодаря справедливости, что царь, угодничающий перед толпой, в конце концов неизбежно вызывает безразличие, а потом и презрение.
Он был неистощим на эту тему. После переворота 2 декабря император Николай Павлович сказал, что Людовик Наполеон, вернув правительству власть, сослужил неоценимую службу Франции и всей Европе. «Нам следует отдать ему должное».
Позднее на него произвела некоторое впечатление цифра III[19]. Он стал сдержаннее в своих похвалах.
– Посмотрим, – говорил он, – куда это приведет?
Он был очень озабочен посланием Людовику Наполеону в связи с его восшествием на престол.
– Если бы, по крайней мере, – говорил он, – было хоть немного времени, чтобы оценить ситуацию; почти единодушное одобрение французов много значит при нынешнем состоянии Франции, но надо еще посмотреть, как это мнение устоит перед интригами различных партий. Я бы желал, чтобы оно утвердилось, но моего желания недостаточно – надо обладать уверенностью. Наш императорский титул Франция признала только спустя 40 лет, однако отношения между двумя странами оставались неизменно добрососедскими. Я вовсе не настаиваю на таком сроке, но хотелось бы иметь уверенность, что новая революция с помощью всеобщих выборов не опрокинет достижения прежней. Я не отрицаю полностью выборной системы, но лишь указываю на ее недостатки. Наше наследственное правление тоже результат народного выбора, точно так же, как и в Англии. Выбор, павший на Романова, чья мать приходилась сестрой последнему Рюриковичу[20], спас страдавшую от внутренних распрей Россию. Провидение благословило выбор, павший на ребенка. Это исключение, когда за отсутствием наследников по мужской линии священный принцип наследственного права на престол не остался в небрежении. И представьте, я впитал этот принцип так глубоко, что, пока мой брат Константин был жив, я, несмотря на его отказ от трона, всегда считал себя всего лишь его лейтенантом и не предпринял ни одного важного поступка, предварительно не обсудив с ним. Часто это меня стесняло, но я во всю свою жизнь ни разу не отступил от сего правила и, думаю, правильно делал, поскольку законы Провидения выше человеческих поступков, какими бы правильными последние ни выглядели в наших глазах.
В ведении судов находятся официальные документы – почтенные выражения, согласованные и принятые заинтересованными сторонами, но человеческая совесть дается свыше, и она должна иметь преобладающее значение.
Однажды он мне сказал, что если бы он мог выбирать, то не выбрал бы своего нынешнего положения.
– Но я прежде всего христианин, – добавил он, – и подчиняюсь велениям Провидения; я часовой, получивший приказ, и стараюсь выполнять его как могу.
Такие высказывания, хотя и довольно частые, не давали ни малейшего повода к слухам об отречении, возникавшим порою. Император Николай Павлович был слишком верующим человеком, чтобы пытаться уклониться от исполнения долга, внушенного ему, как он сам сознавал, самим Господом.
В разговоре о Турции государь сказал, что как политик не может и желать лучшего соседа, но, к несчастью, эта страна на пути к гибели из-за отвратительного управления, которое только ускоряет неизбежное падение.
– Страну переполняет христианское чувство, а нападки со стороны мусульман только закаляют его, и оно день ото дня становится для них все более опасным и угрожающим. Будь у султана характер потверже, он бы перешел в христианство и народ в большинстве своем последовал бы за ним. Другого ему ничего не остается.
В другой раз в разговоре о европейской Турции он выразился так:
– Рано или поздно, но катастрофа неминуема, и тогда они не будут знать, что делать. Вспыхнут зависть и недоверие, и в погоне за добычей прольются реки крови. В 1844 году в Англии я говорил об этом моему старому другу Веллингтону и тогдашнему министру лорду Абердину. «Надо объединяться, – говорил я им, – чтобы избежать мировой войны. И в доказательство того, что я не жду для себя особой выгоды, я в качестве первого условия выдвигаю следующее: державы, кои пожелают вступить в такой союз, должны отказаться от любых притязаний на территорию Турции».
В другой раз, возвращаясь к этой теме, он добавил:
– Если мусульмане покинут европейскую Турцию, лучшее устройство для нее – создание двух-трех княжеств с центром в Константинополе, имеющем статус свободного города.
Он решительно отвергал идеи как создания Греческой империи, так и присоединения Константинополя к России.
– У нас есть мечтатели, лелеющие эту мысль, – говорил он, – но я считаю ее несовместимой с будущим России. Константинополь приведет Россию в упадок, точно так же, как и славянская конфедерация.
Государь развивал свои мысли об этом предмете с ясностью, свидетельствующей о глубокой убежденности.
Во время Крымской войны государь сказал:
– Я жестоко наказан за излишнюю доверчивость по отношению к нашему молодому соседу (австрийскому императору). С первого свидания я почувствовал к нему такую же нежность, как к собственным детям Мое сердце приняло его с бесконечным доверием, как пятого сына. Два человека пытались избавить меня от столь сильного заблуждения. Я был возмущен и несправедливо отнесся к их добрым намерениям. Ныне я признаю это и прошу у них прощения за мое ослепление.
Император и Кавказ
Из сочинения декабриста Михаила Сергеевича Лунина «Общественное движение в России в нынешнее царствование»
Император Николай неизменно соблюдает правило вести одновременно лишь одну войну, не считая войны Кавказской, завещанной ему и которую он не может ни прервать, ни прекратить.
Да, среди прочего тяжелого наследства, которое Николай Павлович получил от старшего брата, была и Кавказская война, изнурительная для государственных финансов, и без того расстроенных.
У Николая было двойственное отношение к этой войне. С одной стороны, для него, главы военной империи, Кавказ был полигоном, на котором проходили боевое обучение или совершенствовали свое искусство генералы и офицеры. Кроме «коренных кавказцев», для которых Кавказ был постоянным местом службы, через войну с горцами прошло множество русских военачальников разных рангов. Это была своеобразная, но весьма полезная школа. Николай понимал психологическую значимость этого фактора – непрекращающегося театра военных действий в пределах государства, – который мощно поддерживал моральный тонус офицерства, делая русскую армию непрерывно воюющей. В любой момент офицер по собственному желанию, по разнарядке или в виде наказания мог очутиться в боевой обстановке, лицом к лицу со смертельной опасностью.
Но, с другой стороны, война ложилась губительным бременем на государственный бюджет. Финансовые обстоятельства оказывались сильнее военно-психологических. Николай стремился закончить войну как можно скорее.
Однако, как и в случае с крестьянской реформой, он не знал, как это сделать. Но если, занимаясь крестьянским вопросом, он откровенно признавался в своей неопытности, то в делах кавказских – военных – считал себя вполне компетентным и пытался решительно руководить кавказскими генералами.
В середине 1830-х годов у императора появилась идея замирения Кавказа, свидетельствующая о его полном непонимании ситуации в крае и психологии горцев. Он решил отправиться на Кавказ, встретиться с депутатами от горских народов и, подавив их мощью своей личности, вынудить принять российское подданство и согласиться на все условия.
Военное министерство и командование Кавказским корпусом провело немалую подготовительную работу.
Николай всерьез рассчитывал, что Шамиль, потерпевший перед тем тяжелое поражение, явится к нему в Тифлис с раскаянием и мольбой о прощении. И он, император, намерен был его простить…
Между тем у Шамиля ничего подобного и в мыслях не было. Ту версию своего пребывания на Кавказе в 1837 году, которую Николай желал передать потомству и современникам в России, он изложил Бенкендорфу.
Бенкендорф включил этот рассказ в свои записки.
Из рассказа Николая I, записанного Александром Христофоровичем Бенкендорфом
30 сентября [1837] мы приехали в Сурам, а 1 октября в 7 часов вечера в Ахалцих, прославивший нашего Паскевича. 2 октября, осмотрев городские заведения и мечеть, обращаемую в православный собор, отправился на ночь в Ахалкалаки, а 3-го – в Гумры, где приняли меня с обычными приветствиями старшины армян, перешедших сюда из Карса. Меня поразили огромные работы, предпринятые по сооружению этой новой крепости, настоящего оплота для Грузии и пункта, откуда можно угрожать одновременно и Турции, и Персии, которых границы здесь почти сливаются. Местоположение крепости единственное, на отвесной скале, далеко господствующее над оттоманскими владениями. Каменная одежда уже вся окончена с тою тщательностью, какую мы привыкли видеть в лучших наших крепостях, и здесь надо было отдать полную справедливость барону Розену и инженеру, управлявшему работами, как за быстроту возведения последних и превосходное их очертание, так и за бережливость, почти невероятную, с которою все это построено. […]
В этой ближайшей к оттоманским пределам крепости нашей явился ко мне эрзерумский сераскир Магомет-Асед-паша, присланный от султана с приветствием и с богатыми дарами, состоявшими из лошадей, шалей и оружия. Он сказал мне, что выбран для этой миссии своим повелителем, как начальник смежных турецких областей, и прислан за моими приказаниями.
В деревне Мастеры мы вступили в Армянскую область. Ожидавшие меня тут армянские беки и мелики и курдские старшины сопровождали нас до нашего ночлега в Сардар-Абаде.
Здесь край становится еще живописнее. Арарат открывается во всем своем величии, образуя задний план картины, и невольно переносит мысль к воспоминанию о седой старине.
Спустившись в долину, я увидел перед собою выстроенную к бою бесподобную конницу Кенгерли, в однообразном одеянии и на чудесных лошадях; начальник ее Эсхан-хан, подскакав ко мне, отрапортовал по-русски, как бы офицер наших регулярных войск. С этою свитою я подъехал к знаменитому Эчмиадзинскому монастырю, перед которым встретил меня армянский патриарх Иоанес верхом.
Сойдя с лошади, он произнес речь и потом опять, сев верхом, продолжил вместе со мною шествие к стенам древней своей обители, этого Капитолия армянской народности и религии. Епископы и архимандриты, тоже все верхами, придавали нашему поезду что-то странное и почти театральное; лошадь патриарха вели под уздцы два скорохода, а за ним ехало человек 50 почетной его стражи в полумонашеском одеянии и два духовных сановника, один с его посохом, а другой с хоругвью, что означало соединение в лице патриарха власти духовной со светскою и военною. Наконец, впереди всех патриарший конюший вел двух верховых лошадей под богатыми попонами. Когда мы в такой процессии подъехали к стенам Эчмиадзина, звон всех колоколов монастырских и ближайших церквей слился с пением духовных стихир и с криками народа, отовсюду сбежавшегося. Вне монастырской ограды стояли монахи, и два епископа во всем архиерейском облачении поднесли мне: один – приложиться чудотворную икону, а другой – хлеб и соль. Патриарх отделился от меня у Северных ворот собора, чтобы войти в южные и принять меня перед алтарем, тоже в полном облачении, с крестом в руках и со всем блеском своего сана. Здесь Иоанес произнес вторую приветственную речь, и затем своды древнего храма огласились пением стихир на сретение царя, не раздававшихся здесь в течение семи веков. Приложась к мощам, почивающим в соборе более тысячелетия, я все с тою же многочисленною свитою обошел ризницу, синодальные палаты, семинарию, типографию и трапезную, а потом зашел к патриарху, который, призывая на меня и на мое потомство благословение Божие, вручил мне в дар часть животворящего креста Господня.
По выходе из монастыря… я сделал смотр конницы Кенгерли, которая сопровождала меня оттуда до Эривани. Здесь, помолясь в соборе, я удалился в приготовленный для меня дом, очень радуясь возможности наконец отдохнуть.
6 октября я принял наследника персидского трона Валията, дитя семи лет, при котором находился посол от шаха. Посадив мальчика, очень хорошенького, к себе на колени, я обратился к послу с весьма серьезною речью, изъяснив ему, что все его уверения прекрасны на словах, но что я не намерен доверять им… что, строго наблюдая с моей стороны все трактаты, я сумею заставить и шаха к точному их исполнению. Впрочем, мы расстались с послом добрыми друзьями, и он подарил мне от имени шаха прекрасных лошадей, жемчугу и множество шалей.
Переночевав в этот день в Чухлы, а 7-го в Кади, я 8 октября, в 3 часа пополудни, имел торжественный въезд в Тифлис. Прибытие мое было возвещено пушечною пальбою и колокольным звоном; множество народа наполняло улицы и плоские крыши домов, а разнообразие богатых одеяний туземцев представляло прекрасный вид. Не могу иначе изобразить вам радушие сделанного мне приема, как сравнив его с встречами, делаемыми мне всегда здесь, в Москве, и нельзя не дивиться тому, как чувства народной преданности к лицу монарха сохранились при том скверном управлении, которое, сознаюсь к моему стыду, так долго тяготеет над этим краем.
Тифлис – большой и прекрасный город, с азиатскою внутренностью, но с предместьями уже в нашем вкусе и со многими домами, которые не обезобразили бы и Невского проспекта.
Утром 9 октября, помолясь в Успенском соборе при огромном стечении народа, я присутствовал при разводе Эриванского карабинерного полка, в полдень принимал ханов и почетных лиц разных горских племен, собравшихся в Тифлис к моему приезду, и потом осматривал корпусный штаб, больницу, арсенал, казармы Кавказского саперного батальона, устроенную при нем школу с училищем для молодых грузинских дворян и тюрьму. Все оказалось в отличном порядке.
10 октября я слушал обедню в церкви Св. Георгия и смотрел войска, составляющие тифлисский гарнизон. Хороша в особенности артиллерия.
11 октября, после развода сводного учебного батальона и осмотра военного госпиталя и шелкомотальной фабрики, я принял грузинских князей и дворян, составлявших мой конвой и теперь содержавших караул перед моею комнатою. Они явились верхом на лучших своих конях и в богатейших нарядах и соперничали между собою в скачке и в искусстве владеть оружием. Один ловчее другого, и между ними было немало таких, которые свели бы с ума наших дам.
Вечером я присутствовал на довольно многолюдном бале. Дамы были большею частью в национальных костюмах, скрадывающих талью и вообще не слишком грациозных, тогда как сами по себе многие из них блестят истинно восхитительною красотою, чего нельзя сказать, по крайней мере в массе, об их уме.
Виденное мною в Грузии вообще довольно меня удовлетворило. Положение дорог и Гумрийская крепость свидетельствуют о попечительности барона Розена, но в администрации есть разные закоренелые беспорядки, превосходящие всякое вероятие. Сенатор барон Ган, уже несколько месяцев ревизующий этот край, открыл множество вещей ужасных, которые, начавшись, впрочем, задолго до управления барона Розена, должны были до крайности раздражить здешнее население, сколько оно ни привыкло к слепой покорности. Везде страшное самоуправство и мошенничество. В числе прочих частей и военные начальники позволяли себе неслыханные злоупотребления.
Так, князь Дадиан, зять барона Розена и мой флигель-адъютант, командовавший полком всего в 16 верстах от Тифлисской заставы, выгонял солдат и особенно рекрутов рубить лес и косить траву, нередко еще в чужих помещичьих имениях, и потом промышлял этою своею добычею в самом Тифлисе, под глазами начальства; кроме того, он заставлял работать на себя солдатских жен и выстроил со своими солдатами вместо казармы мельницу, а в отпущенных ему на то значительных суммах даже не поделился с бедными нижними чинами; наконец, этот молодчик сданных ему 200 человек рекрутов, вместо того чтобы обучать их строю, заставил, босых и необмундированных, пасти своих овец, волов и верблюдов. Это было уже чересчур, и по дошедшему до меня о том первому сведению я в ту же минуту отправил на места моего флигель-адъютанта Васильчикова, исследованием которого все было раскрыто точно так, как я вам сейчас рассказал. Ввиду таких мерзостей надо было показать пример строгого взыскания.
У развода я велел коменданту сорвать с князя Дадиана, как недостойного оставаться моим флигель-адъютантом, аксельбант и мой шифр, а самого его тут же с площади отправить в Бобруйскую крепость для предания неотложно военному суду.
Не могу сказать вам, чего стоила моему сердцу такая строгость и как она меня расстроила; но в надежде, поражая виновнейшего из всех, собственного моего флигель-адъютанта и зятя главноуправляющего, спасти прочих полковых командиров, более или менее причастных к подобным же злоупотреблениям, я утешался тем, что исполнил святой свой долг. Здесь это было бы действием самовластным, бесполезным и предосудительным; но в Азии, удаленной огромным расстоянием от моего надзора, при первом моем появлении перед Закавказскою моею армией необходим был громовый удар, чтобы всех устрашить и вместе чтобы доказать храбрым моим солдатам, что я умею за них заступиться. Впрочем, я вполне чувствовал весь ужас этой сцены и, чтобы смягчить то, что было в ней жестокого для Розена, тут же подозвал к себе сына его, преображенского поручика, награжденного Георгиевским крестом за варшавский штурм, и назначил его моим флигель-адъютантом, на место недостойного его шурина.
Я выехал из Тифлиса 12 октября рано утром. Мне дали кучера, который или не знал своих лошадей, или не умел ими править. Этот дурак начал с того, что стал их стегать перед спуском с довольно большой крутизны, несколько раз прикасающейся к краю бездонной пропасти. Вдруг лошади понесли. Признаюсь вам, что минута была нешуточная. Опасность грозила очевидная, без всякого средства спасения; я встал в коляске, чтобы пособить кучеру сдержать лошадей, однако напрасно; мне пришла нелепая мысль выскочить из коляски, но Орлов разумно догадался удержать меня. Мы уже видели перед глазами смерть, как вдруг сильным толчком опрокинулся экипаж и отбросило нас в сторону; я перекувыркнулся несколько раз и тем на этот раз отделался; Орлов порядочно ушибся; коляска, опрокинувшись, легла на два пальца от пропасти, в которую без этого падения мы неминуемо были бы сброшены; а как коляска находилась близко от края дороги, доказательство вам то, что обе уносные повисли над пропастью на одних недоуздках, удержанные единственно тяжестью опрокинутого экипажа. Мы встали на ноги, немножко ошеломленные нашим полетом, и возблагодарили Бога за чудесное спасение.
Между тем весь передок коляски был сломан. Так как у нас в Тифлисе имелась запасная, то я оставил на месте Орлова распорядиться экипажами, а сам продолжал путь верхом на казачьей лошади и упал всем, как снег на голову, в Квишете, у подножия главного перевала Кавказского хребта.
13 октября я сел опять на лошадь, чтобы переехать через эту исполинскую цепь, отделяющую Европу от Азии. В долине стояла еще прекрасная осень, а на горных вершинах мы были встречены 6-градусным морозом, и наши лошади каждую минуту скользили. Дорога, проложенная через эти горы, скалы и стремнины, есть одна из величайших побед человеческого искусства над природою. Везде теперь можно ехать в карете четверкою в ряд, и только глаз пугается окружающих ужасов.
На ночлеге во Владикавказе меня ожидали мой конвой черкесов и линейных казаков, возвращавшихся из Петербурга по выслуге срока своей службы, и депутаты от разных горских племен. Надо бы видеть взгляды, с которыми мои молодцы казаки следили за каждым движением этих господ, из которых, правда, у многих были настоящие разбойничьи рожи.
Я растолковал депутатам, чего желаю от их одноплеменников, не для увеличения могущества России, а для собственного их блага и для спокойствия их семейств; сказал им далее, что они, для удостоверения в истине моих слов, могут спросить присутствующего тут муллу, который по моему повелению прожил несколько лет в Петербурге, чтобы учить магометанскому закону их собратий и детей, вверенных моему воспитанию, наконец, заключил тем, что я требую только, чтобы они жили спокойно, наслаждаясь благами своей прекрасной родины, и не покушались бороться против неодолимой для них силы русского оружия.
Они, кажется, вразумились в мои слова, и мы расстались приятелями; притом все изъявили желание проводить меня до Екатеринограда. Таким образом, в моем конвое было по крайней мере вчетверо более врагов, чем своих, и все усердствовали защищать меня против самих же себя. Все это представляло довольно любопытное зрелище. Некоторые из отцов просили меня взять их детей на воспитание.
Надо сказать, что до сих пор местное начальство принималось за свое дело совсем не так, как следует; вместо того чтобы покровительствовать, оно только утесняло и раздражало; словом, мы сами создали горцев, каковы они есть, и довольно часто разбойничали не хуже их. Я много толковал об этом с Вельяминовым, стараясь внушить ему, что хочу не побед, а спокойствия; что и для личной его славы, и для интересов России надо стараться приголубить горцев и привязать их к русской державе, ознакомив их с выгодами порядка, твердых законов и просвещения; что беспрестанные с ними стычки и вечная борьба только все более и более удаляют их от нас и поддерживают воинственный дух в племенах, без того любящих опасности и кровопролитие.
Я сам тут же написал Вельяминову новую инструкцию и приказал учредить в разных пунктах школы для детей горцев. […]