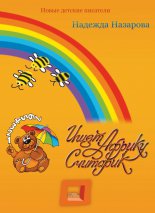Николай I без ретуши Гордин Яков

В доказательство того, что обе страны находятся под одним и тем же правительством, государь велел привезти из Петербурга императорскую корону.
В назначенный для коронации день дворцовые залы наполнились приглашенными сановниками и дамами; войска стали от дворца до римско-католического собора; улицы, балконы и даже кровли покрылись зрителями.
Императорская чета с наследником, обоими великими князьями и всею военною свитою, в предшествии двора, вступила в тронную залу королей польских. Вокруг залы поместились министры, сенаторы, прелаты и нунции.
Государь на ступенях трона, под королевским балдахином, возложив на себя корону, произнес присягу перед распятием. В выражении его голоса было столько величественности и правды, что всех предстоящих объяло глубокое умиление.
Потом царь с царицею следовали пешком к собору, среди восторженных криков толпы.
В соборе, под древними сводами которого столько королей воспринимали корону и столько поколений поклонялись своим владыкам, поляками не могло не овладеть некоторое самодовольство при виде потомка Петра Великого, отдающего почесть вероисповеданию их края, и католическое духовенство не могло не ощущать странного чувства, вознося молитвы о возведенном на престол православном царе. На нас, напротив, все это произвело какое-то тягостное впечатление, как бы предзнаменовавшее ту неблагодарность, которою этот легкомысленный и тщеславный народ отплатит со временем за доверие и честь, оказанные ему русским императором.
Возвратясь во внутренние комнаты дворца, государь прислал за мною. При виде моего душевного смущения он не скрыл и своего. Он принес присягу с чистыми помыслами и с твердою решимостию свято ее соблюдать. Рыцарское его сердце всегда чуждалось всякой затаенной мысли.
После церемонии был во дворце банкетный стол.
Этот день ознаменовался немалыми милостями, между прочим и пожалованием князя Адама Чарторыжского в обер-камергеры, что несколько огорчило тщеславного князя, постоянно мечтавшего носить титул царского наместника.
За обедом мне пришлось сидеть между нунциями; жалуясь на жестокую грубость цесаревича и превознося приветливость нового их царя, они отзывались, что охотно отдали бы последнему свою конституционную хартию со всеми ее привилегиями, лишь бы он управлял ими непосредственно, как управляет Россиею.
За церемониею следовали иллюминации, балы, театры и большие смотры. […]
…Уже несколько лет не был собираем в Царстве Польском народный сейм. Государь, как строгий исполнитель данного слова, не захотел долее отлагать созвание этого сейма, установленного данною императором Александром конституциею. Велев вследствие того нунциям явиться в Варшаву к половине мая, он и сам стал готовиться к поездке туда. Мы выехали из Петербурга 2 мая [1829], опять по тракту на Динабург (Двинск), куда государя постоянно влекло сочувствие к работам, производившимся столько лет под личным его надзором в бытность его генерал-инспектором по инженерной части. Употребив два дня на осмотр этих работ, нескольких полков 1-го корпуса и резервных батальонов, он продолжал свой путь на Ковно и Остроленко и прибыл в Варшаву 9-го числа поутру. […]
Государь с императрицею пришли в тронную залу, за ними следовали двор и вся военная свита, а галереи были наполнены почетнейшими дамами. По занятии всеми своих мест государь открыл собрание речью, заслужившею общее одобрение. Все любовались величественною его осанкою и звонким голосом и казались исполненными самой ревностной к нему привязанности. Одним из первых предметов, к обсуждению которых камера нунциев приступила в тот же день, было предложение, единогласно принятое, воздвигнуть народный памятник императору Александру. Маршал сейма дал большой обед всем почтеннейшим сановникам, находившимся в Варшаве, и всем нунциям. На нем присутствовал и государь. Здоровье его было провозглашено при единодушных кликах, и это пиршество совершилось со всевозможным приличием и всеми признаками сердечной преданности. Прекрасные балы несколько раз соединяли все высшее варшавское общество в Лазенках, а императорская фамилия удостоила также своим присутствием бал, данный графом Замойским, председателем государственного совета Царства. Все по виду казалось спокойным, а между тем в камере нунциев уже зарождалась оппозиция. Толковали о протесте перед царем против самоуправных действий и против преувеличенных издержек на войско. Стали образовываться партии, но ни в чем еще не обнаруживалось никакого неприязненного чувства против особы монарха.
Государь признал за благо явить новое доказательство своей добросовестности, отстранив даже и тень какого-нибудь влияния с его стороны на работы сейма. Вследствие того он оставил на все время их продолжения Варшаву и самые пределы Царства.
За внешней пышностью торжеств только очень проницательные люди могли почувствовать то вулканическое напряжение, которое уже колебало почву под ногами русской администрации.
Из записки Александра Христофоровича Бенкендорфа «Император Николай I в 1828–1831 годах»
Между тем пришло известие о бельгийской революции, изгнавшей из Брюсселя принца Оранского; брат его, принц Фридрих, пытался было снова овладеть Брюсселем, но, продержавшись там лишь несколько дней, покинул город и весь край на жертву революции, представлявшей, собственно, одно постыдное и смешное подражание парижской.
Пример был опасен. В Брюсселе, как и в Париже, победа осталась на стороне революции; там, как и тут, законность должна была поклониться перед беспорядком и монархия перед демократическими идеями! Умы разгорячались, и легкость успеха в этих двух странах не могла не ободрить и не внушить новой отваги людям злонамеренным. Варшава была переполнена такими. Обезьянство французским доктринам, увлекшее слабые польские головы в первую революцию и приведшее Польшу к первому ее разделу, возобновилось и теперь в том же духе и послужило сигналом к восстанию.
Уже за несколько времени перед тем замечались разные проявления революционных замыслов в варшавской школе подпрапорщиков. Цесаревич, быв неоднократно о том предварен, сначала не давал веры этим изветам, а впоследствии хотя и учредил следственную комиссию, но сия последняя действовала чрезвычайно слабо. Несмотря на подозрительный свой характер, цесаревич не хотел предполагать, чтобы нашлись преступники в числе тех, которых называл своими, а подпрапорщики, помещенные на жительство возле сада его Бельведера, им сформированные, обученные и, так сказать, воспитанные, были для него такими в полном смысле.
25 ноября [1830], вечером, пришло к государю известие, что 17-го числа, вечером же, Варшава сделалась театром кровавых сцен. Описывалось, как несколько подпрапорщиков ворвались в Бельведерский дворец, изранили президента полиции Любовицкого и убили генерала Жандра, прискакавшего предварить цесаревича о грозящей ему опасности; как цесаревич сам едва успел от них скрыться задним ходом и сесть на лошадь. Только когда русская гвардейская кавалерия поспешила на помощь ему, убийцы бежали из Бельведера; как между тем весь город пришел в волнение, и народ, бросившись в арсенал и выломав все двери в нем, захватил все находившиеся там склады оружия. Далее, что 4-й линейный полк, саперный батальон и гвардейская конноартиллерийская батарея, уже заранее подготовленные бунтовщиками, тотчас стали на их сторону, а поспешившие к волновавшимся сборищам для восстановления порядка военный министр граф Гауке, начальник пехоты граф Станислав Потоцкий, генералы – Дементовский, Трембицкий, Брюмер и Новицкий – пали жертвами ярости своих соотчичей; что русские полки Литовский и Волынский и с ними часть польских гвардейских гренадер, в польской походной амуниции, ждут на площади приказаний цесаревича; что Конноегерский полк польской гвардии с несколькими ротами армейских гренадер сохранили верность и в ночь присоединились к трем русским кавалерийским полкам, находившимся при цесаревиче; наконец, что весь город открыто бунтует и никаких мер не принято для его усмирения.
Государь тотчас прислал за мною и, когда я явился, дал мне прочесть рапорт цесаревича. Между тем, не теряя ни минуты, он уже успел отдать все нужные приказания. 1-й корпус, под командою П. П. Палена, получил приказание двинуться к границам Царства, а барону Розену, начальнику Литовского корпуса, велено взять то направление, какое укажет цесаревич.
На другое утро государь, по обыкновению, присутствовал при разводе и с окончанием его, став в середину экзерциргауза, вызвал к себе генералов и офицеров. Все и из покорности, и из любопытства поспешили столпиться вокруг лошади, на которой он сидел. Тут государь громко и внятно передал подробности печальных варшавских событий и, сообщив об опасности, которой подвергался его брат, и о принятых уже мерах, заключил следующими словами: «В случае нужды вы, моя гвардия, пойдете наказать изменников и восстановить порядок и оскорбленную честь России. Знаю, что я во всех обстоятельствах могу полагаться на вас!» В продолжение речи государя внимание слушателей все более и более напрягалось, и кружок их вокруг него все становился теснее; но при последних словах все, так сказать, налегли на него; каждый хотел лично выразить ему свою любовь и преданность; все были в слезах, и единодушное «ура!» стоявших в ружье солдат сопровождало государя до выхода его из экзерциргауза. Эта сцена произвела неописуемое впечатление: старые и молодые, генералы и офицеры и даже солдаты, все были глубоко тронуты, и государь при этом случае легко мог удостовериться в питаемом к нему восторженном чувстве. […]
Приняв все меры к сосредоточению достаточных сил для подавления мятежа, государь решился, однако же, истощить все средства к образумлению своих заблудших подданных без кровопролития. Он отправил состоящего при нем польского флигель-адъютанта Гауке в Варшаву с манифестом, открывавшим нации возможность испросить себе прощение, с письмом к Хлопицкому, которому давал разные повеления касательно участи вдов изменнически убитых генералов, с приказом польской армии собраться в полном составе у Плоцка.
Хлопицкий и некоторые другие лица, сохранявшие еще рассудок, страшась предстоящей борьбы, советовали вступить в переговоры, но партия якобинцев, предводительствуемая Лелевелем, честолюбие Чарторыжского, мечтавшего быть избранным на трон Польши, и толпа безумцев, увлекаемых только личными своими страстями, одержали верх. Повеления и предложения государя были отвергнуты. Единственная уступка, которой мог добиться Хлопицкий, состояла в согласии послать депутацию в Петербург, но не для изъявления покорности и раскаяния, а для настояния об удовлетворении всех домогательств Польши и о присоединении к ней наших Литовских губерний. Польский министр финансов князь Любецкий, человек очень умный, видя в этой миссии единственное средство к спасению своей жизни, так искусно умел повести дело, что выбор быть представителем этой депутации пал на него. Он взял себе в товарищи сеймового депутата Езерского.
Когда эти господа явились в Петербург, то монарх, чтобы отстранить всякую мысль, что им была допущена какая-либо депутация от мятежников, не соизволил принять их вместе. Призвав к себе одного Любецкого в качестве своего министра, но и то в присутствии великого князя Михаила Павловича и еще нескольких других свидетелей, он много и очень строго говорил о варшавских мерзостях и не допустил Любецкого произнести ни одного слова касательно его миссии. Мне поручено было переговорить в том же духе с Езерским, которого государь принял несколько дней позже, неофициально и при мне. Любецкому он велел остаться в Петербурге, а Езерскому позволил возвратиться в Варшаву, уполномочив его передать там все им слышанное, по письменному мною составленному изложению. Это было последним средством, которое государь, в великодушии своем, хотел еще испытать для избавления мятежных своих подданных от ужасов войны и от наказания за дальнейшее неповиновение. Бумага оканчивалась следующими словами: «Первый пушечный выстрел, сделанный поляками, убьет Польшу». […]
Назначенный главнокомандующим действующею армиею граф Дибич деятельно занимался приготовлениями к предстоящей кампании, несмотря на время года, столь для нее невыгодное. Ожидавшие нашу армию в самом начале кампании затруднения от снегов и переправ не могли не благоприятствовать неприятелю. Гвардейский корпус под начальством великого князя Михаила Павловича также выступил в поход. Фельдмаршал оставил Петербург в половине декабря. Армия наша перешла границы империи и вступила в пределы Царства 25 января 1831 года.
Надо отдать справедливость Николаю – взойдя на престол по трупам своих подданных, он долго не решался начать подавление польского мятежа силой, надеясь на раскаяние восставших и благоразумие их вождей.
Это говорит как о нежелании проливать кровь, так и, с другой стороны, о немалой политической наивности императора.
Колебания продолжались два месяца.
Из письма Николая I великому князю Константину Павловичу, бежавшему из Варшавы. 3 января 1831 года
Трудно прозреть будущее, но, соображая в пределах человеческого разума, взвешивая различные вероятия успеха, трудно предположить, чтобы новый год оказался для нас более тяжелым, чем 1830 год; дай Бог, чтоб я не ошибся. Я желал бы видеть Вас спокойно водворившимся в Вашем Бельведере и порядок восстановленным повсюду, но сколько еще предстоит сделать, прежде чем быть в состоянии достигнуть этого. Кто из двух должен погибнуть – так как, по-видимому, погибнуть необходимо, – Россия или Польша? Решайте сами. Я исчерпал все возможные средства, чтобы предотвратить подобное несчастие. Средства совместимы только с честью и моею совестью, эти средства исчерпаны, или, по крайней мере, ничто не может заставить меня поверить, чтоб их хотели там. Что же мне остается делать.
Это было протрезвление. Николай осознавал постепенно, что поляки не уступят.
Любопытно: Пушкин, разумеется, не читал письма императора, но в знаменитом стихотворении «Клеветникам России» почти буквально повторил николаевскую формулу «Кто из двух должен погибнуть?» – «Кто устоит в неравном споре?».
Наконец 25 января 1831 года был обнародован манифест. Прямым и окончательным поводом для него было решение польского правительства объявить династию Романовых в Польше низложенной.
Из манифеста «О вступлении действующей армии в пределы Царства Польского для усмирения мятежников»
…13-го сего месяца среди мятежного противозаконного сейма, присваивая себе имя представителей своего края, дерзнули провозгласить, что царствование наше и дома нашего прекратилось в Польше и что трон, восстановленный императором Александром, ожидает иного монарха. Сие наглое забвение всех прав и клятв, сие упорство в зломыслии исполнили меру преступлений. Настало время употребить силу против незнающих раскаяния, и мы, призвав в помощь Всевышнего Судию дел и намерений, повелели нашим верным войскам идти на мятежников. Россияне! В сей важный час, когда с прискорбием отца, но со спокойною твердостью царя, исполняющего священный долг свой, мы извлекаем меч за честь и целость державы нашей, соедините усердные мольбы свои с нашими мольбами пред алтарем Всевидящего, Праведного Бога. Да благословит он оружие наше для пользы и самих наших противников! Да устранит скорою победою препятствия в великом деле успокоения народов, десницею его нам вверенных, и да поможет нам, возвратив России мгновенно отторгнутый от нее мятежниками край, устроить будущую судьбу его на основаниях прочных, сообразных с потребностями и благом всей нашей империи, и положить навсегда конец враждебным покушениям злоумышленников, мечтающих о разделении.
Из книги Александра Ивановича Герцена «Былое и думы»
В самое это время я видел во второй раз Николая, и тут лицо его еще сильнее врезалось в мою память. Дворянство ему давало бал, я был на хорах собранья и мог досыта насмотреться на него. Он еще тогда не носил усов, лицо его было молодо, но перемена в его чертах со времени коронации поразила меня. Угрюмо стоял он у колонны, свирепо и холодно смотрел перед собой, ни на кого не глядя. Он похудел. В этих чертах, за этими оловянными глазами ясно можно было понять судьбу Польши, да и России. Он был потрясен, испуган, он усомнился в прочности трона и готовился мстить за выстраданное им, за страх и сомнение. (Вот что рассказывает Денис Давыдов в своих «Записках»: «Государь сказал однажды А. П. Ермолову „Во время польской войны я находился одно время в ужаснейшем положении. Жена моя была на сносе, в Новгороде вспыхнул бунт, при мне оставались лишь два эскадрона кавалергардов; известия из армии доходили до меня лишь через Кенигсберг. Я нашелся вынужденным окружить себя выпущенными из госпиталя солдатами“».)
После тяжелой многомесячной войны польская армия была разбита, Варшава взята штурмом.
Царство Польское со своей конституцией и армией перестало существовать…
Но не перестала существовать тяжелейшая польская проблема…
В разгар войны Николай Павлович, потрясенный происходящим, постарался проанализировать суть давнего российско-польского конфликта.
Из записки Николая I о польском вопросе
Польша постоянно была соперницей и самым непримиримым врагом России. Это наглядно вытекает из событий, приведших к нашествию 1812 года, и во время этой кампании опять-таки поляки, более ожесточенные, чем все прочие участники этой войны, совершили более всего злодейств из тех же побуждений ненависти и мести, которые одушевляли их во всех войнах с Россиею. Но Бог благословил наше святое дело, и наши войска завоевали Польшу. Это неоспоримый факт. В 1815 году Польша была отдана России по праву завоевания. Император Александр полагал, что он обеспечит интересы России, воссоздав Польшу как составную часть империи, но с титулом королевства, особою администрациею и собственною армиею. Он даровал ей конституцию, установившую ее будущее устройство, и заплатил, таким образом, добровольным благодеянием за все зло, которое Польша не переставала причинять России. Это было местью чудной души. Но цель императора Александра была ли достигнута?
Я сказал выше, что главная цель заключалась в обеспечении интересов России путем воссоздания Польши, счастливой и процветающей под покровительством и благодаря связи с Россиею. Не подлежит ни малейшему сомнению, что эта маленькая страна, разоренная, ослабленная беспрерывными войнами, напряжением, вызывавшимся целым рядом революций, частым переходом из одних рук в другие, в пятнадцатилетний промежуток времени достигла замечательного благосостояния. Ее финансовые средства оказались не только достаточными для удовлетворения потребностей страны, но послужили еще для образования наличного фонда казначейства, пригодившегося в течение почти года для покрытия всех нужд настоящей борьбы. Наконец, армия, созданная по образцу армии империи, снабженная всем и богато наделенная запасами в арсеналах, без всякого обременения страны достигшая редкого совершенства, оказалась в состоянии послужить кадрам для 100 000 человек. Что же хорошего вышло из этого для империи? Огромные жертвы, хотя и не выделенные особо из того, что было сделано в 1813 и 1814 годах, были принесены для осуществления завоевания ее. Другие столь же значительные жертвы были принесены в последующие 15 лет, частью для содержания и снаряжения армии, частью для вооружения крепостей. Империя, в ущерб своей собственной промышленности, была наводнена польскими произведениями. Одним словом, империя несла все тягости своего нового приобретения, не извлекая из него никаких иных преимуществ, кроме нравственного удовлетворения от прибавления лишнего титула к титулам своего государя. Но вред был действительный. Прежние польские провинции, видя, как их соотечественники пользуются вблизи их всеми правами самостоятельного народа, которыми они даже злоупотребляют, более чем когда-либо стали задумываться над тем, как ускользнуть от владычества империи. Поэтому оказалось, что при первой же искре эти провинции готовы были восстать и, как следствие этого, самым пагубным образом повлиять на действия армии. Другое, еще более существенное зло, заключалось в существовании перед глазами порядка вещей, согласного с современными идеями, почти неосуществимого в королевстве, а следовательно, невозможного в империи. Зародившиеся надежды нанесли страшный удар уважению власти и общественному порядку и впервые привели к несчастным последствиям, открытым в конце 1825 года. Раз удар был нанесен, пример подан, трудно предположить, чтобы во время всеобщих волнений и смут эти идеи не продолжали развиваться.
Император не считает нужным учитывать исторические корни русско-польской вражды – варварские разделы Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Но само осознание неразрешимости конфликта делает ему честь. Ощущение безвыходности толкает его к неожиданному выводу. Если поляки так неблагодарны и наличие их в составе империи представляет постоянную опасность – особенно в кризисных ситуациях, – то стоит ли сохранять Польшу? Не проще ли устроить новый раздел и собственно польские области отдать другим державам?
Правда, поостыв, Николай от этой смелой идеи отказался.
Но он очень удивился бы, если бы знал, что схожие идеи занес в свою записную книжку человек, которого император не любил и к которому относился с подозрением, – князь Петр Андреевич Вяземский, в 1810-х годах служивший в Варшаве у главы польской администрации Н. Н. Новосильцева и вытесненный со службы за излишние либерализм и полонофильство.
Из записных книжек Петра Андреевича Вяземского
Польшу нельзя расстрелять, нельзя повесить ее (ясный намек на казнь пятерых декабристов. – Я. Г.), следовательно, силою ничего прочного, ничего окончательного сделать нельзя. При первой войне, при первом движении в России Польша восстанет на нас, или должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство: бросить Царство Польское, как даем мы отпускную негодяю, которого ни держать у себя не можем, ни поставить в рекруты. Пускай Польша выбирает себе род жизни… Но такая мысль слишком широка для головы какого-нибудь Нессельроде, она в ней не уместится.
Подобная мысль мелькнула в голове императора, но «не уместилась» в ней.
6 октября 1831 года был обнародован манифест по случаю победы над мятежной Польшей.
Манифест «О прекращении военных действий в Царстве Польском»
Россияне! С помощью Небесного Промысла мы довершим начатое нашими храбрыми войсками. Время и попечение наше истребят семена несогласий, столь долго волновавших два соплеменных народа. В возвращенных России подданных наших Царства Польского вы также будете видеть лишь членов единого с вами великого семейства. Не грозою мщения, а примером верности, великодушия, забвения обид, вы будете способствовать успеху предначертанных нами мер, теснейшему, твердому соединению сего края с прочими областями империи, и государственный неразрывный союз, к утешению нашему, ко славе России, да будет всегда охраняем и поддерживаем чувством любви к одному монарху, одних нераздельных потребностей и польз и общего никаким раздором не возмущаемого счастья.
Это был благородный жест, который отнюдь не соответствовал истинным чувствам императора. В разговоре с французским послом бароном Бургоэном он с горечью констатировал истинное положение вещей, как он понимал его на самом деле.
Из воспоминаний барона Поля де Бургоэна
[Император говорил: ] «Да, я знаю, Европа несправедлива в отношении меня. Обоих нас, моего брата Александра и меня, подвергают ответственности за то, чего мы оба не делали. Не нам принадлежит мысль о разделе Польши. Это событие уже стоило Европе многих хлопот, пролило много крови и может пролить еще, но не нас следует упрекать в том. Мы должны были принять дела такими, какими их передали нам. Я имею обязанности как император российский. Я должен остерегаться повторения тех ошибок, которые породили нынешнюю кровопролитную войну. Между поляками и мною может существовать лишь полнейшая недоверчивость. Привожу доказательства: покойный брат мой осыпал благодеяниями королевство Польское, а я свято уважал все им сделанное. Что была Польша, когда Наполеон и французы пришли туда в 1807 году? Песчаная и грязная пустыня. Мы провели здесь превосходные пути сообщения, вырыли каналы в главных направлениях. Промышленности не существовало в этой стране; мы основали суконные фабрики, развили разработку железной руды, учредили заводы для ископаемых произведений, которыми изобилует страна, дали обширное развитие этой важной отрасли народного богатства. Я расширил и украсил столицу. Существенное преимущество, данное мною польской промышленности для сбыта ее новых продуктов, возбудило даже зависть в моих других подданных. Я открыл подданным королевства рынки империи; они могли отправлять свои произведения далеко, до крайних азиатских пределов России. Русская торговля высказалась даже по этому поводу, что все новые льготы дарованы были моим младшим сыновьям в ущерб старшим сыновьям. Вы ответите, что это только материальные благодеяния и что в сердцах таятся другие чувства, кроме стремлений к выгодам. Очень хорошо! Посмотрим, не сделали ли мы, мой брат и я, всего возможного, чтобы польстить душевным чувствам, воспоминаниям об отечестве, о национальности и даже либеральному чувству. Император Александр восстановил название королевства Польского, на что не решался даже Наполеон. Брат мой оставил за поляками народное обучение на их национальном языке, их кокарду, их прежние королевские ордена, Белого Орла, Святого Станислава и даже тот военный орден, который они носили в память войн, веденных с вами и против нас. Они имели армию, совершенно отдельную от нашей, одетую в национальные цвета. Мы наделили их оружейными и пушечными литейными заводами. Мы дали им не только то, что удовлетворяет все интересы, но и что льстит страстям законной гордости, – они нисколько не оценили всех этих благодеяний. Оставить им все, что было даровано, значило бы не признать опыта. Мои-то дары они и обратили против своего благодетеля. Прекрасная армия, так хорошо обученная братом моим Константином, снабженная вдоволь всеми необходимыми предметами, вся эта армия восстала. Литейные, оружейные заводы, арсеналы, мною же столь щедро наполненные, послужили ей для того, чтобы воевать со мною. Я вправе принять предосторожности, чтобы предупредить повторение случившегося. Углубимся, как говорят, в самую суть вопроса. Что такое поляки? Народ, разбросанный по обширной территории, которая принадлежит трем различным державам. Разве я вправе вернуться к разделу, так давно исполненному тремя различными державами? Все сторонники поляков разглагольствуют об этом на досуге. Они забывают, что я российский император, что я должен принимать во внимание не только выгоды, но и страсти моих русских подданных и сочувствовать их страстям в том, что они имеют в себе справедливого. Где же я возьму составные начала Польши, восстановляемой в воображении? Имеют ли в виду раздел 1792 года или мечтают о восстановлении всей Польши, как она существовала до первого раздела? Но ведь ни Австрия, ни Пруссия, ни мои русские подданные не позволили бы мне этого. Вы видите, что нет возможности вернуться к прошедшему. Могу утверждать с полною искренностью: мы осыпали поляков всякого рода благодеяниями; могу сказать их самым восторженным сторонникам: найдите мне в какое угодно время, под русским ли владычеством, в эпоху ли герцогства Варшавского, в пору ли буйного избирательного королевского правления, Польшу, более богатую, лучше устроенную, с более превосходною армией, с более цветущими финансами, с более развитою промышленностью перед Польшею в царствование императора Александра и мое. Поляки не оценили всех этих преимуществ. Доверие навсегда разрушено между ними и мною».
Этого доверия и не могло быть, ибо польские инсургенты и русский император – равно как его предшественники и наследники – мыслили принципиально по-иному.
При всем желании Николай Павлович не мог понять, что никакое экономическое преуспеяние и никакая лояльность со стороны Петербурга не искупают для поляков попрание их национальной гордости и не сотрут памяти о былой свободе и величии.
Сразу после получения донесения командующего русской армией фельдмаршала Паскевича: «Варшава у ног Вашего императорского величества» – Николай отправил победителю восторженное письмо, которое не в первый раз свидетельствует о его неутоленных полководческих амбициях и чувстве некоторой ущербности по отношению к своим солдатам и генералам.
Из письма Николая I фельдмаршалу Ивану Федоровичу Паскевичу
Слава и благодарение всемогущему и всемилосердному Богу! Слава тебе, мой старый отец-командир, слава геройской нашей армии! Как мне выразить тебе то чувство беспокойства, которое вселило в меня письмо твое от 24-го числа, все, что происходило во мне в те три бесконечных дня, в которые между страхом и надеждой ожидал роковой вести, и, наконец, то счастье, то неизъяснимое чувство, с коим обнял я твоего вестника.
Ты с помощью Бога всемилосердного поднял вновь блеск и славу нашего оружия, ты наказал вероломных изменников, ты отомстил за Россию, ты покорил Варшаву – отныне ты светлейший князь Варшавский! Пусть потомство вспоминает, что с твоим именем неразлучна была честь и слава российского воинства, а имя твое да сохранит каждому память дня, вновь прославившего имя русское. Вот искреннее изречение благодарного сердца твоего государя, твоего друга, твоего старого подчиненного. Ах! зачем я не летел за тобой по-прежнему в рядах тех, кои мстили за честь России; больно носить мундир и в таковые дни быть прикованным к столу, подобно мне, несчастному.
Через полтора года в Петербурге состоялся торжественный церемониал приема польских депутатов, но уже не от Царства Польского, а от западных губерний. Этот церемониал должен был сделать польский мятеж как бы не бывшим.
Однако многие понимали иллюзорность происходящего. И Николай в том числе.
Император и Франция
1830 год стал роковым для императора Николая. Разом оказались перечеркнуты все его планы хотя и половинчатых, но все же – реформ. События в Польше и Европе убедили его, что главное – это железной рукой стараться поддерживать статус-кво. Что общественное сознание и в Европе, и в России весьма неустойчиво и любой толчок может вывести общую ситуацию из равновесия и опрокинуть существующий порядок вещей в бездну хаоса.
И в самом деле – казалось, что пришли в действие какие-то дремавшие до поры вулканические силы.
Польский мятеж был, конечно же, спровоцирован общим состоянием умов в Европе. Поляки рассчитывали на помощь революционной Франции.
26 июля король Франции Карл X Бурбон, взбешенный оппозицией Палаты депутатов и прессы, издал шесть антиконституционных ордонансов: «Свобода периодической печати отменяется», «Палата депутатов от департаментов распущена» и т. д.
На следующий день на улицы Парижа вышли рабочие, среди которых было много наполеоновских ветеранов, и студенты.
Большинство правительственных войск перешло на сторону восставших.
После трех дней уличных боев Бурбоны были низложены. Королем стал Луи Филипп, герцог Орлеанский.
Из записки Александра Христофоровича Бенкендорфа «Император Николай I в 1828–1831 годах»
Продолжая негодовать на революцию, низвергшую Карла X с престола его предков, видя при том, что во Франции власть перешла совершенно в руки демократии и что сам Людовик Филипп является лишь игралищем в руках Лафаетов, Лаффитов и их единомышленников, государь признал за благо прервать прежние ближайшие связи с Францией. Он запретить поднимать на французских судах в русских портах трехцветное знамя; велел нашим подданным немедленно выехать из Парижа и из Франции и постановил впускать французских подданных в Россию не иначе, как с строжайшим разбором, а за находящимися уже в России иметь самый бдительный надзор. Только велено было торговые сношения оставить на прежнем основании и еще не отзывать из Франции нашего посла и наших консулов.
Дела не могли, однако же, долго продолжаться на таком основании, и ясно было, что придется или совсем расторгнуть все связи с Франциею, или же признать нового ее монарха. К последнему сердце государя вовсе не лежало. Между тем Англия, Австрия и Пруссия, равно как и все прочие европейские кабинеты, поспешили признать Людовика Филиппа: он был королем французов на самом деле, и одно лишь поддержание его власти могло противопоставить законную преграду якобинским замыслам той партии, которая возвела его на престол и теперь громко требовала войны. Отделиться от своих союзников и от всей Европы через непризнание Людовика Филиппа значило оскорбить все кабинеты и возбудить против себя личную вражду нового короля. Кроме того, Карл Х и слабый его сын торжественно отреклись от своих прав на французскую корону и предоставили ее младенцу – герцогу Бордоскому. Поддерживать права последнего, при всей их законности, значило поддерживать какой-то призрак. Франция не хотела этого младенца, а сам он, по своим летам и по всем обстоятельствам, находился вне возможности чего-либо домогаться. Разрыв с Франциею должен был нанести вред нашей торговле, нарушить общий мир, расторгнуть наш союз с первостепенными державами и, не быв вынуждаем народною честью, противореча интересам империи, возбудить сильное неудовольствие, тем более что у нас все порицали злополучные декреты Карла Х, сделавшиеся причиною парижской революции, а малодушное поведение падшего короля лишало его того сочувствия, которое обыкновенно сопутствует несчастию.
Итак, после долгой внутренней борьбы и гласно заявленного отвращения к новому монарху Франции нашему государю не оставалось ничего иного, как покориться силе обстоятельств и принести личные чувства в жертву сохранения мира и, отчасти, общественному мнению. Император Николай впервые принудил себя действовать вопреки своему убеждению и не без глубокого сокрушения и досады признал Людовика Филиппа королем французов.
«Гласно заявленным отвращением к новому монарху Франции» Николай в первом порыве гнева не ограничился.
Предписание Николая I военному губернатору Кронштадта. 5 августа 1830 года
По случаю возникшего во Франции мятежа и перемены существовавшего правительства государь император высочайше повелеть соизволил ни под каким видом не допускать кораблей сей нации, плавающих под флагом трехцветным, а не белым, вход в Кронштадский порт, но если бы усиливались войти в оный, то останавливать их действием оружия. Его императорскому величеству равномерно благоугодно, чтобы всякий корабль французский, из остающихся ныне в Кронштадском порту, который бы переменил белый флаг на трехцветный, немедленно был выслан в море.
Утром того же дня Чернышев посетил французского посла барона Бургоэна.
Из воспоминаний барона Поля де Бургоэна
[Чернышев сказал: ] «Император, зная наши короткие отношения, полагает, что сообщение, которое он хочет сделать вам, было бы менее неприятно в устах друга, чем всяким другим путем. Вам, конечно, известно, как недоволен его величество случившимся во Франции. Его неколебимые правила не позволяют ему признать то, что было сделано. Поэтому решено прислать вам ваши паспорта и прервать все сношения с Францией».
Это был типичный для Николая Павловича жест. К этому времени – за четыре года царствования, – он уверовал в собственное превосходство над государями и правительствами Европы, в неразумность европейских народов и в свое право решительно вмешиваться в дела европейских держав.
Но, надо отдать должное молодому императору, он в это время обладал еще способностью не только опьяняться сознанием своей безусловной правоты и подавляющей мощи, но и вовремя трезветь.
Эту способность трезветь, не доводя дело до крайности, он продемонстрировал в беседе с французским послом, который после встречи с Чернышевым испросил у императора аудиенции и немедленно ее получил.
Из воспоминаний барона Поля де Бургоэна
Когда я вошел, император встретил меня на самом пороге и, став передо мною, произнес мрачным, но резко отчетливым голосом следующие слова:
– Ну что, имеете ли вы известия от вашего правительства, от господина наместника королевства? Вы уже знаете, что я не признаю никакого другого порядка вещей, кроме прежнего, и считаю его единственно законным, потому что он истекает из легитимной королевской власти.
На обращенные ко мне столь резкие слова я отвечал в том же духе.
– Признаюсь, государь, я крайне удивлен, что ваше величество смотрите так на вопрос, отныне бесповоротно решенный моим отечеством, которое всегда умело отстаивать то, что делало.
Мы подошли в это время к столу, стоявшему влево, в глубине комнаты. Император, идя возле меня, сказал возвышенным голосом:
– Да, таков образ моих мыслей: принцип легитимизма, вот что будет руководить мною во всех случаях.
Подойдя в это время к столу, император, сильно ударив по нему, воскликнул:
– Никогда, никогда не могу я признать того, что случилось во Франции.
Я оставался спокойным ввиду этого энергического проявления необдуманной воли, которую мне предстояло побороть.
– Государь, – возразил я, – нельзя говорить «никогда». В наше время слово это не может быть произносимо: самое упорное сопротивление уступает силе событий.
– Никогда, – продолжал император с тем же жаром, – никогда не уклонюсь я от моих принципов: с принципами нельзя вступать в сделку, я же не вступлю в сделку с моею честью.
– Знаю, – отвечал я, – что слово вашего величества свято и что если вы принимаете на себя обязательство, то оно становится для вас непреложным законом. Вот почему я и придаю столько цены тому, чтобы вы не связывали себя на будущее время поспешными заявлениями.
То, что я предвидел, случилось: император при самом начале нашего разговора хотел мне показать свое неудовольствие в полной силе. Но очевидно, что он призвал меня не для того единственно, а желал выслушать объяснения, даже настояния, потому что обстоятельства были равно важны и для него и для нас. В своих чувствах, симпатиях, принципах он был уверен, но серьезная действительность минуты ставила его в мучительную нерешимость, в большое недоумение. В продолжение нескольких дней его осаждали самыми противоположными советами: воинственные подстрекательства преобладали, но он не пренебрегал соображениями, которые могли быть ему представлены и в другом смысле. В таком настроении духа он сказал мне тоном, уже в значительной степени смягченным:
– Садитесь и поговорим спокойно, – в то же время он указал мне на стул, находящийся против своего по другую сторону стола, который он только что ударил своею мощною рукою.
– Ваше величество с самого начала говорили со мною так определенно, так решительно, что и я считаю себя вправе сделать то же.
– Говорите все, – возразил император, – выскажите все, что у вас на сердце, для того-то я и пригласил вас; мы здесь вовсе не для того, чтобы обмениваться любезностями.
– Итак, государь, позвольте мне представить вам вполне откровенно картину того, что случилось бы, если бы вы исполнили решение, о котором мне говорил граф Чернышев сегодня утром.
– Хорошо, я слушаю вас.
– Эта картина будет проста; ваше величество увидите, как последствия связываются между собою. Допустим, что мне предложили бы выехать из С.-Петербурга. Отъезжая, я отправил бы вперед курьера, который возвестил бы об удалении меня и об исключении нашего национального флага. Неужели вы полагаете, что мы останемся спокойными при таком известии? Это не в наших обычаях. В тот же самый день мы удалили бы вашего посланника, как вы удалили меня. Тогда что случилось бы? Ваше величество знаете, какое положение занимает в Париже генерал Поццо ди Борго (посол России во Франции. – Я. Г.). Столько же по своему искусству, сколько и по могуществу монарха, которого служит представителем, он – как бы опорная точка всему парижскому дипломатическому корпусу. Все его товарищи пользуются его советами… Но если весь дипломатический корпус рассеется, то как вы полагаете, какое действие произведет этот отъезд на моих соотечественников? Вы знаете, до какой степени мы порывисты в наших решениях и поступках. Ваша прежняя коалиция не может устрашить нас. Мы скажем себе, что она постарается вновь образоваться, и выведем немедленно заключение, что нужно предупредить ее. Мы будем иметь дело с организованною массою, но располагаем с нашей стороны дезорганизационной силой и нашей способностью быстрого расширения; мы вынуждены будем броситься на Европу прежде, нежели она будет готова. Вот, государь, какое будет последовательное сцепление фактов, если мне не удастся убедить вас посмотреть на события с настоящей точки зрения.
– Я еще в недоумении, как поступлю; но каким образом вы хотите, чтобы мы стали на сторону того, что совершилось в Париже?
– Тем лучше, государь, если вы еще не приняли решения ввиду столь важных событий, это доказывает вашу мудрость, потому что все мы в подобные минуты должны усугублять спокойствие и осторожность. Что случилось бы, если бы я сам не подавил в себе первого движения, когда сегодня утром ваш военный министр сделал мне от вашего имени решительное сообщение? В каком виде были бы теперь дела, если бы я принял это сообщение в буквальном смысле или только написал о нем в Париж? Полагаю, что я поступил согласно с моими обязанностями, желая переговорить прежде всего с вами, потому что вы один господин здесь.
– Вы хорошо сделали, что пожелали видеть меня. Полезно, чтобы мы имели настоящую беседу.
– В этом я также убежден наравне с вашим величеством. Но к чему послужила бы наша беседа, если бы мне не удалось изменить ваших намерений? Если я выйду из этого кабинета, не убедив вас, то последствием будет война более обширная и кровавая, чем войны республики и империи. Рассчитаем, сколько миллионов людей погубили эти войны, а та, которую вы, государь, вызвали бы, была бы еще губительнее, и вы отвечали бы за нее перед Богом.
Воззвание к искренно религиозному чувству императора Николая произвело свое действие. Устремив глаза к небу, он сказал:
– Да предаст Господь эту ответственность в руки достойнее моих.
– Отклонить ответственности вы не можете, государь: она – естественное последствие того высокого положения, которое вы занимаете на земле. Я счел, однако, своим долгом напомнить вам всю важность того, что мы говорим и обсуждаем в настоящую минуту.
– Повторяю, – отвечал император, – я еще не знаю, на что мы решимся. Но я, конечно, сообщу свой взгляд моим коллегам. Я передам им без утайки мое мнение о случившемся и о том, что следует сделать. Граф Орлов в скором времени скажет это в Вене. Вчера я писал Вильгельму (принцу Оранскому): мы не объявим вам войны, будьте в том уверены. Но если мы когда-либо признаем то, что совершилось у вас, то лишь после взаимного согласия.
– Что же выйдет, государь, из подобного конгресса?
– Речь идет не о конгрессе. Мы располагаем другими средствами для соглашения.
– Покамест вы условитесь, государь, долг каждого из вас воздерживаться в отдельности от всякого раздражительного слова, от всякой декларации или демонстрации, которая могла бы встревожить или оскорбить нас.
– Я должен был быть весьма недоволен тем, что случилось, и я никогда не стану скрывать своего мнения, – возразил император.
– Ваше величество, припомните, что в нашем разговоре в Аничковом дворце, когда мы еще ничего не знали, мы коснулись множества предположений. Не пришли ли мы к заключению, что посреди столь страшного переворота все было возможно? Роковая случайность революций управляла обезумевшим населением. Я отвечал вам, что, к сожалению, никто не мог ничего знать и ничего предрекать. Я видел мое отечество на краю пропасти и подобно большинству благоразумных людей страны, испытавшей столько революций, призывал всеми пожеланиями моими руку, которая могла бы ее спасти. Чувства мои не изменились: по-прежнему я с болезненным сожалением вспоминаю о мерах, погубивших короля Карла X, и с прежнею признательностью о храброй королевской гвардии, тщетно защищавшей его.
Император продолжал:
– Повторяю вам, любезный друг, я обещаю вам не предпринимать торопливого решения. Что же касается до моего мнения, то я всегда выскажу его прямо: мы не объявим вам войны, примите в этом уверение, но мы условимся сообща, какого образа действий нам следует держаться в отношении Франции.
– Я готов верить, что вы не объявите нам войны: со стороны держав это было бы действием столько же безумным, сколько и опасным. Но разве вы полагаете, что мы удовольствуемся холодными и оскорбительными отношениями? Мы – уже не истощенная Франция 1814 года, а вы – уже не соединенная Европа 1815 года. Вы говорите, что не желаете войны, – это не подлежит сомнению, но между правительствами, как и между частными людьми, дело постепенно доходит со ссоры, а потом и до столкновения. Недоброжелательные поступки влекут за собою резкие объяснения, затем являются оскорбления и угрозы, и оба противника скоро становятся лицом к лицу со шпагою в руке. […]
Мне не представилось надобности распространяться более о громадной силе, во имя которой я говорил: император был так убежден в этом, что с величайшим спокойствием выслушал все сказанное мною, имевшее угрожающий оттенок. Император постепенно успокоился; он стал обсуждать важнейшие статьи новой конституции, заменившей собою хартию 1814 года. Он критиковал, со своей точки зрения, главнейшие статьи, и наш разговор, в начале столь оживленный, принял тон теоретического рассуждения. Он закончил обзор введенных новых конституционных комбинаций, долженствовавших иметь силу с некоторыми изменениями в продолжение восемнадцати лет, словами, не менее всех выше приведенных достойными быть сохраненными.
– Если бы, – сказал император, – во время кровавых смут в Париже народ разграбил дом русского посольства и обнародовал мои депеши, то были бы поражены, узнав, что я высказывался против государственного переворота; удивились бы, что русский самодержец поручает своему представителю внушить конституционному королю соблюдение учрежденных конституций, утвержденных присягою.
Таково в общем мнение императора Николая относительно нашей Июльской революции. Он советовал не производить государственного переворота, рассматривая его скорее как крайне опасный неблагоразумный шаг, чем заслуживающий порицания проступок; прежде всего он интересовался королем Карлом X и Франциею.
Император встал наконец, чтобы отпустить меня. Все следы неудовольствия исчезли. Видя его в таком расположении духа, я сказал:
– До всех этих печальных событий, государь, вы соблаговолили пригласить меня сопутствовать вашему величеству в поездке на берега Волхова для осмотра военных поселений и для инспектирования Гренадерского корпуса. Осмеливаюсь надеяться, что это приглашение не отменено.
При столь неожиданном напоминании император взглянул на меня улыбнувшись. Затем, после минутного раздумья, отвечал:
– Хорошо, я согласен. У меня только одно слово: вы поедете со мною, но это удивит весьма многих.
Император обнял меня. Дело было улажено, и я возвратился в Петербург. Корабли под трехцветным флагом были допущены в Кронштадт.
Николая остановило в данном случае не столько благоразумие и дипломатическая целесообразность, сколько реальная возможность поссориться с главными европейскими державами и в случае военного столкновения с оскорбленной Францией остаться в одиночестве.
Великий князь Константин Павлович, не будучи разумным и дальновидным политиком, тем не менее встревожился и решительно предостерегал брата-императора.
Из письма великого князя Константина Павловича Николаю I
Я сильно сомневаюсь, чтобы в случае, если бы произошел вторичный европейский крестовый поход против Франции, подобно случившемуся в 1813, 1814 и 1815 годах, мы встретили то же рвение, то же одушевление к правому делу. С тех пор сколько осталось обещаний, неисполненных или же обойденных, и сколько попранных интересов. Тогда, чтобы сокрушить тиранию Бонапарта, тяготевшую над континентом, повсюду пользовались содействием народных масс и не предвидели, что рано или поздно то же оружие могут повернуть против нас самих.
Константин бывал иногда прозорливее, чем можно было предположить по общему стилю его поведения.
В данном случае он констатировал крушение принципов Священного Союза, основатели которого – императоры России и Австрии и король Пруссии – обязались свято чтить принцип легитимизма и защищать его, если нужно, вооруженной рукой.
Николай еще верил в эти принципы. Константин – нет.
Но единственное, в чем преуспел русский император в 1830 году, – он навсегда испортил личные отношения с королем Франции Луи Филипом, написав ему письмо, с одной стороны признающее его права на французскую корону, с другой – оскорбительное по форме.
Николай так и не смирился с воцарением Луи Филиппа. Преданность идее легитимизма подавляла в нем здравый смысл. Он не принимал законность правления ставленника революции 1830 года, равно как и парламентское правление после революции 1848 года, выдвинувшей в президенты племянника Наполеона. Двадцать лет он носил в себе ненависть к Франции, оскорбившей его представления о мироустройстве.
Из воспоминаний графа Павла Дмитриевича Киселева
При известии о государственном перевороте 2 декабря [1851] государь зашел на несколько минут перед обедом к государыне с пакетом в руке и воскликнул: «Браво, Людовик Наполеон!» – и рассказал о событиях в Париже по сообщению, полученному из Берлина.
– Он понял свое время и действовал в соответствии с ним. Браво! Я протянул бы ему обе руки, чтобы вытянуть Европу – и все общество в целом – из той ямы, где она оказалась вследствие коварства. (Это слово заменяло у него слово «царствование», коего государь старался избегать, говоря о Людовике Филиппе).
2 декабря 1851 года Людовик Наполеон, племянник Наполеона Бонапарта и президент Франции, произвел военный переворот и стал диктатором. Через год он провозгласил себя императором Наполеоном III.
Николай Павлович, казалось бы, не должен был питать особых симпатий к племяннику Наполеона, ставшему президентом в результате революции. Но неприятие парламентского правления, которое существовало во Франции с 1848 по 1851 год, было у него столь остро, что захват власти военными и разгон парламента вызвали у него восторг.
Он не мог, естественно, предвидеть, что пройдет всего два года и Наполеон III станет инициатором злосчастной для России Крымской войны, похоронившей систему, которую с такой искренней убежденностью он, русский император, выстраивал.
Император и холера
Бедствия 1830 года – польский мятеж; революция во Франции; отпадение Бельгии от Голландии, где правил Вильгельм I, женатый на сестре Николая, великой княжне Анне Павловне; появление холеры в России – продолжились и на следующий год. И если над польскими патриотами русская армия постепенно брала верх, то холера крепчала и едва не привела к катастрофическим последствиям в сфере отнюдь не медицинской.
Из дневника Александра Васильевича Никитенко. 19 июня 1831 года
Наконец холера со всеми своими ужасами явилась и в Петербурге. Повсюду берутся строгие меры предосторожности. Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности… В городе недовольны распоряжениями правительства… Лазареты устроены так, что они составляют переходное место из дома в могилу… Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, едва только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. Нет никого, кто одушевил бы народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и по обыкновению верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отравляют больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей и т. п. Кричат против немцев лекарей и поляков, грозят их перебить.
В конце концов человек, который смог если не подавить страх, то во всяком случае предотвратить катастрофическое развитие событий, нашелся…
Из записки Александра Христофоровича Бенкендорфа «Император Николай I в 1828–1831 годах»
…Холера в Петербурге, возрастая до ужасающих размеров, напугала все классы населения, и в особенности простонародье, которое все меры для охранения его здоровья, усиленный полицейский надзор, оцепление города и даже уход за пораженными холерою в больницах начало считать преднамеренным отравлением. Стали собираться в скопища, останавливать на улицах иностранцев, обыскивать их для открытия носимого при себе мнимого яда, гласно обвинять врачей в отравлении народа. Напоследок, возбудив сама себя этими толками и подозрениями, чернь столпилась на Сенной площади и, посреди многих других бесчинств, бросилась с яростью рассвирепевшего зверя на дом, в котором была устроена временная больница. Все этажи в одну минуту наполнились этими бешеными, которые разбили окна, выбросили мебель на улицу, изранили и выкинули больных, приколотили до полусмерти больничную прислугу и самым бесчеловечным образом умертвили нескольких врачей. Полицейские чины, со всех сторон теснимые, попрятались или ходили между толпами переодетыми, не смея употребить своей власти. Наконец военный генерал-губернатор граф Эссен, показавшийся среди сборища, равномерно не успел восстановить порядка и также должен был укрыться от исступленной толпы. В недоумении, что предпринять, городское начальство собралось у графа Эссена, куда прибыл и командовавший в Петербурге гвардейскими войсками граф Васильчиков. После предварительного совещания последний привел на Сенную батальон Семеновского полка, с барабанным боем. Это хотя и заставило народ разойтись с площади в боковые улицы, но нисколько его не усмирило и не заставило образумиться. На ночь волнение несколько стихло, но все еще город был далек от обыкновенного порядка.
Государь, по донесению о всем происшедшем в Петербурге, велев, чтобы к утру все наличные войска были готовы вступить под ружье, а военные власти собрались бы у Елагинского моста, прибыл сам из Петергофа на пароходе «Ижора» в сопровождении князя Меншикова. Быв поражен видом унылых лиц всех начальников, он, по выслушании подробных их рассказов, приказал прежде всего приготовить себе верховую лошадь, которая не пугалась бы выстрелов, и потом, взяв с собою Меншикова, поехал в коляске на Сенную, где лежали еще тела падших накануне и которая была покрыта сплошною массою народа, продолжавшего волноваться и шуметь. Государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал: «На колени!» Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал: «Я пришел просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь Ему о прощении; вы Его жестоко оскорбили. Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; вы забыли ваш долг покорности мне; я сумею привести вас к порядку и наказать виновных. За ваше поведение в ответе перед Богом – я. Отворить церковь: молитесь в ней за упокой душ невинно убитых вами». Эти мощные слова, произнесенные так громко и внятно, что их можно было расслышать с одного конца площади до другого, произвели волшебное действие. Вся эта сплошная масса, за миг перед тем столь буйная, вдруг умолкла, опустила глаза перед грозным повелителем и в слезах стала креститься. Государь, также перекрестившись, прибавил: «Приказываю вам сейчас разойтись, идти по домам и слушаться всего, что я велел делать для собственного вашего блага». Толпа благоговейно поклонилась своему царю и поспешила повиноваться его воле.
Порядок был восстановлен, и все благословляли твердость и мужественную радетельность государя. В тот же день он объехал все части города и все войска, которые, из предосторожности от холеры, были выведены из казарм и стояли в палатках по разным площадям. Везде он останавливался и обращал по несколько слов начальникам и солдатам: везде его принимали с радостными кликами, и появление его водворяло повсюду тишину и спокойствие. В тот же день он назначил своих генерал-адъютантов князя Трубецкого и графа Орлова в помощь графу Эссену, распределил между ними многолюднейшие части города и велел составить особую комиссию под моим председательством для следствия и суда над зачинщиками народного буйства и главными в нем участниками.
Из письма Александра Сергеевича Пушкина Петру Андреевичу Вяземскому. 3 августа 1931 года
…Ты верно слышал о возмущениях новгородских и Старой Руси. Ужасы. Более ста человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете. […] Бунт Старо-Русский еще не прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. Там четвертили одного генерала, зарывали живых и проч. Действовали мужики, которым полки выдали своих начальников.
Пушкин, живший в это время в Царском Селе, пользовался доходившими из Петербурга слухами. Но основная картина «холерного бунта» в военных поселениях соответствует действительности. Доведенные до крайности поселенцы мстили за многолетние унижения и издевательства. Недаром в программе декабристов уничтожение военных поселений было одним из основных пунктов. Они понимали, что новая пугачевщина может начаться именно оттуда.
Из письма Александра Сергеевича Пушкина Петру Андреевичу Вяземскому. 3 августа 1931 года
Государь приехал к ним (взбунтовавшимся поселянам. – Я. Г.) вслед за Орловым (генерал Алексей Федорович Орлов. – Я. Г.). Он действовал смело, даже дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились.
Картина усмирения императором взбунтовавшихся военных поселян, надо сказать, не совсем соответствовала действительности.
Все было куда драматичнее, что явствует из бесхитростного рассказа человека, оказавшегося рядом с Николаем в критический момент. Это был инженерный подполковник Панаев, которому удалось до известной степени взять под контроль кровавую стихию бунта.
Из воспоминаний инженер-подполковника Николая Ивановича Панаева
Покуда служили панихиду, приехал фельдъегерь из города с приказанием от графа Орлова, что государь император в 2 часа будет в округе, и для того, чтоб я собрал поселян в экзерциргаузе. Так как было уже около полудня и поселяне были все собраны, то я приказал им следовать в штаб прямо и выстроиться в манеже. Тут поселяне пришли мне сказать, что у них нет хлеба и соли чем встретить государя, а как испечь теперь уже некогда, то не взять ли круглых кренделей да сотового меду? Я утвердил их предположение и приказал выбрать от себя депутатов, кои встретили бы государя императора со мною у коляски и, стоя на коленях, просили бы прощения. Для чего они нарядили 6 человек. Стоявшим в манеже поселянам во фронте я приказал: как только увидим государя, снявши шапки, стать всем на колени. Младшему священнику отцу Гавриилу растворить двери в церкви в полном облачении со крестом и святой водой; царские двери в алтарь растворить и вынести на налое в экзерциргауз евангелие и знамя военных поселян.
Я полагал, что государь император прикажет их привести к присяге, для того приказал на налое положить и форму оной.
Около 2 часов государь император с графом Орловым прибыл в штаб Императора Австрийского полка; я встретил его величество у решетки между церковью и госпиталем, подал рапорт о состоянии округа. Государь принял от меня рапорт о состоянии округа и, увидев, что 8 человек показаны в командировке (до исключения так показывались убитые), сказал мне: «Это в дальней!» – потом вышел из коляски, поцеловал меня и изволил сказать: «Спасибо, старый сослуживец, что ты здесь не потерял разума, я этого никогда не забуду!» Потом, увидев стоящих на коленях поселян с хлебом и солью, сказал им: «Не беру вашего хлеба, идите и молитесь Богу!» Вошед в экзерциргауз и взглянув на стоящих поселян, коим майор Баллаш скомандовал: «Шапки долой!», прошел в церковь; я следовал за ним. Священник встретил с крестом и с кропилом. Государь приложился ко кресту и был окроплен святою водою и изволил следовать в алтарь, где и начал говорить со священником насчет нравственного положения поселян; священник замялся, и государь обратился ко мне; войдя в алтарь, я доложил, что, по мнению моему, искреннего раскаяния в них нет, но действует суеверие и страх, что еще сегодня преосвященный был здесь и служил панихиду об убиенных, но они проводили его с ропотом. Государь, выходя из церкви, сказал священнику: «Служите».
Не будучи приготовлен к сему приказанию и не имея при себе церковнослужителя или певчих, священник начал прямо: «Господу помолимся» – и сам запел: «Господи, помилуй! О благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем Николае Павловиче Господу помолимся!» В это время певчий из военных поселян, стоявший во фронте на коленях, вдруг вскочил с коленей, побежал к священнику и на бегу начал петь: «Господи, помилуй!»
После окончания всей эктиньи государь приказал мне командовать: «Накройся, вставай, справа и слева кругом заходи!» Потом приказал еще вздвоить ряды и начал им говорить: «Как смели вы восстать против меня?!» И когда поселяне отвечали, что они против него не восставали, то государь сказал им: «Вы убили своих начальников, Богом и мною над вами поставленных, это все равно, что вы подняли руку свою на меня!» Потом говорил он, что это болезнь, посланная Господом за наши грехи, что и сам он потерял брата (Константина. – Я. Г.) от этой болезни, а потому надо с кротостию переносить волю Господню, и, увидев одного унтер-офицера с Аннинским крестом и двумя медалями, подозвал к себе, как равно и всех кавалеров, тут бывших, обращаясь к ним, сказал: «Вас ли я вижу? И вы живы все?» Аннинский кавалер, которого государь первого подозвал, отвечал: «Слава Богу, ваше величество, Бог помиловал!» Но государь сказал ему и прочим кавалерам: «Молчи и не срами Бога! вы, кавалеры, должны были все лечь тут и не допустить истреблять ваших начальников!» Потом, обратясь ко мне, изволил сказать так, чтоб все слышали: «А ты с ними не шути и при первом ослушании выведи и тут же расстреляй на месте!» Потом начал говорить, чтоб выдали виновных, но поселяне молчали.
Я в то время, стоя в рядах поселян, услышал, что сзади меня какой-то поселянин говорил своим товарищам: «А что, братцы? полно, это государь ли? Не из них ли переряженец?»
Услышав эти слова, я обмер от страха, и, кажется, государь прочел на лице моем смущение, ибо после того не настаивал о выдаче виновных и спросил их: «Раскаиваетесь ли вы?» – и когда они начали кричать: «Раскаиваемся!» – то государь отломил кусок кренделя и изволил скушать, сказав: «Ну вот я ем ваш хлеб и соль, конечно, я могу вас простить, но как Бог вас простит?!»
Потом приказал мне командовать: «Налево кругом» – и выстроить фронт; и когда они обращены были лицом к государю, то он благодарил меня и гг. офицеров, бывших во фронте; но так как не все офицеры того стоили, то я остановил государя и сказал ему, что не все стоят его благодарности и о достойных подал ему список, который у меня припасен был; причем доложил ему, что я, именем его, одного унтер-офицера произвел в прапорщики. Государь спросил «За что? и когда?» – я доложил, что за предложение пробиться с 30 человеками на штыках со знаменем и денежным ящиком в город. Его величество, подозвав к себе Перекопаева, поцеловал его и утвердил.
После, вышед из экзерциргауза, поехал на гауптвахту, где поздоровался с поселянами, стоявшими на часах с косами вместо ружей, ибо резервный баталион я сменил, по приказанию графа Орлова, чтоб приготовить к выступлению в Новгород. Там на гауптвахте я представил арестантов, кои не послушались выпускавших их военных поселян. Государь благодарил их, и после они оставлены были без наказания.
От гауптвахты государь поехал в Новгород; приехав туда, был в церкви Св. Николая Качанова.
По отбытии государя из округа я отслужил с поселянами благодарственный молебен и распустил их по домам, а сам поехал в Новгород, где еще раз видел государя.
На другой день государь делал смотр всем резервным баталионам в Новгороде и приказал отправить их в Гатчину. В ночи на 27-е число государь отправился обратно в Петербург, получив уведомление, что государыня почувствовала приближение родов.
Если внимательно вчитаться в рассказ Панаева, то станет ясно, что уверенный в своем гипнотическом воздействии на возбужденную толпу Николай едва не просчитался, и просчет этот мог стоить ему жизни.
То, что, прочитав на лице Панаева «смущение», граничившее с ужасом, Николай тут же отказался от требования выдачи зачинщиков и согласился вкусить хлеб, от которого только что грозно отказался, свидетельствует, что он понял страшную опасность момента…
Историки уже отмечали странную судьбу подполковника Панаева, которому удалось притушить бунт еще до прибытия императора с войсками. Казалось бы, он мог рассчитывать на незаурядную карьеру. Ничего подобного. В тот момент он был произведен в полковники, а затем на всю жизнь застрял в генерал-майорах.
Объясняется это, конечно же, тем, что он оказался свидетелем мучительной для Николая сцены, когда ему пришлось пойти на попятный, фактически стушеваться перед бунтовщиками и ретироваться, не добившись исполнения своего требования. И Николай не простил Панаеву зрелища собственного унижения.
Фраза, обращенная к поселянам: «Конечно, я могу вас простить, но как Бог вас простит?», была вынужденной. Никого прощать Николай не собирался. Ему нужно было снять остроту момента. Он испугался…
Из воспоминаний современника
Когда привели на плац первую партию, то их невозможно было узнать, до того они были исхудалы, печальны и обросли, что не походили на людей… Для большей безопасности кругом плац-парада гарцевали два эскадрона драгун. Вскоре приехал генерал Данилов, назначенный для наблюдения за порядком во время экзекуции. Поздоровавшись с полубаталионом Астраханского полка, он начал говорить солдатам, что когда придет время наказывать бунтовщиков-поселян, то не щадить их – ибо кто окажет им малейшую снисходительность, того он сочтет за пособника и ослушника воли начальства, а следовательно, за такого же бунтовщика, как и поселяне… «Стегать их, шельмецов, без милосердия, по чему ни попало, – прибавил он. Затем, обратившись к поселенному баталиону, собранному для присутствия на экзекуции, сказал: – Ну что, разбойники? Что наделали? Вот теперь любуйтесь, как будут потчевать вашу братию…» Страшная была картина: стон и плач несчастных, топот конницы, лязг кандалов и барабанный, душу раздирающий бой – все это перемешалось и носилось в воздухе. Наказание было настолько невыносимым, что вряд ли из 60 человек осталось 10 в живых. Многих лишившихся чувств волокли и все-таки нещадно били. Были случаи, что у двоих или троих выпали внутренности… Морозова, который писал прошение от имени поселян, били нещадно. Несмотря на его коренастую фигуру и высокий рост, он не вытерпел наказания, потому что его наказывали так: бьют до тех пор, пока не обломают палок, потом поведут опять и снова остановят, пока не обломают палок. Ему пробили бок, и он тут же в строю скончался.
Из воспоминаний художника-гравера Лаврентия Авксентьевича Серякова
Виновных в нашем округе оказалось около 300 человек. Квартиры убитых штаб-офицеров, обер-офицеров, докторов и других лиц обращены были в арестантские тюрьмы, в окна вставили железные решетки. В эти временные тюрьмы, в деревянных тяжелых колодках, были рассажены арестованные. Охраняли их казаки и солдаты резервов, потом прислан был еще батальон солдат, кажется, из Петербурга.
Обвиняемые, сколько помню про наш округ, просидели в тюрьмах до Великого поста 1832 года, в томительном ожидании окончательного решения своей участи. Наконец участь эта была решена: одних приговорили к наказанию кнутом на так называемой кобыле, а других – к прогнанию шпицрутенами.
Я живо помню эти орудия казни. Кобыла – это доска длиннее человеческого роста, дюйма в 3 толщины и в пол-аршина[14] ширины, на одном конце доски – вырезка для шеи, а по бокам – вырезки для рук, так что когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее руками, и уже на другой стороне руки скручивались ремнем, шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю наискось, под углом.
Кнут состоял из довольно толстой и твердой рукоятки, к которой прикреплялся плетеный кнут длиной аршина полтора, а на кончик кнута навязывался 6– или 8-вершковый, в карандаш толщиной, четырехгранный сыромятный ремень.
Что же касается до шпицрутенов, то я вполне ясно помню, что два экземпляра их, для образца, были присланы (как я позже слышал) Клейнмихелем в канцелярию округа из Петербурга. Эти образцовые шпицрутены были присланы, как потом мне рассказывали, при бумаге, за красной печатью, причем предписывалось изготовить по ним столько тысяч, сколько потребуется. Шпицрутен – это палка в диаметре несколько менее вершка, в длину – сажень[15]; это гибкий, гладкий прут из лозы. Таких прутьев для предстоящей казни бунтовщиков нарублено было бесчисленное множество, многие десятки возов.
Наступило время казни. Сколько помню, это было на первой или на второй неделе Великого поста. Подстрекаемый детским любопытством (мне шел 9-й год), я бегал на плац, лежащий между штабом и церковью, каждый день во все время казней. Морозы стояли в те дни самые лютые.
На плацу, как теперь вижу, была врыта кобыла, близ нее прохаживались два палача, парни лет 25, отлично сложенные, мускулистые, широкоплечие, в красных рубахах, плисовых шароварах и в сапогах с напуском. Кругом плаца расставлены были казаки и резервный батальон, а за ними толпились родственники осужденных.
Около 9 часов утра прибыли на место казни осужденные к кнуту, которых, помнится, в первый день казни было 25 человек. Одни из них приговорены были к 101 удару кнутом, другие – к 70 или к 50, а третьи – к 25 ударам кнута. Приговоренных клали на кобылу по очереди, так что в то время, как одного наказывали, все остальные стояли тут же и ждали своей очереди. Первого положили из тех, которым было назначено 101 удар. Палач отошел шагов на 15 от кобылы, потом медленным шагом стал приближаться к наказываемому, кнут тащился между ног палача по снегу; когда палач подходил на близкое расстояние от кобылы, то высоко взмахивал правою рукой кнут, раздавался в воздухе свист и затем удар. Палач опять отходил на прежнюю дистанцию, опять начинал медленно приближаться и т. д.
Наивно-детскими, любопытными глазами следил я за взмахами кнута и смотрел на спину казнимых: первые удары делались крест-накрест, с правого плеча по ребрам, под левый бок, и слева направо, а потом начинали бить вдоль и поперек спины. Мне казалось, что палач с первого же раза весьма глубоко прорубал кожу, потому что после каждого удара он левой рукой смахивал с кнута полную горсть крови. При первых ударах обыкновенно слышен был у казнимых глухой стон, который умолкал скоро, затем уже их рубили, как мясо. Во время самого дела, отсчитавши, например, ударов 20 или 30, палач подходил к стоявшему тут же на снегу полуштофу, наливал стакан водки, выпивал и опять принимался за работу. Все это делалось очень, очень медленно.
При казни присутствовали священник и доктор. Когда наказываемый не издавал ни стона, никакого звука, не замечалось даже признаков жизни, тогда ему развязывали руки и доктор давал нюхать спирт. Когда при этом находили, что человек еще жив, его опять привязывали к кобыле и продолжали наказывать.
Под кнутом, сколько помню, ни один не умер (помирали на второй или третий день после казни); между тем каждый получал определенное приговором суда число ударов.
Но ударами кнута казнь не оканчивалась. После кнута наказанного снимали с кобылы и сажали на барабан; на спину, которая походила на высоко вздутое рубленое мясо, накидывали какой-то тулуп. Палач брал коробочку, вынимал из нее рукоятку, на которой сделаны были буквы из стальных шпилек в дюйма длины; шпильки эти изображали, помнится, букву «К» и еще какие-то буквы. Палач, держа рукоятку в левой руке, приставлял штемпель ко лбу несчастного, затем правой рукой со всего размаху ударял по другому концу рукоятки, шпильки вонзались в лоб, и таким образом получалось требуемое клеймо, таким же приемом быстро высекались буквы на обеих щеках. После отнятия клейма из ранок сочилась кровь, палач затирал кровавые буквы каким-то порошком, чуть ли не порохом, так что в каждой прорези оставался черный след. Таким образом, получался знак, который впоследствии, как я слышал, делается совершенно белым и не может уничтожиться очень долго, остается на всю жизнь.
Казнь кнутом продолжалась до сумерек, и во все это время били барабаны.
Наказание шпицрутенами происходило на другом плацу, за оврагом. На эту казнь я бегал по нескольку раз в течение двух недель; холодно, устану – сбегаю домой, отогреюсь и опять прибегу. Музыка, видите ли, играла там целый день – барабан да флейта, – это и привлекало толпу ребятишек.
На этом плацу, за оврагом, два батальона солдат, всего тысячи в полторы, построены были в два параллельных друг другу круга, шеренгами лицом к лицу. Каждый из солдат держал в левой руке ружье у ноги, а в правой – шпицрутен. Начальство находилось посередине и по списку выкликало, кому когда выходить и сколько пройти кругов, или, что то же, получить ударов. Вызывали человек по 15 осужденных, сначала тех, которым следовало каждому по 2000 ударов. Тотчас спускали у них рубашки до пояса, голову оставляли открытой. Затем каждого ставили один за другим, гуськом, таким образом: руки преступника привязывали к примкнутому штыку так, что штык приходился против живота, причем, очевидно, вперед бежаь было невозможно, нельзя также и остановиться или попятиться назад, потому что спереди тянут за приклад два унтер-офицера. Когда осужденных устанавливали, то под звуки барабана и флейты они начинали двигаться друг за другом. Каждый солдат делал из шеренги правой ногой шаг вперед, наносил удар и опять становился на свое место. Наказываемый получал удары с обеих сторон, поэтому каждый раз голова его, судорожно откидываясь, поворачивалась в ту сторону, с которой следовал удар. Во время шествия кругом, по зеленой улице, слышны были только крики несчастных: «Братцы! Помилосердствуйте, братцы, помилосердствуйте!»
Если кто при обходе кругом падал и даже не мог идти, то подъезжали сани, розвальни, которые везли солдаты, клали на них обессиленного, помертвевшего и везли вдоль шеренги; удары продолжали раздаваться до тех пор, пока несчастный ни охнуть, ни дохнуть не мог.
В таком случае подходил доктор и давал нюхать спирту. Мертвых выволакивали вон, за фронт.
Начальство зорко наблюдало за солдатами, чтобы из них кто-нибудь не сжалился и не ударил бы легче, чем следовало.