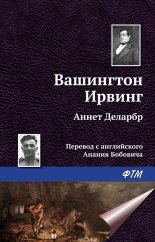Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

В оформлении переплета использована иллюстрация художника И. Варавина
© Костевич В., 2015
© ООО «Издательство «Яуза», 2015
© ООО «Издательство «Эксмо», 2015
* * *
Родина
Старший стрелок Курт Цольнер. Род. 1920
5 апреля 1942 года, пасхальное воскресенье
Увы, на факультете было пусто. Антикварный, еще мирных времен вахтер, оторвавшись от «Народного обозревателя», сообщил, что днем раньше я бы непременно встретил тут девушек – из добровольной помощи ПВО. Но по случаю праздника всех распустили, рассудив, что сегодня британцы не прилетят.
– Обидно, – сказал я в ответ, имея в виду не британцев. Улыбнулся и вышел на воздух. Выйдя, печально вздохнул. Легко говорить – днем раньше. Поезда, перевозившие отпускников через Украину, застревали у каждого столба, пропуская эшелоны, спешившие на восток. А бывало, и составы, шедшие на запад – в первую очередь санитарные поезда. Шансов приехать раньше у старшего стрелка Курта Цольнера не было.
Домой я вернулся в сумерках. Сбросив шинель, прямо в одежде завалился на кровать и часа полтора пролежал, уставившись глазами в потолок. Тикали настенные часы в гостиной – мне не приходило прежде в голову, насколько приятным бывает их звук. Кто-то, похоже ребенок, неумело играл на плохо настроенном пианино – и звук фортепьяно мне тоже казался приятным. Я поймал себя на мысли, что готов так валяться днями. Засыпать, просыпаться и вновь засыпать. Под стук часов и неумелую игру на старом-престаром, безнадежно испорченном инструменте.
Тем не менее встать пришлось. Часы пробили восемь, и настала пора переодеться, поменять кожу, вылезти из шкуры цвета «серый полевой» и вновь обратиться в нормального человека – то, на что не хватило духу, когда я по приезде отправился в город, а почему не хватило, не знаю. Хотя ничего удивительного: в моем возрасте и без заметных глазу увечий неловко ходить по улицам без униформы.
Из потрескавшегося шкафа, купленного дедом Мартином еще до боксерского восстания в Китае, были извлечены почти неношеный костюм английской шерсти, отутюженная матерью сорочка, новый галстук. Встав перед зеркалом в этом странном, на мой нынешний взгляд, одеянии и сделав мысленное усилие, я рассудил, что выгляжу не так уж плохо. Манжеты сорочки были чуть длинноваты, но рукава моего кителя были нисколько не короче, так что к этому я привык.
Из расположенного под нашей квартирой жилища госпожи Нагель, где сейчас, будто бы к Пасхе, а по существу – в честь моего приезда, готовилось небольшое торжество и где несколько часов уже хлопотала на кухне мать, тянуло ароматным и вкусным. Зная, что за мной всё равно придут, я сел за письменный стол и попробовал занять себя книгами. Не удалось. Их названия были не менее странными, чем новая моя одежда. Не то чтобы это было само по себе ненужно и неинтересно – необычайным казалось то, что человеком, которому еще недавно это было интересно и нужно, был я, старший стрелок третьей роты такого-то пехотного полка такой-то пехотной дивизии германских вооруженных сил. Которому не раз мечталось – он сядет за этот вот стол, обложится словарями и начнет в тишине и покое рассматривать картины, медленно вникая в текст на итальянском и хорвато-сербском. Но оказалось, что, кроме тишины и покоя, ему ничего не требуется. «Так Homo sapiens превращается в Amoeba proteus», – сказал я себе, но и это меня не расстроило. Стало быть, превратился.
Я погасил лампу, откинул занавеску и попытался смотреть в окно. Однако улица не освещалась, окна были затемнены, и разглядеть там что-либо не представлялось возможным. Проехал автомобиль, проскочил велосипедист, кто-то кого-то негромко окликнул – и снова воцарилась тишина. Она была бы абсолютной, если бы не тиканье часов. Я заснул.
* * *
Меня разбудила Юльхен. Четыре месяца назад ей исполнилось пятнадцать, но выглядела она на два, если не на три года старше, пребывая в том счастливом возрасте, когда данное обстоятельство не расстраивает девушек, но наполняет их гордостью – в матерей же вселяет тревогу. Моя уже успела поделиться своими опасениями. «Понимаешь, Курт, столько солдат вокруг, столько отпускников», – сказала она за обедом и отвела глаза в сторону. Она всегда отличалась своеобразным чувством такта, предпочитая сначала высказаться, а уж потом изобразить некоторую, но отнюдь не чрезмерную неловкость.
С Юльхен мы не виделись года полтора, если не считать сегодняшнего утра, когда я постучался в дверь и они с матерью, выбежав навстречу, стали стаскивать с меня шинель и прочие предметы армейского обихода. Пока я переодевался, сестра унеслась «по своим делам», что и дало повод к обеспокоенному высказыванию матери. Теперь – словно я вернулся не из России, а из соседнего Роттенбурга – Юльхен сказала «Привет!», прошлась глазами по моей фигуре и одобрительно заявила:
– Сойдет. Идем, нас ждут. Кстати, есть телеграмма от папочки. Всех поздравляет и обещает приехать на днях, если, конечно, отпустят.
Отца командировали на артиллерийские заводы где-то в районе Дюссельдорфа, и шансов на то, что его отпустят, было совсем немного. Командировка тянулась уже с полгода, он почти не писал, а в последнем письме сообщил, что работы невпроворот, особенно после того, как множество призванных в армию квалифицированных рабочих пришлось заменить иностранной рабочей силой, трудовые навыки которой оставляют желать лучшего.
Снова открылась входная дверь, и из прихожей выпорхнула нарядно одетая мать в туфлях на высоком каблуке. За полтора последних года она буквально помолодела, сделалась тоньше и легче. Наложенные войной ограничения явно пошли на пользу.
– Вы готовы? – спросила она, пройдясь по мне не менее критическим взором, чем Юльхен. Я кивнул, и мы спустились в жилище госпожи Нагель.
* * *
В гостиной нас дожидалось небольшое и хорошо известное нам общество.
Во главе стола монументально возвышалась фигура нашей домовладелицы. Она приходилась моей матери троюродной теткой, но, в отличие от нас, католиков, принадлежала к евангелической церкви – как почти все в этом городе, куда мы перебрались лет пятнадцать назад. Спустившись с гор, как шутя говорил мой отец. В свои шестьдесят пять госпожа Нагель отличалась отменным здоровьем, прекрасным аппетитом и склонностью к напиткам с низким, средним и высоким содержанием алкоголя. Несмотря на ежевечернее потребление как минимум четырех бутылок пива, данная склонность не переходила в хронический алкоголизм и единственным ее следствием было подавленное настроение по утрам.
Среди гостей была и младшая ее сестра – сравнительно недавно овдовевшая госпожа Кройцер, жившая на третьем этаже и бывшая чем-то вроде приживалки у преуспевшей на ниве жилищной аренды родственницы. Рядом с ней сидел ее пятидесятилетний, но весьма розовощекий и жизнерадостный ухажер, о появлении которого я узнал из матушкиного письма еще в России, немедленно позабыв об этой волнующей новости.
С другой стороны продолговатого стола расположились обитатели второго этажа: Гизела Хаупт – не совсем кинозвезда, но всё же довольно милая девушка двадцати двух лет, совсем не нордического, а скорей апеннинского типа, недавно потерявшая в Африке жениха, – и ее вечно печальная мать. Отец, военный чиновник, обретался ныне на севере Франции.
Возле них восседал дядя Юрген, непонятно по какому поводу нацепивший на себя мундир штурмовика. В нем он щеголял десяток лет назад, когда отдельные, не проникшиеся духом национальной революции граждане еще позволяли себе подтрунивать над подобной странностью вроде бы приличного человека. В их числе был и дядин старший брат, говоря иначе – мой отец, в ту пору придерживавшийся довольно левых взглядов, державший на книжной полке Карла Маркса и сыпавший цитатами из Гейне.
– Почему не в форме, солдат? – с ходу спросил меня дядя великолепным командным голосом, которому мог позавидовать фельдфебель Горский в нашем учебном полку. Я постарался быть вежливым.
– Еще надоест.
– А я, будь моя воля, никогда не снимал бы.
«Ну и дурак», – подумалось мне, хотя дядя был совсем не дурак. С этой нехитрой мыслью я уселся туда, куда указал приветливый, как обычно по вечерам, взгляд госпожи Нагель.
Чтобы оценить по достоинству стол, не нужно было ютиться в казармах, торчать в окопах и валяться по лазаретам. Я оценил и, не обращая внимания на завязавшийся разговор, приступил к трапезе, неторопливо занявшись двумя салатами и свиной отбивной с картофельным гарниром. Во взгляде матери мелькнуло умиление – вроде того, что вызывает у родителей вид подрастающих чад, поглощающих вкусную и здоровую пищу. Выпив красного вина, все заметно оживились.
– Две недели мечтал разговеться, – заметил дядя Юрген, выпивая вместе со всеми очередную порцию и прицеливаясь глазами в сторону печеной утки, удобно расположившейся на огромном блюде неподалеку от правого локтя Гизелы Хаупт. (Ее руки, открытые до середины плеча, отличались приятной полнотой.)
– Ты постился? – удивилась мать. – Может, ты еще и в церкви побывал?
Она забыла, что подобным буквоедством дядю было не смутить. Напротив – у него появился лишний повод продемонстрировать неординарность своего мышления.
– Пост – всего лишь верность предрассудкам, а вот разговение – дань уважения нашим народным традициям.
– Плодотворный подход. Но не для тех, кто хочет похудеть, – осушив бокал, качнула головою Гизель и повела глазами по сторонам. Лицо ее не отличавшейся стройностью матери сделалось еще печальнее. Госпожа Нагель, тоже не худышка, хмыкнула, влила в себя вино и, сунув ухажеру госпожи Кройцер бутылку мозельского, велела ее открыть.
Под звяканье ножей и вилок текла неспешная застольная беседа. Предмет ее был от меня далек, и я полагал, что оставлен в покое. Но ошибался, в какой-то момент дядя вновь принялся за свое. Идея униформы не давала ему покоя.
– Все-таки, Курт, ты должен показаться при параде! – решительно сказал мне он, и возразить на это было нечего. Разве для того берут людей на войну, чтобы в отпуске они разгуливали в штатском?
– И правда, Курт, покажись как-нибудь, – больше ради приличия поддержала дядюшку госпожа Нагель, обсасывая утиное крылышко.
– Будет сделано, – пообещал им я, – но если можно, не сегодня. К тому же моя форма совсем не парадная.
– Какая разница? Всякий мундир украшает мужчину, – высказался ухажер госпожи Кройцер и на всякий случай добавил: – Кроме, конечно, французских. Ваши полевые куртки, между прочим, будут покрасивее тех, что носили на нашей войне.
Прозвучало сильно – наша война. Мне представились меловые окопы Шампани, а в них дядя Юрген с гранатой в зубах. И ухажер госпожи Кройцер с саперной лопаткой за поясом, с которой стекает французская кровь. Правда, дядя в Шампани не был. Но кто знает, где послужил ухажер и чьи взрезал мундиры его смертоносный штык?
– Ну, это как поглядеть, мне так и наши нравились, – не согласился дядя. – Ты мне, Курт, лучше вот что скажи: когда ты получишь свой Железный крест?
Стало ясно, что от меня требуется не только униформа, а нечто гораздо большее. Дядю можно было простить, ведь, если судить по газетам, настоящие фронтовики с ног до головы увешаны наградами. И это не ложь репортеров, но естественная избирательность пишущих людей. Не строчить же про всех подряд.
– Как только совершу необходимые подвиги. Пока не успел.
– Но у тебя же есть какие-то награды?
Я понял, что он не отвяжется, и назвал свою инсигнию. Четко, почти по буквам, чтобы не оставалось вопросов.
– Черный знак за ранение.
– Скромный немецкий герой, – заключила фрау Нагель и, подняв бокал, призвала всех выпить за мое здоровье, а также за то, чтобы вдобавок к черному я не обзавелся серебряным знаком. Предложение было с готовностью поддержано всеми, не исключая Юльхен и Гизель, хорошевшей прямо на глазах. Я возражать не стал. Все-таки ранение – это больно и противно, даже если совсем легко. У меня было средней тяжести.
* * *
Разделавшись с отбивной, я немедленно взялся за утку, основательно потревоженную дядей, госпожою Нагель и ухажером госпожи Кройцер. Возможно, я уделял чрезмерное внимание мясу, но в конце концов имел на это право. Разговор опять ушел куда-то в сторону, и я мог есть, не отвлекаясь на ерунду. Гизель взяла надо мною шефство, периодически подкладывая мне что-нибудь в тарелку и заглядывая мне в глаза с блуждающей полупьяной улыбкой, делавшей ее лицо всё более и более привлекательным. Моя улыбка, подозреваю, давно была попросту пьяной. Закалкой фрау Нагель я не обладал.
Весело было всем, кроме разве что Юльхен. По причине малолетства она смогла получить лишь немного шампанского и теперь откровенно скучала.
– Из-за проклятой светомаскировки нельзя даже как следует отметить праздник, – заявила она, вклинившись в паузу между очередными сентенциями дяди Юргена. – Третий год обходимся без фейерверков. А в Констанце, говорят, светомаскировки нет.
Дядя не сплоховал и тут, дав точное объяснение феномену, вызвавшему зависть моей сестры.
– Это чтобы англичане думали, будто там еще Швейцария. И не бомбили. Им повезло. Правда, нас пока еще тоже не трогали.
Его слова вновь привлекли внимание ухажера госпожи Кройцер, который, блаженно щурясь после очередного глотка, заметил:
– Вот именно что пока. Начнут, тогда попляшем. А скоро за нас возьмутся еще и американцы.
– Верно! – поспешил согласиться с ним говорливый брат моего отца, обожавший внешнеполитические сюжеты. – Дяде Сэму надоело прохлаждаться на набитых золотом мешках, и он опять собирается наведаться в Европу.
– Утешает одно, – не упустил инициативы ухажер госпожи Кройцер, – он из тех, кто не торопится, пока не станет ясно, что к чему, а покамест перевес на нашей стороне. Но ведь что поражает: этот лживый народ, на протяжении столетий истреблявший благородных индейцев и строивший свое благополучие на страданиях целого мира, теперь намерен учить нас морали. Если задуматься…
Закончить мысль он не успел. Госпожа Нагель, встревоженная очередной попыткой перевести разговор на военную тему, строго заявила:
– Довольно о политике, мужчины. Мальчику скоро опять на Восток, а вы всё о войне да о войне.
– Но не влезть они тоже не могли, – воспользовался дядя заминкою собеседника, – ведь там евреи имеют не меньшее влияние, чем в России. Пёрл-Харбор для них – всего лишь удобный предлог. Мне вот лично не верится, что нашим косоглазым друзьям самим удалось провернуть столь блистательную операцию. Без клики Рузвельта там явно не обошлось.
– Ну, дядюшка, вы преувеличиваете, – сказал я как можно мягче.
– Курт, ты не знаешь евреев.
Возникла реальная опасность открытия еще одной темы, близкой сердцу дяде Юргена и его нового знакомца. Нависшую угрозу усугубила моя сестра. Она отвлеклась от начатого было разговора с Гизель и с интересом спросила:
– А в Японии есть евреи?
Неожиданный вопрос привел мать в негодование. Она уронила вилку.
– Сколько можно говорить о евреях? Просто безумие какое-то! Только и слышу: евреи-большевики, большевики-евреи. И ты туда же, Юльхен.
Женщины согласно закивали, но дядя Юрген был не их тех, кто сдается при первых выстрелах. Ему был свойствен интерес к истории цивилизаций, и он прочел когда-то, пусть и не до конца, нашумевшую книгу Освальда Шпенглера.
– Евреи есть везде, – авторитетно заметил он. – Просто в Японии они косоглазые и не выделяются из общей массы. К тому же там порядок и железные моральные устои. Самурайский кодекс бушидо. Никакой расхлябанности и серой плесени, что выплыла на поверхность у нас в Европе.
* * *
Уйти от войны не позволила и Гизель. Ее в большей степени интересовал романтический аспект.
– Ты ведь служил на Украине, Курт. – Она не стала говорить «воевал», и это мне понравилось. – Говорят, там много красивых девушек.
Чего только не услышишь порой от людей. У меня не было оснований сомневаться в достоинствах девушек Украины, но чем они принципиально отличаются от других и откуда об этом известно Гизель, я представить себе не мог. Но молчание могло быть истолковано превратно.
– Строго говоря, на Украине я пробыл недолго. Больше в Крыму, – начал было я, не зная толком, как продолжить. Помощь неожиданно оказал дядя Юрген.
– Я вам, Гизель, сам скажу, – заявил он, поблескивая глазками специалиста по женскому вопросу, в котором поднаторел более основательно, чем в историко-философских трудах. – Когда я мыкался там в восемнадцатом, у нас было две любимые девушки. Одну звали Махно, а другую Петлюра. И они были совсем не красивы.
– Про таких я не слышал, – заметил я, хотя читал лет пять назад о русской революции. – Нам было в Крыму не до девушек.
– Вот и я о том же. Что вы хотите, боевые части. Всё более или менее пристойное достается тыловым крысам.
Мать не выдержала вновь, и хорошо, что в этот раз в ее руке не оказалось вилки.
– Мужчины, как вам не стыдно? Гизель, Юлия, заткните уши, пока наш дядя не закроет рот.
Инициативу перехватила госпожа Нагель. Подняв бокал и слегка заикаясь (стало заметно, что spiritus vini оказал воздействие и на ее могучий организм), она торжественно провозгласила:
– Как замечательно все-таки, что мы смогли собраться здесь все вместе! Если бы еще приехал Фриц…
Дядя поспешил согласиться, но сразу же ловко свернул на любимый предмет:
– После войны мы будем собираться в имении нашего Курта в Готенланде. Ты слышал, мальчик, что обещал вам фюрер?
– В каком еще Готенланде? – сонно пробормотала Юлия (кажется, среди оживленной беседы ей удалось выпить несколько больше, чем положенный бокал шампанского; я даже догадываюсь, что подливала ей госпожа Кройцер, некогда баловавшая подобным образом меня). – Не хочу я ни на какой остров Готланд. Я солнышко люблю.
– Успокойся, Юльхен, так будет называться полуостров Крым на теплом, южном Черном море. Пока об этом мало кто знает, но название замечательное. Ведь там когда-то жили наши предки готы. Вам там об этом не сказали, Курт?
– Как-то нет. Возможно, в мое отсутствие, – ответил я. На формулировки вроде «наши предки готы» я не реагировал с двенадцати лет. Но в очередной раз изумился странным представлениям дяди об источниках знаний у студентов философского факультета.
* * *
Часа через два, когда все основательно подогрелись, а чуть не уснувшую было Юлию в сопровождении матери торжественно отправили спать (похоже, на сей раз госпожа Кройцер была щедра как никогда), мы разошлись по разным углам. Я оказался рядом с Гизель – в креслах у большой напольной лампы, красноватый свет которой лишь усиливал полумрак, придавая обстановке то, что принято называть атмосферой. Нашу беседу можно было отнести к разряду светских.
– Ты долго лежал в госпитале? – Честно говоря, я не заметил, когда мы перешли на «ты», но это нисколько меня не обескуражило.
– Месяца два.
– А что раньше? (Молодец, она не стала спрашивать о ранении, в отличие от глуповатой особы в берлинском поезде, битый час изводившей меня вопросами о том, куда мне угодило и что я при этом почувствовал.)
– Мотались туда-сюда. Рыли землю. Иногда стреляли.
– Это страшно? (Еще раз молодец. Особа из берлинского поезда интересовалась, убил ли я кого, насколько я в этом уверен и как выглядят мертвые русские.)
– Когда как. Иногда очень. Но в целом привыкаешь.
– Ты долго здесь пробудешь?
– Две недели. Потом поеду в Берлин, оттуда – в Россию.
– В свою часть?
– В свою.
– К товарищам?
– Угу.
Мы не знали, о чем говорить. Прежде едва знакомые, мы не имели общих воспоминаний, а дальнейшее углубление во фронтовую тему грозило вызвать ненужные мысли о погибшем Густаве (так звали ее жениха, сгоревшего в подбитом танке; «Как это ужасно! Бедный мальчик», – успела утром прокомментировать обстоятельства его гибели матушка). К счастью, после Крыма я стал достаточно смел, чтобы уверенно взять Гизель за руку и поднести украдкой к губам ее в меру тонкие пальцы. Она растроганно кивнула и как бы доверчиво улыбнулась. Нас не смутил даже внезапно нависший над нами дядя.
– Кстати, о служебном росте. Ты у нас теперь кто? Старший стрелок? Что дальше, когда? Унтерофицер, кандидат на офицерский чин?
Я определил свою верхнюю планку без лишних иллюзий:
– Максимум старший ефрейтор.
– Ефрейтор – мое любимое звание, – проговорила Гизель и ласково пожала мне руку, не смущаясь присутствием моего веселого родственника..
– Куда уж выше, – хохотнул дядя, после чего опять переместился в направлении стола, где госпожа Нагель, напевая что-то из Штрауса-сына, разливала по бокалам содержимое новой бутылки.
Лейтенант Густав Кранц, как и я, закончил гимназию имени братьев Гримм, но вместо университета подался в фаннен-юнкеры танкового полка, чтобы в положенный срок сделаться офицером. Гизель не сообщили подробностей его гибели и правильно сделали. В Крыму я не раз видел сожженные русские танки, а однажды – сгоревших русских танкистов. Зрелище было не из приятных. Они были совсем молодые, такие же, как мы, и их тоже кто-то ждал. Но сожалений не было, встреча с ними ничего хорошего не сулила.
* * *
Госпожа Нагель завела патефон. Настала пора, ради которой и устраивается большая часть вечеринок. Я приподнялся с места, однако выплывший из полумрака дядя ловко похитил Гизель и увлек ее за собой – в полумрак. Пошатываясь, я последовал за ними, имея целью перехватить девушку моей мечты, пока на место дяди не заступит ухажер госпожи Кройцер. Тот уже стоял посредине комнаты и, нетвердо держась на ногах, целил глазами в ту, что по совести предназначалась мне. Ему не повезло – я без лишних церемоний завладел своею Гизель, едва лишь смолкла первая мелодия, чтоб больше не выпустить добычи из рук. Дядя поспешно переместился к моей разомлевшей и глупо улыбавшейся матушке, тогда как ухажеру госпожи Кройцер пришлось довольствоваться госпожою Хаупт, чья физиономия за вечер так и не сделалась менее постной, а фигура не стала тоньше. Поскольку он также отличался корпулентностью (было, кстати, непонятно, куда исчез объект его матримониальных планов), парочка вышла весьма представительная. Но нам было не до них, мы были заняты друг другом, что бы ни думали по этому поводу наши матери, двое мужчин и госпожа Нагель.
– Ты придешь послезавтра? – прошептала Гизель, обвивая мне шею руками и прикасаясь щекою к моей.
– Почему послезавтра? – спросил я, крепче сжимая объятия и осязая всё, что позволяет почувствовать медленный комнатный танец. Грудь девушки оказалась больше, чем думалось, и это наполнило душу трепетом.
– Мама с утра на службе, а я буду дома. Поговорим. Нам ведь есть о чем поговорить?
– Полагаю, что есть. – И ощутивши новый прилив храбрости, я медленно провел рукой ей по спине, не обращая внимания на глядевшую в нашу сторону госпожу Нагель. – Тебя ведь интересует искусство средневековой Далмации?
– Это где?
– На теплом Адриатическом море, которое гораздо теплее Черного. С одной стороны Италия, с другой Далмация. Там живут хорваты и сербы.
– Сербы – нация убийц, – улыбнулась она. – Расскажи мне лучше про искусство Италии. У тебя ведь имеются книжки с картинками? Я обожаю Ренессанс.
– У меня есть сотня прекрасных книжек с чудеснейшими картинками. В том числе и про Ренессанс.
– Значит, до послезавтра?
Мы распрощались лишь за полночь. Легкое сожаление, что придется терять целый день, когда всё лучшее столь близко и доступно, не покидало меня в постели еще добрую четверть часа. А потом я уснул. Уверенный, что мне приснится Гизель. Но вместо Гизель мне приснилась Клара.
Большая немецкая любовь
Курт Цольнер
6 апреля 1942 года, пасхальный понедельник – 19 апреля, суббота
Из четырнадцати дней отпуска уже миновало два. Вернее, прошел всего один, но на следующий мне ничего не светило. И это повергало в уныние.
Несмотря на церковный календарь, праздники кончились. Мать еще до обеда ушла на службу, Юльхен уселась за уроки. («У меня завтра латынь. Представляешь? Этим ретроградам даже мировая война не указ».) Я отправился слоняться по улицам. Штатское надеть постеснялся. Несмотря на патрули.
Мой путь оказался извилст. Сначала я прошелся до ратуши, потом свернул в переулки, по привычке побрел к университету. Спохватившись на полдороге, решил подняться на холм, где стояли клиники Медицинской академии. Оттуда открывался отличный вид на город.
Тут, на одной из площадок, разделявших марши уходившей в гору лестницы, я и встретил Клавдию – небольшое толстенькое существо, отсутствовавшее в моем сознании на протяжении времени, проведенного в армии, да и ранее почти не занимавшее в нем места. В гимназические годы я знал ее благодаря нашим общим знакомым. Затем, подобно мне, она оказалась в университете. Не отличаясь внешней красотой, выбрала практически закрытый для женщин путь филолога-классика, войдя в число тех, кого Юльхен поутру обозвала ретроградами. Теперь же я рад был и Клавдии, а ее озарившиеся счастливой улыбкой серые глазки показались мне милыми, умными и уж во всяком случае не пустыми. (Именно этим словом моя мамочка спешила заклеймить глаза всякой особы, способной вызывать у мужчин интерес.) Я крепко сжал протянутую руку и в странном, невесть откуда взявшемся волнении выдохнул:
– Где ты теперь? Учишься?
Она смущенно улыбнулась и ткнула пальцем в светло-серое санитарное платье, угодив в неясно прорисованный бугорок, намекавший на место для бюста. Я закивал, по-прежнему не выпуская маленькой ладошки из рук. Пару раз растерянно мотнул головой.
– Ты знаешь, где Клара? – спросила она.
Это было то самое, о чем я хотел узнать вчерашним утром, но о чем совершенно забыл вчерашним вечером. Не случайно Клара, словно спохватившись, напомнила о себе, заявившись в мой сон. Теперь вот выслала навстречу Клавдию.
– Где? – спросил я, попытавшись изобразить интонацией радость – «изобразить» не потому, что радости не было, а потому, что и сам не знал, что со мной происходило.
– В нашем госпитале. В клиниках. Мы работаем рядом, в одну и ту же смену. Я уже освободилась, а она еще нет, там какая-то операция. Так что иди, она тебя хочет видеть. Valde, valde!
«Какая же ты милая и глупая идиотка», – подумал я и ответил:
– Gratias tibi ago, cara mea Claudia.
Для начальных классов вышло совсем не плохо, хотя в гимназии я ухитрялся вести и более содержательные диалоги – теперь не верилось, что подобное было возможно.
Я хотел приобнять ее на прощанье, но она сама проворно схватила меня за плечи, встала на цыпочки и ловко чмокнула в губы. Подобной прыти я не ожидал. Похоже, что война и ей пошла на пользу. Довольная и раскрасневшаяся, она махнула на прощание рукой и стремительно унеслась, вероятно вспомнив, что я предназначен для Клары. Так мне стало известно, зачем еще нужны солдаты. Они последний шанс дурнушек.
В госпитале я пробыл недолго. Задержавшая Клару операция кончилась, и мне осталось подождать, когда она выйдет из душа. (Вспомнились наши санитары, нередко засыпавшие, не смыв чужой крови с рук – на это не хватало ни времени, ни сил, да и с водой у нас бывало трудно.) Я поделился сигаретами с выздоравливающими, игравшими в скат во дворе под навесом. Перекинулся парой слов о том, кого из них где и как. Выслушал анекдот про Сталина, Черчилля и Рузвельта. Потом появилась она, ткнулась лицом мне в плечо и заплакала, будто мы были по меньшей мере невестой и женихом. У меня запершило в горле, еще сильнее, чем тогда, когда я наткнулся на Клавдию.
– Пойдем ко мне? – спросила она, и мы направились к воротам, сопровождаемые завистливыми взглядами моих недолгих знакомцев. Один из них, в наброшенном на плечи кителе с унтерофицерскими погонами (тяжело раненный прошлым летом под Бобруйском, он был старожилом госпиталя), решительно выбросил в диагональном направлении согнутую руку со сжатым кулаком, вероятно давая понять, как я должен действовать со славной худенькой санитаркой – одной из тех, с кого они не сводили неделями жадных тоскующих глаз.
Было бы любопытно узнать, какие подвиги припишет мне к вечеру их распаленное воображение. Фантазия выздоравливающих и хорошо накормленных бойцов не знает границ, и вряд ли разговоры здешних пациентов заметно отличались от тех, что велись в недавней моей палате. Да и теперь, пока мы спускались с холма и шли к трехэтажному дому, где проживало семейство Клары, я раз пять успел представить ее в самых волнующих позах, какие может принять девушка – пусть и отличавшаяся по комплекции и темпераменту от Гизелы Хаупт, но любящая меня давно и нежно.
– Ты будешь чай или кофе? – спросила она, когда мы переступили порог. – У нас есть хороший голландский.
– Лучше кофе. Тебе помочь? – спросил я в ответ, рассудив, что мое участие ускорит процесс.
– Не стоит, посиди в комнате.
Комнат было две. Решив, что, если бы Клара имела в виду гостиную, она бы так и сказала: «в гостиной», – я сразу же направился в ее небольшую спальню, очень похожую на мою комнатенку: неширокая кровать, письменный стол, полка с книгами, шкаф. Сначала присел на стул, потом перебрался на койку, усевшись поверх покрывал и спиной прислонившись к стене.
Дожидаться пришлось недолго. Не обнаружив меня в гостиной, она принесла поднос с чашками, хлебом и сыром в спальню. Улыбнувшись, поставила рядом со мной на кровать. Скинула домашние туфли, с ногами залезла на то, что я мысленно успел окрестить «ложем страсти», и положила мне голову на плечо. Я коснулся губами ее светлых волос, не таких густых, как у Гизель, но соответствовавших по цвету самым строгим расовым стандартам – редкое явление в наших краях. Гладя пальцами тонкую руку, подумал: «Выпью чашку, и вперед». Времени до прихода Клариной матери оставалось не так уж много.
– Знаешь, что у меня есть? – спросила она.
– Откуда мне знать? – ответил я, хотя был уверен, что знаю и остается лишь увидеть, как там всё выглядит на самом деле.
Она спрыгнула с кровати и сняла с полки книгу большого формата. Сунув ее мне в руки, сказала:
– Смотри. Мамина любимая.
На обложке значилось «Африканский корпус».
– Ты это купила?
– Дали как приз за меткую стрельбу.
Я сглотнул, внезапно осознав, что случайно встреченная поутру Клавдия спасла меня от подлости по отношению к покойному Густаву Кранцу. Сунул в рот хлеб с сыром и отпил немного кофе. Прожевав, сказал:
– Знаешь, я вчера обнаружил, что не люблю книг. Особенно про войну.
Она стала серьезной, даже слишком.
– Ты знаешь, я тоже. Маме нравится – красивые мальчики, в шортиках, загорелые, а я даже не знаю, как ей объяснить. Смотришь на эти фотографии, а потом видишь их в госпитале, обгоревших, изуродованных…
– Сюда привозят из Африки?
– Нет, в основном из России. Но какая разница?
Лицо ее сделалось угрожающе печальным. «Сейчас разревется», – встревожился я. Затягивать было нельзя. Осыпав милое личико поцелуями, я соскочил с кровати и переставил поднос на стол. Сбросил китель, расстегнул ей пуговки на платье, расцеловал хрупкие – на самом деле хрупкие – плечи. Освободил от бюстгальтера. Она не сопротивлялась, только прикрыла глаза и молчала, будто это происходило не с ней, а с героиней русского романа. Я снова вскочил, скинул с плеч подтяжки, стащил через голову серую рубашку и, прыгая то на одной, то на другой ноге, освободился от сапог. Оставались брюки, носки и трусы – благодаренье Богу, не кальсоны. Неловко перебирая пальцами – куда подевалась сноровка, приобретенная при подъемах и отбоях в учебном подразделении? – я стал расстегивать ширинку. Клара, широко открыв глаза, с интересом наблюдала за моими манипуляциями. Мне сделалось неловко, но останавливаться было нельзя. Порыв, я бы даже сказал lan rvolutionnaire, смелость, смелость и еще раз смелость решали в нашем деле всё. Но безмолвное, в полный рост расстегивание штанов, возможно и подобающее мексиканскому macho, было мало уместным в присутствии скромной и хорошо воспитанной девушки, сидевшей на кровати в приспущенном до пояса платье.
– Клерхен, родная, – пробормотал я, опускаясь перед ней на колени в неосознанном стремлении сделать заключительные стадии своего раздевания как можно менее заметными.
– Хороший мой, – благодарно прошептала она. После чего добавила: – Только знаешь, егодня ничего не получится.
У меня всё упало. Почти. Я вскинул голову и заглянул ей в глаза. Так, наверное, смотрят собаки, которых ни за что ни про что вдруг обидел любимый хозяин.
– Почему, Клерхен?
– Бывают такие дни, Курт. Вчера началось. Как назло. Ну, ты понимаешь.
– Понимаю, – прошептал я и уткнулся лицом ей в колени. «Что же за нелепое устройство… Интересно, сколько дней у нее продолжается… Отпуск…» – таковы были мысли, мелькавшие в моем сознании, и поэтому я молчал, а она нежно гладила меня по волосам и тоже молчала.
Я познакомился с ней в университете, в группе французского языка. Завязавшаяся к Новому году дружба переросла к дню рождения фюрера в светлое чувство, столь же светлое, как волосы Клары и само ее милое имя. В концу лета мы полагали, что любим друг друга, к концу следующего были в том совершенно уверены. Однако из всего, что могло между нами случиться, имел место лишь выезд в горы, где мы устроили небольшой пикничок с пирожками, бургундским и ласками в наивно французском стиле. Она отважно проделала тогда самое, по ее мнению, безопасное – проявив при этом трогательное бесстыдство, но в целом действуя неумело и слишком быстро устав, так что я при случае затруднился бы ответить, было у нас нечто серьезное или нет. Осенью меня призвали на службу. В первом же увольнении я понял, в чем заключалась ошибка Клары, но дать ей совет возможности не имел. А вскоре нас перебросили в Румынию, на границу с Россией.
У меня оставалась надежда, что Клара попробует воспользоваться дополнительными женскими средствами, теми самыми, что пыталась применить в тот единственный раз. Но она застегнула платье и виновато сообщила:
– Скоро мама придет.
Я вздохнул. Спорить было бесполезно. Мы еще раз сварили кофе, доели бутерброды, поговорили о пустяках и распрощались.
– Потерпи немножко, – сказала она, обнимая меня у дверей. Я обещал потерпеть.
* * *
Дома меня встретила Юльхен. Прямо в прихожей, с улыбкой на лице.
– Возвращение блудного брата. Часть вторая. Одиссей. Тебя тут Пенелопа потеряла.
– Какая еще Пенелопа? – слегка удивился я. Клара не могла появиться здесь раньше меня, а телефона не было ни у нее, ни у нас.
– Пенелопа зовется Гизелой Хаупт. Спрашивала про некоего Курта Цольнера. Куда, говорит, запропастился. Может, обиделся?
– На что?
– Ты уж прости, я в ваши секреты не посвящена.
– И чего она хотела?
– Срочно ждет тебя в гости. Желательно до восьми. Я тоже попросилась, но мне велели учить латынь. Она такая же ретроградка, как все.
С этими словами Юльхен показала язык и вернулась к письменному столу. А я, прихватив пару итальянских альбомов (Юльхен издевательски качнула головой), пошел на третий этаж, к Гизель. Оказалось, ее мать срочно вызвали на дежурство, которое должно было продолжиться до десяти.
С ней получилось легко и просто. Само собой. Естественно и без лишних слов. Даже не верилось, что тут могло выйти так, как сегодня с Кларой. То есть, конечно, чисто физиологически могло быть что угодно, но вот практически… Есть девушки, с которыми всегда всё выходит легче, и они ничем не хуже тех, с кем бывает наоборот. Даже лучше. Мой товарищ по николаевскому госпиталю, тоже студент, богослов, обсуждая степень женской покладистости, предложил собственную классификацию. Бывают девушки в железных трусах, бывают в трусах-самоспадах, бывают и без трусов. Я затруднился бы отнести Клару к одной из перечисленных категорий, между тем как Гизель тянула на самоспады. По крайней мере, со мной. Жалко, времени оставалось слишком мало, нужно было замести следы, но и того, что мы успели сделать, на первый раз вполне хватило. Потом пришла ее мать, как ни странно – более веселая и приветливая, чем накануне, мы пили настоящий чай и в течение получаса вели оживленную беседу. Предметом обсуждения был предстоящий брак госпожи Кройцер.
* * *
Спустя четыре дня – их описывать нет нужды, достаточно сказать, что я был счастлив, и счастлив был не только я, – так вот, спустя четыре дня, а может быть, и пять, меня вновь отыскала Клавдия, причем элемент случайности в данном случае отсутствовал напрочь. Она заявилась прямо ко мне, вечером, около восьми, даже, пожалуй, позже. Я как раз возвратился от Гизель, успев убраться до прихода ее матери, – и сразу же, едва открыл входную дверь, наткнулся на будущую специалистку по классическим языкам, которая, сидя на кухне – а дверь нашей кухни выходила в прихожую и почти соприкасалась со входной, – объясняла Юльхен аблятивный оборот. Кажется, на примерах из «Записок о Галльской войне», точно сказать не берусь. Усилия Клавдии были напрасны, как и старания педагогов, что на протяжении последних лет пытались выполнить аналогичную задачу в женской гимназии, а ныне обершколе имени Фридриха Гёльдерлина. (Получая очередную неудовлетворительную оценку, моя сестра с раздражением сообщала, что классические языки отменены как ненужный девочкам предмет, Гёльдерлин сошел с ума – и вообще куда смотрит партия? Отец, однако, был непреклонен – и заставлял ее посещать факультативные занятия.)
Насильственно погруженная в комментарии Божественного Юлия, Юльхен воздержалась от комментариев по поводу моего прихода. Клавдия подобного такта не проявила.
– Откуда ты без пальто? Я бы не сказала, что на улице жарко.
Пришлось объяснять, что я спускался к госпоже Нагель с целью принять там душ. Последнее вполне могло быть правдой – горячая вода не поступала к нам в квартиру даже по субботам и воскресеньям, то есть в те дни, когда немецкий народ имел законное право воспользоваться ванной. Клавдия скептически взглянула на мои сухие волосы и на мои пустые руки, после чего объявила: меня желает видеть Клара, более того, дело даже не в том, чего она желает, а в том, что она больна, и если не смертельно, то весьма тяжело. Меня призвали к исполнению долга.
Все было правдой – Клара свалилась с жестокой простудой. Еще вчера она была здорова, причем здорова совершенно, во всех, так сказать, отношениях, и будучи абсолютно здоровой, рассчитывала на встречу со мной – не зная только, приду ли я, проведя необходимые исчисления, сам, или же придется пускаться на поиски. Но с утра она почувствовала себя так скверно, что едва доплелась до госпиталя. Теперь, лежа в постели и получая видимое удовольствие от прикосновения моей ладони, покоившейся на ее и в самом деле горячем лбу, она испытывала неловкость.
– Глупо, правда? Такое невезение. Ты не сердишься?
Конечно же, я не сердился. За что? Склонившись над ней, я поцеловал ее в щеку, такую же горячую, как лоб.
– Бывает и хуже. Главное, выздоравливай.
– Ты вернешься и тогда…
– Конечно, солнышко.
В тот момент мне действительно показалось, что я непременно вернусь.
* * *
Бедная моя Клара, тоненькая, воздушная, похожая на девочку из предвыпускного класса школы средней ступени… Она не обладала достоинствами Гизель, теми самыми, что влекут молодых самцов, и была словно создана для декадентствующих поэтов, а коль скоро такие повывелись – для пожилых господ, чье либидо парадоксальным образом сочетается с потребностью проявлять к своей партнерше отеческие чувства. Я же по складу был бескрылый и в общем-то юный прозаик. К тому же историк, пусть и искусствовед, иными словами – патологический циник, бесчувственная скотина, ценящая в женщине не душу, а формы и, что существенно, бесконфликтность. Бесконфликтность – это когда без истерик и взаимных претензий. Одна очаровательная бельгийка объясняла мне так: «Я это я, а ты это ты, мы встретились, и это прекрасно, разойдемся – встретим кого-то еще. Надо уметь быть благодарным за то, что есть, а не злобствовать из-за того, чего нет».
Гизель умела быть благодарной, но без истерики у нас не обошлось. Однажды она разревелась в самый неподходящий момент. «В чем дело?» – спрашивал я в недоумении и долго не мог ничего добиться. Наконец она заявила:
– Ты считаешь меня шлюхой!
– Я? С какой стати?
– А разве нет? Думаешь, не успела жениха похоронить, сразу же спуталась с первым встречным…
Я долго молчал, «первый встречный» меня обидел. Собравшись с мыслями, я спросил:
– Ты дура?
– Сам дурак, – шмыгнула она носом.
– Ты редкостная дура, поняла? Если тебе нравится считать себя шлюхой, считай себе на здоровье. Я же останусь при своем мнении.
– Каком еще своем?
– Я тебя люблю. Если ты до сих пор не поняла этого…
– Вы всех нас считаете шлюхами.
– Плевать я хотел на всех. Я это я, а ты это ты.
Я и не заметил, как процитировал бельгийку, говорившую совсем о другом. Но Гизель об этом не знала.