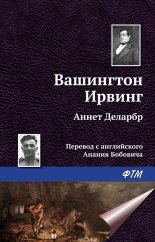Подвиг Севастополя 1942. Готенланд Костевич Виктор

– Видишь ли, Флавио, – начал он. – У меня личный счет к социалистам и евреям, настоящий личный счет, а не дешевый мелкобуржуазный антисемитизм. Мой отец, между прочим, барон, погиб во Фландрии в самом конце войны. Мне было тогда восемь лет, но я хорошо помню Берлин в восемнадцатом и девятнадцатом. Мне казалось, что все они чуть ли не радуются его гибели. Понимаешь?
– О да, – ответил я, вспомнив вдруг, как с позиций на Изонцо возвращались фронтовики, измученные и недоумевавшие, отчего им никто не рад, и как позднее моя мать ругалась по поводу тысяч безработных, заполонивших город после демобилизации.
– Кстати, ты фашист? – неожиданно спросил Хербст.
– Видишь ли, Рудольф, – начал я, – как всякий честный итальянец…
– Вот это оставь для других. Я спрашиваю о твоих личных убеждениях. Я, например, был воспитан в ненависти к самому слову «социалист» и долго колебался, прежде чем вступить в партию, в названии которой содержится слово «социалистическая». Но потом я понял, что это значит – быть национал-социалистом. Так кто же ты, Флавио Росси?
– Фашист, – ответил я, стараясь смотреть ему прямо в глаза.
Он пристально поглядел на меня и уверенно поднял бокал.
– Чин-чин!
Мы снова чокнулись и, вконец обессиленные, завалились спать. Вытянувшись на раскладной походной койке, заботливо поставленной для меня Вергилием-ефрейтором, я забылся тяжелым сном. Мой первый день в России подошел к концу.
А на следующий день появился Грубер, мой настоящий Вергилий.
Скифская степь
Курт Цольнер
Конец апреля – 10 мая 1942 года
На следующий день по прибытии я в полной выкладке – ранец, шинельная скатка, подсумки, противогаз, куча всякой всячины, понавешанной и понатыканной там и сям, – в цепи из сотни человек штурмовал какой-то пригорок в нескольких километрах от нашего лагеря. Мы занялись этим приятным делом сразу же после двухчасовой пробежки, прерывавшейся по ходу упражнениями вроде отжиманий от земли или попеременного поднимания товарища на спине, – и конца нашему штурму не предвиделось. Надежно замаскированные на пригорке пулеметы поливали окрестности, так сказать, свинцовым дождем, солнце палило вполне по-летнему, и мы, извиваясь, ползли в пока еще зеленой траве, совсем не такой, как в прошлом году, когда мы вторглись в Россию, – ведь тогда был уже разгар лета, а сейчас всего лишь весна, наша первая весна в этой злосчастной стране. Последняя ли, и если последняя, то в каком смысле?
Нашему броску на полигон предшествовало утреннее построение. Когда отзвучал Хоэнфридбергский марш, начальник лагеря, майор Бандтке, поздравил нас с началом нового этапа нашей военной биографии и объяснил, в чем состоят наши задачи. Он был краток, откровенен и по-своему красноречив.
– Своим зимним наступлением, – сказал он, прокашлявшись и скептически оглядев серо-зеленые ряды новобранцев и вчерашних отпускников, – русские создали нам множество трудностей, но теперь, воспользовавшись передышкой, мы можем переломить ситуацию. Скоро будут нанесены удары невиданной мощи, и оборона русских где-нибудь да рухнет, после чего красная империя окончательно испустит дух. Не все доживут до великого дня, жертвы будут немалыми. А потому покуда есть время, вы должны учиться побеждать, то есть действовать так, чтобы мертвым оказался враг, а не вы. Пока есть время – учиться, учиться каждый день, учиться каждый час. Скоро времени не будет – и тогда вы пожалеете о том, чего не успели усвоить. Если успеете. Среди вас нет полных новичков в военном деле, среди вас хватает фронтовиков, но и им есть чему поучиться.
Так что теперь мы учились. Солнце стояло в зените, и было ясно – обеда нам не видать. Сукно мундиров пропиталось потом. Стук пулеметов почти не прекращался, а когда он всё же ненадолго затихал, раздавались голоса наших наставников, лагерных унтерофицеров и фельдфебелей: «Жопы не поднимать… Готовьте гранаты… Вперед…» Пролетавшие в раскаленном воздухе пули сшибали листья с деревьев на краю полигона.
– Господи, сколько же можно, – пробормотал ползший рядом со мной и Дидье новобранец.
– Заткнись и делай, что сказано, – отрезал Дидье, вытягивая из-за пояса «толкушку», – русские перерывов на обед устраивать не станут. Они вообще могут месяцами ничего не есть.
– Разве что мясо молодых и неопытных бойцов германских вооруженных сил, которые не хотели учиться в тренировочном лагере, – поддакнул я.
– Кончай языками чесать! – проорал вынырнувший из травы унтерфельдфебель, руководивший всей операцией. – Бьют по левому флангу, у нас чисто, перебежками – вперед.
«Совсем очумел, – успел подумать я. – Эти олухи, если что, даже залечь не успеют». Но сразу же вскочил, дернув новобранца за воротник и увлекая его за собой. Мой прогноз оправдался: через секунду пули запели над нами и я плюхнулся на землю, вновь дернув новобранца и заставив его мешком повалиться рядом. Тот ошарашенно поглядел на меня, я попытался улыбнуться.
– Это не самое страшное. Как тебя?
– Петер…
– Ползем, Петер.
Мы поползли опять. До пригорка оставалось совсем немного, стук пулеметов сделался оглушительным, невыносимым, и лишь сознание, что проносящийся над нами вихрь пуль, в принципе, ни для кого не предназначен, позволяло мне и Дидье продвигаться без особого страха. Нашему Петеру, однако, приходилось труднее – бывать под настоящим обстрелом и видеть настоящую смерть парню не доводилось, и всё, что происходило здесь, воспринималось им совсем иначе.
Наконец обстрел утих, и нам дали приказ подняться. Задача была выполнена. Левому флангу нашей цепи удалось подползти к пулеметным гнездам и забросать их имитаторами гранат. Теперь, когда все выстроились, унтерфельдфебель Брандт, тот самый, что полз за нами следом, принялся распекать нас, правофланговых, за пассивность и трусость.
– Хотите выиграть войну на чужом горбу? – орал он, прохаживаясь вдоль строя нашего отделения. – Хотите меня опозорить? Хотите сдохнуть в первом же бою? Хотите дезертировать?
Утешало одно: выстроенным неподалеку другим отделениям, судя по доносившимся оттуда начальственным воплям, доставалось ничуть не меньше. Если бы не усталость и не пропавший обед, нам бы решительно не стоило расстраиваться. Но словно предвидя подобные настроения у бывших отпускников и желая доказать, что ему не до шуток, Брандт распорядился повторить операцию еще раз. А спустя полчаса (на этот раз с пулеметами было покончено заметно скорее) – еще два раза. Уже после первой нашей атаки пулеметные расчеты были демонстративно заменены другими и отправлены в лагерь. «Людям надо поесть», – объяснил Брандт, вызвав в наших рядах приступ безмолвной ярости, во многом ускоривший успешное завершение повторной операции.
Нам с Дидье удавалось держаться вместе. Петер тоже всё время оказывался вблизи. Парень он был, прямо скажем, неловкий. Мне трижды пришлось его поддержать, чтобы он не свалился, дважды, наоборот, уронить его на землю. «Нам теперь всё время с ним нянчиться?» – недовольно шипел Дидье, на которого иногда находило. Я молчал, не желая звереть раньше времени. Когда пригорок был взят четвертый раз и нас наконец построили в колонну, Петер вновь обнаружился рядом. Едва держась на ногах, он со странной надеждой смотрел на меня – и с некоторой опаской на Дидье. Проходивший мимо Брандт пристально поглядел ему в лицо и покачал головой, выделив для себя из остальных.
Возвращались мы с полигона не тем путем, что пришли, а другим, прямым, через небольшую деревню. Когда мы подходили к ней, Брандт приказал подтянуться и петь. Никто не отозвался. «Хотите осрамиться перед русскими свиньями и остаться без ужина?» – поинтересовался он. Ответом вновь было молчание. Брандт покачал головой, и я понял – медлить нельзя. Затянул первое, чтопришло в голову, в надежде, что уж это известно каждому.
- Мой грош и мой червонец,
- Со мной вы были оба, но
- Тот грош ушел на воду,
- Червонец на вино, вино.
Я не ошибся. С третьей строчки за мной подхватили почти все, кроме разве что Петера и пары других новичков. На «Хайди-хайду-хайда» не молчал никто, даже Петер. Топот двух сотен каблуков по убитой годами и десятилетиями сельской улице звучал лучшим аккомпанементом старинному гимну студенческого жизнелюбия, даром что студентов, кроме меня и Дидье, тут не было. Не знаю, смотрели ли на нас местные жители, но ежели смотрели, то в их глазах мы должны были выглядеть разудалыми солдатами, совсем не такими, как десятью минутами прежде. А ведь наверняка смотрели. Чего стоил один запевала.
- Трактирщики и девки
- Мне прочили беду.
- Одни – как к ним приду я,
- Другие – как уйду.
Догадывались они, о чем мы поем, или нет? Вряд ли. Вряд ли им вообще было дело до наших песен. Хотя кто знает? Кого-то вполне могло заинтересовать, о чем это горланят проклятые оккупанты и чему они так радуются, дружно выкрикивая «Хайди-хайду-хайда». Не своим ли победам над их страной и ее жестокими бездушными вождями? Не своему ли пребыванию в этом пустынном краю, в этой безбрежной степи? Степи, по которой столетиями проносились орды скифов, готов, сарматов. Степи, видевшей гуннов, булгар и монголов. Степи, где едва не погибло бесчисленное воинство Дария Ахеменида и где спустя тысячу лет прошли в поисках новой родины «наши предки готы». А потом, тесня татар и турок, скакали свирепые казаки, маршировали полки сурового Миниха, любвеобильного Потемкина и кровожадного Суворова. Маршировали и тоже пели что-то свое, совсем не похожее на то, что теперь распевали мы. Но может быть, столь же веселое.
- В какой же день чудесный
- Меня Бог сотворил!
- Парнишка я прелестный,
- Ах, если бы не пил, не пил!
Вот так мы и заработали себе ужин. Брандт даже отметил, что благодаря Курту Цольнеру. Впору было надуться от гордости. Кстати, ужин был неплох. Обед, вероятно, тоже.
После отбоя новобранцы моментально забылись тяжелым сном, а мы с Дидье и двумя другими бывшими отпускниками вышли покурить на воздух. Точнее, курили все остальные, а я только присутствовал, поскольку до сих пор не поддался этой вредной привычке. Брандт появился неожиданно, вынырнув из темноты.
– Не спится? Неужто не хватило?
Мы пожали плечами, чтобы не провоцировать его на ужесточение завтрашней программы. Но он был настроен благодушно и даже угостил курящих сигаретами. На долю мне досталась похвала, вторая за день. «Становишься фаворитом», – съязвил потом Дидье.
– Долго нас тут продержат? – спросил я Брандта.
– Черт его знает, всё зависит от обстановки на фронте. Сосунков бы следовало помучить еще месяца два, но это вряд ли. Раньше ведь как было – полгода в армии резерва, не меньше, сами помните. А теперь гонят свежее мясо чуть ли не сразу на фронт.
Мне показалось, что он вздохнул.
– Большие потери, ничего не поделаешь, – заметил Дидье.
– А от этого они еще больше. Так-то, бойцы.
Он ушел, и мы вернулись в барак.
Еще через день нас переодели в рабочие штаны и куртки из зеленого хлопка – чтоб не портить понапрасну суконный мундир и меньше страдать от жары. Брандт велел нацепить на них все наши регалии – «чтоб видно было, кто не сосунок», – и постарался уходить нас так, что после отбоя больше никто не курил. Откуда он только брал силы? Носился с нами как лось, разве что без выкладки, орал без перерыва, что-то объяснял, отчитывался перед Бандтке, снова носился, ползал по траве, швырял гранаты. Делал свое дело, бывшее своим далеко не для всех. Похоже, он был не таким уж плохим человеком. Во всяком случае, не занимался столь любимой младшими командирами ерундой, как выбрасывание в окно не вполне идеально заправленных коек, не орал по десять минут из-за неотчищенного пятнышка на одежде, не водил пальцем по подбородкам, чтобы проверить тщательность бритья. «Этому надо было дома учиться, а я учу войне», – сказал он как-то мне и Дидье. А что гонял до потери сознания, так тем, кто там уже побывал, оно лишним не казалось, на то он и учебный лагерь. «Учебный лагерь штурмовых групп, – уточнил однажды Брандт и добавил: – Готовьтесь к самому худшему».
Его пунктиком была чистота оружия. Мне и Дидье дважды перепадало от него за микроскопические остатки смазки, которые Брандт, посредством надетой на металлический прут белой тряпочки, обнаруживал в отдаленных глубинах наших винтовок. Что говорить о новобранцах? К орудиям смерти Брандт испытывал нежность, свойственную многим кадровым военным. Безразлично, к немецким, союзным или трофейным. Для нас это было благом. Он так любил поговорить о достоинствах и недостатках различных видов оружия, что мы элементарно могли отдохнуть. Особое внимание, разумеется, он уделял не очень знакомым новичкам русским системам.
– Эта винтовка калибра семь шестьдесят два миллиметра, – радостно выкрикивал он, – ровесница нашей, даже чуть старше. Вещь надежная, в случае чего можно использовать, хотя никакими преимуществами по сравнению с нашими не обладает, к тому же у нее совсем другой предохранитель, обратите внимание и поупражняйтесь.
И новобранцы по очереди тянули непривычные и неподатливые предохранители русских винтовок, стараясь продлить это развлечение как можно дольше – чтобы не носиться как угорелым по жаре, – а потом разбирали и собирали затворы.
– А вот это самозарядная винтовка «СВТ-40», – Брандт любил загадочные аббревиатуры, что также свойственно всем кадровым военным, да и не только им. – Любимый русский калибр – семь шестьдесят два. Слово «самозарядная» звучит соблазнительно, но русские ее не любят, несмотря на нехлопотное перезаряжание. Для них она больно капризна. Боится сырости, холода, песка, неделикатного обращения и вообще всего, что бывает на войне. Особенно, если солдат ленив и не приучен ухаживать за личным оружием. Мы попрактикуемся и с ней. Мало ли что может случиться, а в Крыму этого добра навалом.
И мы радостно практиковались с ненадежной, по мнению русских, автоматикой, радуясь, в частности, ее ненадежности, потому что будь она надежной, то при скорострельности сорок прицельных выстрелов в минуту нам пришлось бы совсем погано. А так, объяснил нам Брандт, русские и сами нередко бросают их, меняя на простую и безотказную старую модель.
– А вот это во всех отношениях ценная вещь! – восклицал Брандт в другой раз, потрясая дубинкой с деревянным прикладом, с упрятанным в дырчатый кожух стволом и с круглым диском посередине. – Называется «ППШ-41». У русских их не так уж много – и это хорошо. Пистолет-пулемет, семьдесят два патрона. Калибр, разумеется, семь шестьдесят два. Выглядит не так красиво, как наш «МП-40», но в деле гораздо лучше. Достоинства – хорошая дальнобойность, неплохая прицельность, надежность. Недостаток – слишком высокая скорострельность.
И, направив русский автомат, точнее пистолет-пулемет, на мишень, он информировал:
– Эта штука разряжается в пять секунд. Считайте до пяти! И – раз…
Я знал, как разряжается эта штука. Когда прошлой осенью живот и грудь Рольфа Крюгера в одно мгновенье превратились в кровавое месиво, тому было безразлично, недостатком или достоинством является ее скорострельность. Но она стала несомненным достоинством для его выживших товарищей – когда у увлеченного стрельбою русского внезапно закончился диск, мы подбежали и закидали его гранатами. Он лежал в изорванной осколками зеленой рубахе, глупо таращил глаза в осеннее блёклое небо, и мне вдруг подумалось, что, если меня убьют, я буду выглядеть не менее глупо.
Еще Брандт рассказывал о русских пистолетах – мало ли что попадется под руку, – пулеметах, противотанковых ружьях. Но главным оставалось другое – беготня по степи, ползание под пулями, преодоление проволочных заграждений и условных минных полей. В конце недели при метании гранат в соседнем взводе случилась первая потеря – был тяжело ранен зазевавшийся новобранец, сначала не сумевший швырнуть смертельную игрушку достаточно далеко, а потом не успевший залечь. Хорошо, что больше никто не пострадал, такое ведь тоже случалось. А на следующий день впал в прострацию Петер, всё время находившийся рядом со мной и Дидье. («Никак не отлипнет», – возмущался Хайнц.) Похоже, он был смертельно напуган случившимся накануне и в какой-то момент просто выпал из реальности, встал с полуоткрытым ртом и не мог уже сдвинуться с места. Оказавшийся поблизости командир учебной роты капитан Шёнер был в ярости.: «Вот ведь дерьмо, на первой неделе…» По счастью, это произошло под вечер. Брандт приказал нам с Дидье отвести Петера в барак, где мы не без труда и не без помощи пощечин привели его в чувство.
Это было первым симптомом. Петер с каждым днем становился всё мрачнее, ни с кем не говорил, ничего не успевал, опаздывал на построения. Его движения замедлились, в глазах поселились страх и тоска. Что-то должно было произойти, и оно произошло. Снова в конце дня, на исходе второй недели, во время штурма проволочных заграждений под пулеметным огнем. Брандт приказал рывком преодолеть небольшое пространство, отделявшее нас от неглубокой канавы, в которой можно было залечь и отдышаться. Улучив момент, когда огонь откатился в сторону, мы перебежали открытый участок и тяжело плюхнулись на песчаное дно. И уже там обнаружили отсутствие Петера. Обернувшись, увидели, что он стоит во весь рост, бросив винтовку на землю, и кричит непонятно что. Пулемет испуганно смолк. Брандт поднялся, подошел к Петеру и что-то ему сказал. Тот только покрутил головой. Брандт поискал меня и Дидье глазами, мы подбежали, но помочь не смогли, Петер попросту нас не увидел. Напрасно Брандт приказывал ему поднять оружие, орал, убеждал, спрашивал: «Ты понимаешь, что тебе конец, парень?» Всё было напрасно. Петер никого и ничего не слышал. Он кричал, проклинал, плакал. Узнавший об инциденте Шёнер, казалось, был удовлетворен таким исходом. Думается, его логика была следующей: лучше сразу кого-нибудь примерно наказать, чтоб другим неповадно было, чем дожидаться, когда придется наказывать – или отсеивать – сразу нескольких. Петер сломался вовремя.
Для отказников, которых называли «пацифистами», в лагере имелись особые деревянные клетки. Сидеть в них приходилось скрючившись, сверху палило солнце, еды не давали. Нам показали клетки в первый же день, но до Петера они пустовали.
Его случай совпал по времени еще с одним – мы видели, как вели солдата второй роты, судя по всему, не новобранца, который тоже отказался выполнить приказ и тоже бросил оружие наземь. Как и Петера, его поместили в клетку, но он ночью исхитрился удавиться. Петер не смог или не захотел, и на следующий вечер, возвращаясь в лагерь, мы проходили с песней мимо, стараясь не смотреть в его сторону.
На каждом утреннем построении нам сообщали сводки с фронта. В субботу, после фанфар, по радио прозвучала новость о начале наступления на Керченском полуострове. На следующий день стало ясно, что туда нам уже не поспеть, обойдутся без нас. Вечером, несмотря на усталость, возникли споры: будет ли наша армия после очистки восточной части Крыма сразу же переброшена на Кавказ или сначала покончит с Севастополем? И следовательно, где окажется наша дивизия и мы вместе с ней. Встал и другой вопрос: какой вариант подошел бы нам больше? Хайнц находил таковым севастопольский.
– Посудите сами, – рассуждал он, как всегда авторитетно. – Под Севастополем мы уже стоим, поэтому никуда идти не надо. Мы торчим там с прошлого года, так что терять нам нечего. Потеряем мы как раз, если уйдем, ведь худо-бедно обустроились. Когда его возьмем, упремся прямо в море и сможем передохнуть. А если переправимся на Таманский полуостров, – многие из нас уже усвоили новое географическое название, – придется наступать в глубь суши, быть может, до самого Каспия, и черт знает, когда всё это кончится. В лучшем случае пойдем на юг, вдоль моря. А горы на Кавказе повыше крымских. Может, кто из вас и альпинист, но лично я предпочитаю равнину.
Оппоненты его возражали:
– Севастополь – сильнейшая в мире крепость.
– Не сильнее Сингапура, а японцы Сингапуром овладели. Мы хуже?
– Так там ведь были британцы.
– А британцы, что, хуже русских?
Оказавшийся рядом Брандт заметил:
– Когда я слушаю Дидье, мне кажется, что он бывал где угодно, только не под Севастополем. Но я знаю, что он там был, и поэтому удивляюсь.
– Я по натуре своей домосед и не люблю слишком часто менять место жительства.
Брандт ухмыльнулся.
– Ну-ну.
В лагере нам оставалось пробыть последние несколько дней.
Путешествие с Грубером. Борисфенские музы
Флавио Росси
30 апреля – 1 мая 1942 года
Клаус Грубер оказался невысоким крепышом лет тридцати пяти, с густыми темными волосами и умным пытливым взором из-под очков в дорогой металлической оправе. Его выправка была военной, а рукопожатие твердым.
– Очень рад, – сказал он, – очень рад. Мне как раз не хватало попутчика, вам, полагаю, тоже. К тому же я неплохо знаю страну, а вы здесь впервые.
Офицерский мундир сидел на нем получше, чем на некоторых кадровых служаках. На плечах поблескивали разноцветными нитями погоны зондерфюрера группы В, что соответствовало чину армейского майора. Я не знал таких тонкостей, но он мимоходом просветил меня на этот счет, небрежно махнув рукой – какая, мол, ерунда.
Мы выпили кофе в компании капитана Хербста и очаровательной фрау Анны, после чего Хербст отправился на службу, а фрау Анна перешла в другую комнату. Раньше это помещение занимали ее соседи-евреи, тогда как в третьей комнате обитала семья партийного активиста – но, как объяснил мне Хербст, в прошлом году евреев выселили, активист исчез, и теперь Анна Владимировна занимала всю квартиру, прежде представлявшую, по ее рассказам, настоящий советский содом, так называемую «коммуналку», жизнь в которой для образованного человека совершенно невыносима.
Грубер достал из портфеля карту и объяснил мне будущий маршрут. Сначала мы должны были ехать на восток, до большого города на Днепре, где нам уже завтра предстояло принять участие в торжествах по случаю Дня труда, а затем оставаться еще несколько дней, разъезжая по окрестностям и попутно следя за развитием дел на фронте. Если ничего не случится на востоке, нам следовало направиться еще в один город, ниже по течению, где Грубер собирался прочесть ряд лекций перед местной общественностью, а мне рекомендовал посетить колоссальную речную плотину, взорванную русскими при отступлении и являвшую собою ныне великолепный пример азиатского варварства большевиков («К тому же там замечательный пейзаж»). И уже оттуда, через так называемый Перекоп, въехать в Крым, занятый одиннадцатой германской армией с приданными ей румынскими дивизиями.
– Вам будет интересно побывать и на празднике, и на лекциях, – заверил меня Грубер. – Составите представление о здешней, – он усмехнулся, – элите. Весьма поучительно. Заодно попрактикуетесь в русском, вы ведь его изучали? Кстати, я слышал о вашей необыкновенной способности точно воспроизводить любую фразу на любом языке.
Его осведомленность меня насторожила. О чем он слышал еще – и главное, от кого? Неужто Тарди выслал им мою подробную характеристику – или они сами собирали информацию? И, спрашивается, зачем? Просто так, на всякий случай? И какое ведомство всем этим занималось?
Я ответил:
– Да, что есть, то есть. Этакий попугайский талант. Причем совершенно не понимая смысла.
Он сказал что-то по-русски. Я повторил. Грубер рассмеялся. Вернувшаяся в комнату фрау Анна тоже произнесла несколько слов. Я повторил и их.
– А ви непогано розмовляєте українською мовою! – заметила она, явно обращаясь к мне.
– Что вы сказали? – растерялся я.
– То, что вы неплохо говорите по-украински, – объяснил Грубер.
– Я училась этому дольше, – заметила фрау Анна. – Иначе бы коммунисты не взяли меня на службу.
Я не понял, что она имела в виду.
Мы выпили еще по чашке кофе, простились с милой хозяйкой и, захватив мои вещи, спустились вниз, где нас дожидались «Мерседес» Грубера и водитель – ефрейтор по имени Юрген, долговязый и простоватый с виду парень, судя по акценту и отдельным словечкам – баварец или австриец. Сам Грубер, кстати, был вюртембержцем и обитал перед войною в Штутгарте.
Мы выехали с обсаженного тополями двора, миновали оцепленную войсками и полицией станцию – туда под музыку и бодрый лай собак стекались новые толпы отъезжавших в рейх работников, – и вырулили на сравнительно широкую дорогу. «В добрый путь!» – сказал по-русски Грубер. Наше путешествие началось.
Зондерфюрер оказался интересным человеком. Возможно, чересчур разговорчивым, но на первых порах это не смущало, напротив, я получал от него массу полезных сведений.
Наш «Мерседес» почти без остановок катил по шоссе, обгоняя колонны грузовиков, танков, подразделения пехоты, вереницы повозок и пушки на конной тяге. Отобедав по пути, мы ближе к вечеру достигли цели – того самого большого города, о котором поутру говорил Грубер. Там мы неплохо поужинали в компании двух офицеров-пропагандистов, не злоупотребив, к моей радости, алкоголем, и разошлись по номерам в аккуратной военной гостинице. Я принял ванну и наконец-то, впервые за несколько дней, сумел по-людски отдохнуть. В одиночестве, уюте и имея достаточно времени на сон. От симпатичной девушки из гостиничной прислуги, уверенно и даже завлекательно застелившей мою постель, я откупился благодарной улыбкой, сопроводив ее парой советских и оккупационных бумажек, которыми располагал в изобилии. Полагаю, она оценила итальянскую галантность и бескорыстие.
На следующий день, уже довольно поздно, я был разбужен ликующим пением фанфар, вослед которому слаженный хор мужчин принялся оповещать окрестности, что знамя поднято, ряды сомкнуты, СА марширует, а товарищи, застреленные Красным фронтом и реакцией, маршируют вместе с живыми. Я отдернул штору и нехорошо подумал про человека, установившего репродуктор напротив моего окна. С другой стороны, грех было жаловаться, наступило первое мая, а часы показывали девять.
Я сделал зарядку, принял холодный душ, побрился и вышел в коридор. Настроение было великолепным. Попавшаяся мне по пути вчерашняя горничная, с чуть помятой прической, смазанной помадой, не вполне выспавшаяся, но вполне довольная, получила от меня в качестве праздничного подарка легкий шлепок по выпуклому заду и несколько новых бумажек. В зеленых глазках промелькнуло восхищение. Похоже, скаредные немцы приучили ее отрабатывать каждую марку, а сталинские большевики – каждый рубль.
– Доброе утро! – приветствовал меня Грубер, тоже вышедший в коридор, уже одетый и готовый следовать дальше. – Угадайте с трех раз, куда мы направимся?
– Полагаю, в ресторан.
– Само собой. А потом?
Я затруднился ответить, ожидая подвоха. Он рассмеялся.
– Правильно, всё равно не догадаетесь. Лично я бы не смог. Нас ждет городская школа, мы приглашены на праздничный концерт. Берите аппаратуру и все, что вам может понадобиться. Думаю, такого репортажа в итальянской прессе еще не бывало.
Я тоже подумал, что такого рода событий наша печать пока не освещала. Хотя за всем не уследишь, а я и не пытался.
Школа, куда мы подъехали после завтрака в ресторане, представляла собой приземистое двухэтажное строение, в котором, как нам объяснили, до революции располагалась женская гимназия – пока коммунисты не покончили с классическим образованием, сделав его «политехническим»; это когда всего помаленьку, никакой латыни и очень много идеологии, побольше, чем в Италии. Всю дорогу нас сопровождала музыка из репродукторов. Улицы, по которым двигалось наше авто, были украшены транспарантами с кириллическими, латинскими и готическими надписями, портретами фюрера, а также цветами и пестрыми ленточками. Красными, белыми, удивительно, что не черными. Кое-где среди цветков мелькали – то порознь, то в паре – синие и желтые. В этом содержался некий тайный смысл, иначе бы Грубер не строил каждый раз, замечая их, крайне насмешливой мины. Он хотел объяснить мне, в чем дело, но не успел.
На пороге школы, под огромным красно-белым транспарантом, прославляющим победы германского оружия и созидательный труд во имя освобождения от большевизма, нас встретил человек, внешне напоминавший моего спутника. Тоже невысокий и плечистый, однако довольно забавно одетый – в пиджачную пару в сочетании с вышитой цветными нитками крестьянской сорочкой. Его плутоватое лицо украшали пышные усы, делавшие его похожим на русского казака из повести Николая Гоголя, читанной мною незадолго до отъезда в Россию. Он представился директором и, поскольку недостаточно бойко говорил по-немецки, поспешил передоверить нас даме, которую назвал «заведующей учебной частью», короче говоря – заместителем. Даме было сильно за пятьдесят, держалась она уверенно, я бы сказал, монументально, и чем-то неуловимо напоминала Муссолини, произносящего очередную историческую речь на площади Венеции. К сожалению – впрочем, для кого? – ее несколько портила странная прическа в виде обернутой вокруг головы толстой косы пшеничного цвета, более подходившая нетронутой сельской девице, чем столь почтенной женщине на столь почтенной должности. Похоже, советский режим неблагоприятно сказался на русской моде, сместив смысловые акценты и всё перемешав. Победы германского оружия мало что могли тут изменить.
– Юлия Витольдовна Портникова, – с достоинством произнесла она, протягивая руку, которую Грубер и я по очереди пожали.
Мы вошли в здание и двинулись по узкому коридору. Из-за прикрытых дверей доносилась негромкая музыка, раздавались приглушенные детские голоса, в столовой гремела посуда, подготовка шла полным ходом. В актовом зале на поставленных рядами стульях расположились приглашенные. Двое были в серых, двое в серо-зеленых и один в коричневом мундире, прочие – в цивильных пиджаках, а то и просто в крестьянских сорочках вроде той, какую я увидел на директоре. Последний тоже вертелся тут, негромким голосом отдавая распоряжения. Фрау Юлия хотела усадить нас среди самых почетных гостей, но Грубер предпочел устроиться сзади, чтобы видеть всё и всех. Она присела рядом и, наклонившись ко мне, указала пальцем в сторону детишек, чинно сидевших на скамейках вдоль стен.
– Мои цветочки, я бы сказала, цветы жизни. Обратите внимание – ни одного чернявого носача. Наконец-то в нашей школе мы можем видеть только русые головки русских ребят.
– Русских? – переспросил я, раскрывая блокнот.
– Украинских, – поправилась она. – Настоящих украинских мальчиков и девочек, которые учатся в возрожденной украинской школе. Вы успеваете записывать?
Я кивнул, и она продолжила:
– Они счастливы, никто не морочит им больше головы коммунистической пропагандой. Отныне ничего лишнего: арифметика, чтение… – Она задумалась, словно бы соображая, что еще изучают настоящие украинские мальчики и девочки. – Да, отныне всё сосредоточено на самом главном… – Она вновь потерялась, но быстро нашлась. – Помимо старых, так сказать, традиционных предметов, мы приобщаем их к подлинной европейской культуре, прежде всего, разумеется, к великой культуре германского народа, этой сокровищнице мирового духа. Шиллер, Гёте… К итальянской культуре тоже. Данте, Петрарка…
Не знаю почему, но в последнем я усомнился. Однако вежливо произнес:
– Это стоит отметить.
– Обязательно отметьте. Я была бы очень рада. Мы будем счастливы развивать всемерные связи с вашей родиной. История итальянско-украинских отношений невероятно богата. Одесса, порто-франко… А сейчас извините, мне надо идти, мы начинаем.
Оставив нам красивую кожаную папку, она твердым шагом направилась к своим «цветочкам». Вертевший головой Грубер весело хмыкнул. Я проследил за его взглядом и увидел, что у нас за спиной – точно напротив портрета фюрера, украшавшего противоположную сторону зала, – висит, в обрамлении вышитых полотенец, портрет усатого субъекта в сюртуке и с похмельной тоской во взоре.
– Кто это? – спросил я шепотом. Грубер со значением поднял указательный палец.
– Местный святой. Вроде Ленина. Только тот теперь в отставке, а этот висел еще при царе и, похоже, перевисит тут всех.