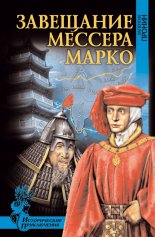Знаменитые русские о Риме Кара-Мурза Алексей
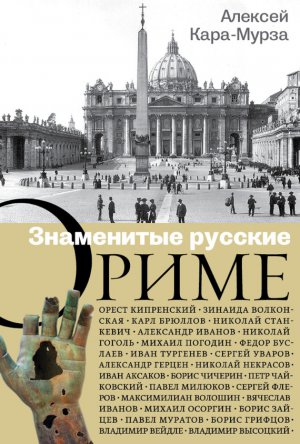
Среди художников в Риме Иванов близко подружился лишь с гравером по меди Федором Ивановичем Иорданом, будущим ректором Академии художеств, живущим на втором этаже («в бельэтаже») дома на углу Via Sistina и сегодняшней Via Francesco Crispi (раньше этот участок улицы входил в Capo le Case). Близка была А. Иванову и группа немецких художников во главе с Иоганном-Фридрихом Овербеком. Эти художники, называвшие себя назарейцами, писали картины на религиозные темы; их кумиром в живописи был А. Дюрер.
Имея первым заданием копирование фрески Микеланджело «Адам» («Сотворение человека») из Сикстинской капеллы, Иванов получил наконец разрешение работать в Ватикане. Однако работа шла медленно: частые церемонии в Сикстинской капелле, требовавшие всякий раз уборки установленных художником высоких лесов, тормозили дело. Свободное время Иванов посвящал написанию картины «Аполлон, Кипарис и Гиацинт, занимающиеся музыкой и пением». Видевшие ее римские мэтры Винченцо Каммучини (ректор Академии Сан-Лука) и датский скульптор Бертель Торвальдсен давали свои советы. Видимо, в 1832 г. Иванову впервые пришла мысль о большой картине на библейскую тему – об этом говорят отрывочные заметки в письмах и записных книжках:
«Занялся я отысканием для себя сюжета: прислушивался к истории каждого народа, прославившего себя деяниями…»
Сообщая о результатах этих поисков Обществу поощрения художников, Иванов писал, что решил остановиться на первом появлении Христа, «откровением коего начался день человечества, нравственного совершенства…».
А. Иванов: «Прекрасный сюжет, когда Иоанн бросился порицать фарисеев и книжников при всем народе. Смятение этих подлецов, удивление народа твердости Иоанна и воспламенение его духом целого общества… Нужно представить в моей картине лица разных сословий, разных безутешных, вследствие разврата и угнетения от… светских правительственных лиц, вследствие подлостей, какие делали сами цари иудейские, подласкиваясь к римлянам, чтобы снискать подтверждения своего на троне… Страх и робость от римлян и проглядывающее горестное чувство, желание свободы и независимости…»
Для работы над «Явлением Мессии» Иванов долгое время добивался разрешения на поездку в Палестину, но после того как в этом было отказано, стал больше путешествовать по самой Италии: в 1834 г. объехал Болонью, Феррару, Венецию, Падую, Виченцу, Верону, Брешию, Бергамо, Милан, Парму. Часто посещал он и римское еврейское гетто, где делал наброски человеческих типов. В 1835 г. появляются первые эскизы «Явления Христа народу».
В качестве подготовки для грандиозного труда Иванов написал в 1834–1835 гг. большую картину «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения». Картина была выставлена в мастерской художника, затем в Капитолии, позже отослана в Петербург, где Общество поощрения художников преподнесло ее государю. За эту работу Иванову было присвоено звание действительного члена Академии художеств – он отреагировал с присущей ему скромностью:
«Как жаль, что меня сделали академиком; мое намерение было никогда никакого не иметь чина…»
После отъезда К. Брюллова и Ф. Бруни в Петербург и смерти О. Кипренского Иванов оказался на правах старшего в русской колонии художников. В 1837 г. он совершил новую поездку в Ассизи, Орвиетто, Ливорно, Флоренцию и другие города Тосканы; годом позже посетил Милан и Венецию. С 1837 г. А. Иванов живет и работает в Риме в квартире-мастерской по адресу: Vicolo del Vantaggio, № 5, недалеко от Piazza del Popolo и набережной Тибра (сегодня на фасаде дома установлена мемориальная доска).
В 1838 г. Иванов впервые познакомился в Риме с Николаем Васильевичем Гоголем, который жил неподалеку – на Strada Felice, № 126 (теперь Via Sistina); с того времени и многие годы они будут очень близки и почти ежедневно будут встречаться в популярном в квартале художников «Caffe Greco» у Испанской лестницы и трактире «Falcon» недалеко от Пантеона.
Александр Иванов, которого Гоголь звал «il carissimo ‹дражайшим› signore Alessandro», стал прототипом Писателя во второй редакции гоголевского «Портрета».
Позднее Гоголь посвятит другу-художнику очерк «Исторический живописец Иванов», вошедший в состав «Выбранных мест из переписки с друзьями». Именно Гоголь натолкнул Иванова на мысль заняться изображением сцен уличной жизни Рима. В конце 30-х – начале 40-х годов появляется целый ряд таких акварелей: «Жених, выбирающий серьги для невесты» (1838); «Ave Maria» (1839), где изображено характерное для тогдашнего Рима пение по вечерам молитв на улицах перед образом Мадонны; серия рисунков 1842 г., изображающих эпизоды октябрьского праздника в Риме – «Сцена в лоджии», «У Монте Тестаччо», «У Понте Молле». Иванов сделал два портрета Гоголя масляными красками; один из них Гоголь подарил Жуковскому, другой – Погодину. Гоголь часто водил в мастерскую Иванова в переулок Вантаджио своих друзей, приезжающих из России. Один из них, М. П. Погодин, оставил воспоминания:
«25 марта 1839 года Гоголь повел нас в студию русского художника Иванова – это новое для нас зрелище. Мы увидели в комнате Иванова ужасный беспорядок, но такой беспорядок, который точно дает знать о принадлежности своей художнику. Стены исписаны разными фигурами, которые мелом, которые углем; вот группа, вот целый эскиз. Там висит прекрасный дорогой эстамп; здесь приклеен или прилеплен какой-то очерк. В одном углу на полу валяется всякая рухлядь, в другом – исчерченные картины. В середине господствует на огромных подставках картина, над которой трудится художник.
Сам он в простой холстинной блузе, с долгими волосами, которых он не стриг, кажется, года два, с палитрой в одной руке, с кистью в другой, стоит одинехонек перед нею, погруженный в размышление. Вокруг него по всем сторонам лежит несколько картонов с его корректурами, т. е. с разными опытами представить то или другое лицо, разместить фигуры так или иначе. Повторяю: это явление было для нас совершенно ново и разительно…»
В декабре 1839 г. Рим посетил наследник русского престола, цесаревич Александр Николаевич – будущий император Александр II. Русские художники, и среди них Иванов, принимали его в своих мастерских. Для этого, по воспоминаниям Иванова, все они вынуждены были сбрить усы и бороды и сменить «полуразбойничье платье». Цесаревич явно выделил Иванова из общего числа русских художников и позднее помогал с субсидиями на продолжение его работы.
Болезнь глаз заставляла А. Иванова периодически останавливать работу над «Явлением Мессии» и ездить лечиться во флорентийские или австрийские клиники. Однако при первой возможности Иванов восстанавливает прежний распорядок дня: подъем в пять, работа до двенадцати, двухчасовой перерыв и далее опять работа до наступления глубоких сумерек.
Материальное положение А. А. Иванова в Риме в 40-е годы было весьма тяжелым. Поля многих его рисунков испещрены столбиками цифр домашних расходов. Собственно, траты его на себя были небольшими: комнату в Риме можно было нанять всего лишь за пять-шесть скудо в месяц (скудо равнялся тогда полутора русским серебряным рублям). Обед обходился в шестьдесят – семьдесят скудо в месяц. Но основные траты шли на саму работу. Огромная студия на Вантаджио стоила Иванову 1200 рублей в год. Дороги были и натурщики: Иванов ставил сразу по несколько натурщиков («ансамбли»), и каждый из натурщиков стоил до пяти рублей в день. Таким образом, работа над «Явлением Христа народу» стоила А. Иванову до трех тысяч рублей в год. Биограф художника, М. А. Алпатов, писал:
«В старых римских дворцах, где помещались банкирские конторы Торлония и Валентини, можно было часто видеть странную фигуру русского живописца в черной крылатке и в широкой, надвинутой на уши шляпе, который по многу раз безуспешно наведывался о денежных переводах, а когда они наконец приходили, огорченно разводил руками, так как вместо ожидаемой суммы присылалась только ее малая частица, которой едва хватало на покрытие долгов».
В 1844 г. в Рим приехал архитектор Константин Андреевич Тон, которому император поручил руководить строительством храма Христа Спасителя в Москве. Одно время Тон собирался поручить Иванову создание огромного запрестольного образа на тему Воскресения, и художник, сильно нуждавшийся в средствах, принялся за написание эскизов. От общего же проекта храма Иванов никогда не был в восторге: «Строят какой-то колоссальный шкап…» Вскоре, однако, заказ был передан К. Брюллову, а Иванову предложили выполнить эскизы для фигур евангелистов в медальонах храма. Многие друзья, в том числе Гоголь, Чижов, Моллер, советовали Иванову согласиться хотя бы из материальных соображений. Однако Иванов, вообще не любивший казенную живопись, отказался. Вспоминая позже об этом деле, он почти с брезгливостью писал, что его «чуть было не сманили».
В конце 1845 г. студию художника посетил император Николай I и вроде бы остался доволен его работой. А весной 1846 г. в Рим приехал брат Иванова – Сергей, пенсионер Академии художеств по архитектуре. Он работал в той же квартире-мастерской в переулке Вантаджио. Обедали братья обычно вместе в том же трактире «Falcon»; по воскресеньями вместе осматривали римские древности.
Всю первую половину 1846 г. А. Иванов неизменно проводил вечера у Гоголя в его квартире на четвертом этаже в доме на углу Via della Сrосе и Via Mario de Fiori, известном в Риме как палаццо Понятовского (дом сохранился). Примерно в те же месяцы Иванов окончательно запер свою студию от посторонних. Единственным исключением был Гоголь, который активно участвовал в обсуждении композиции и деталей «Явления Мессии». Известно, например, что Гоголь советовал Иванову заменить фигуру раба на другой вариант – с бритой головой, с клеймом на лбу, с кривым глазом, с веревкой, завязанной узлом на шее. Но Сергей Иванов уговорил брата остановиться на том варианте, который и стал окончательным. В свою очередь, есть версия, что Иванов изобразил на своей картине самого Гоголя – это фигура «ближайшего к Христу» в красном плаще в правом верхнем углу картины.
В самом конце 1847 г. Иванов знакомится с Александром Ивановичем Герценом, который приехал в становящуюся все более революционной Италию и поселился в Риме на Corso. Герцен вспоминал о встречах с А. Ивановым в 1848 г.:
«Настал громовый 1848 год. Иванов плотнее запирался в своей студии, сердился на шум истории, не понимал его, я сердился на него за это. К тому же он был тогда под влиянием восторженного мистицизма и своего рода эстетического христианства. Тем не менее, иногда вечером Иванов приходил ко мне из своей студии и всякий раз, наивно улыбаясь, заводил речь именно о тех предметах, в которых мы совершено расходились».
Настороженно отнесся Иванов и к провозглашению в феврале 1849 г. Римской республики во главе с Мадзини, Гарибальди, Саффи, Армелини. О своих настроениях Иванов откровенно писал Гоголю в мае 1849 г.:
«Каждый день ожидаешь тревоги. Люди, теперь здесь во главе стоящие, грозятся все зажечь и погребсти себя под пеплом. При таких условиях, конечно, уже невозможно продолжать дело, требующее глубоко сосредоточенного спокойствия. Я, однако ж, креплюсь в перенесении столь великого несчастия, и только что будет возможно, то опять примусь за окончание моей картины».
В те месяцы Иванов еще более уединяется в своей мастерской. В 1851 г. он в очередной раз пишет Гоголю:
«Вы спрашиваете о моей жизни вне студии. Вне студии я довольно несчастен, и если бы не студия, то давно был бы убит… Я почти ни с кем не знаком и даже почти оставил и прежних знакомых. Я, так сказать, ежедневно болтаюсь между двумя мыслями: искать знакомства или бежать от него? И, вися в середине, кое-как разговариваю с людьми, всегда имея к ним всевозможную снисходительность и ища их расположения, как необходимости для меня же. Как ни странно это положение, но вместе и утешительно; никогда я не был так наблюдателен, как теперь».
В письмах Иванова тех лет все чаще звучат нотки отчаяния. «Чувствую лавину», – признается он, а свои страдания сравнивает с Голгофой. «Я теперь гляжу на жизнь как на каторжную работу», – пишет он в другом письме. Даже ночью его тревожат кошмарные сновидения: он видит во сне, как возвращается в Петербург, так и не окончив картины. В титанической работе по завершению «Явления Христа народу» проходит еще несколько лет. Молодой литератор П. М. Ковалевский, познакомившийся с Ивановым в 1856 г., описал его:
«Это был человек одичалый, вздрагивающий при появлении всякого нового лица, раскланивавшийся очень усердно с прислугой, которую принимал за хозяев, – человек с движениями живыми и глазами бегавшими, хотя постоянно потупленными в землю».
В первый раз после большого перерыва А. Иванов открыл свою студию в 1857 г. для вдовствующей императрицы Александры Федоровны, которая была восхищена картиной и дала денег для нового лечения глаз – благодаря этой помощи Иванов смог посетить известные клиники в Вене и Интерлакене. После этого мастерская была открыта для публики. «Кто мог бы подумать, Иванов нас надул!» – воскликнул при виде картины глава римской группы «назарейцев», немецкий художник И.-Ф. Овербек, когда-то видевший робкое начинание и теперь пораженный грандиозностью результата.
Картина А. А. Иванова «Явление Христа народу» произвела в Риме большое впечатление; в мастерскую на Вантаджио началось буквально паломничество – художников-коллег, римских сановников, праздных туристов… В конце 1857 г. мастерскую Иванова посетил проводивший ту зиму в Риме писатель Иван Сергеевич Тургенев, с которым они подружились. Тургенев потом писал П. Анненкову:
«Познакомился я здесь с живописцем Ивановым и видел его картину. По глубине мысли, по силе выражения, по правде и честной строгости исполнения вещь первоклассная. Недаром он положил в нее 25 лет своей жизни… Остальные здешние русские артисты – плохи. Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и „все“ дрянь, а сам чепуху пишет; знаем мы эту поганую рассейскую замашку. Невежество их всех губит. Иванов – тот, напротив, замечательный человек; оригинальный, умный, правдивый и мыслящий, но мне сдается, что он немножко тронулся: 25-летнее одиночество взяло свое. Не забуду я (но это непременно между нами), как он, во время поездки в Альбано, вдруг начал уверять Боткина и меня – весь побледневши и с принужденным хохотом, – что его отравливают медленным ядом, что он часто не ест и т. д. Мы очень часто с ним видимся; он, кажется, расположен к нам».
В 1858 г. после двадцативосьмилетнего отсутствия Александр Андреевич Иванов возвратился в Россию. В официальных кругах картину встретили довольно холодно, придав ей гораздо меньшее значение, чем «Последнему дню Помпеи» Карла Брюллова или «Медному змию» Федора Бруни. Иванов сильно переживал, в те дни заразился холерой и, проболев неделю, скончался в Петербурге 15 июля 1858 г., пробыв на родине немногим более месяца.
Брат А. А. Иванова, Сергей Андреевич Иванов, скончался в Риме в 1877 г. и был похоронен на кладбище для иностранцев Тестаччо.
Николай Васильевич Гоголь
Николай Васильевич Гоголь (1.04.1809, Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губ. – 21.02.1852, Москва) – писатель. Впервые приехал в Рим 26 марта 1837 г. для продолжения работы над начатыми в швейцарском городке Веве, а потом в Париже «Мертвыми душами». Вместе со своим другом Иваном Федоровичем Золотаревым, выпускником Дерптского университета, Гоголь снял две комнаты у домовладельца Джованни Мазуччи по адресу: Via di San Isidore, № 16. (В этом же квартале у того же хозяина снимали ранее комнаты другие знаменитые русские – художник Орест Кипренский, скульптор Самуил Гальберг и т. д.) В письме другу детства и юности Александру Семеновичу Данилевскому, которого Гоголь ждал в Риме, он подробно описал, как его разыскать:
«Прежде всего найди церковь святого Исидора, а это вот каким образом сделаешь. Из Piazza di Spagna подымись по лестнице на самый верх и возьми направо. Направо будут две улицы; ты возьми вторую; этой улицею ты дойдешь до Piazza Barberia. На эту площадь выходит одна улица с бульваром. По этой улице ты пойдешь все вверх, покамест не упрешься в самого Исидора, который ее и замыкает; тогда поверни налево. Против самого Исидора есть дом № 16, с надписью над воротами: Арраrtement теиbl ‹меблированные комнаты – фр.›. В этом доме живу я…»
В данном описании легко узнаются и Испанская лестница, и идущая направо от церкви Тринита деи Монти улица Систина (еще правее остается улица Грегориана), и площадь Барберини. Во времена Гоголя Via San Isidoro начиналась сразу от площади Барберини и проходила через не существующую сегодня площадь Капуцинов; позднее ее начальная часть (та самая «улица с бульваром») вошла в проложенную сравнительно недавно Via Veneto. Улицу San Isidoro многократно перестраивали – сегодня большую ее часть составляет крутая лестница к старому монастырю. Дом напротив Св. Исидора, где весной 1837 года Гоголь написал две первые главы «Мертвых душ», сохранился, хотя и в перестроенном виде. Сегодня на территории старого монастыря расположился Ирландский францисканский колледж, а приходская церковь перенесена внутрь дома, где и жил когда-то Гоголь.
По мнению И. Золотарева, жизнь на Via San Isidore была лучшей порой в жизни Гоголя: веселый, разговорчивый, он был охвачен красотой римской природы и великолепных памятников искусства, которыми был окружен. До какой степени Гоголь был тогда увлечен Римом, свидетельствует один эпизод весны 1837 г., рассказанный Золотаревым:
«Первое время, от новости ли впечатлений, от переутомления дорогой, я совершенно лишился сна. Пожаловался я на это как-то Гоголю. Вместо сочувствия к моему тяжелому положению он пришел в восторг. „Как ты счастлив, Иван, – воскликнул он, – что не можешь спать!.. Твоя бессонница указывает на то, что у тебя артистическая натура, так как ты приехал в Рим, и он так поразил тебя. И после этого ты еще не будешь себя считать счастливым!“ Убеждать в действительной причине моей бессонницы великого энтузиаста, целые дни без отдыха проводившего в созерцании римской природы и памятников вечного города, я счел бесполезным».
Через несколько лет Гоголь сам будет страдать в Риме бессонницей. Но причина ее будет иной: по свидетельству П. В. Анненкова, Гоголь, переживший тяжелейшую болезнь, потеряет сон, мучимый страхом внезапной смерти. Пока же, весной 1837 г., Гоголь писал о своих первых римских впечатлениях Данилевскому:
«Что сказать тебе вообще об Италии? Мне кажется, как будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр, марающие платья мелом; старинные подсвечники и лампы в виде церковных. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет… Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить».
Еще во Франции Гоголь узнал о гибели Пушкина, но эта трагедия, ставшая для него личной, не оставляет его и в Риме.
«Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему, – писал он из Рима М. П. Погодину. – И теперешний труд мой ‹„Мертвые души“› есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он, угадывал, что будет нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди! Что труд мой? Что теперь жизнь моя? Ты приглашаешь меня ехать к вам. Для чего? не для того ли, чтобы повторить вечную участь поэтов на родине!.. Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей отчизны? Но ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить, нет, слуга покорный. В чужой земле я готов все перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дело. Но в своей – никогда. Мои страдания тебе не могут быть вполне понятны. Ты в пристани, ты, как мудрец, можешь перенести и посмеяться. Я бездомный, меня бьют и качают волны, и опираться мне только на якорь гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы. Сложить мне голову свою не на родине…»
Между тем очень скоро дали о себе знать материальные трудности.
«Сижу без денег, – писал Гоголь Данилевскому. – Я приехал в Рим только с двуястами франками, и если б не страшная дешевизна и удаление всего, что вытряхивает кошелек, то их бы давно уже не было. За комнату, то есть старую залу с картинами и статуями, я плачу тридцать франков в месяц, и это только одно дорого. Прочее все нипочем. Если выпью поутру один стакан шоколаду, то плачу немножко больше четырех су, с хлебом, со всем. Блюда за обедом очень хороши и свежи, и обходится иное по 4 су, иное по 6. Мороженого больше не съедаю, как на 4; а иногда на 8. Зато уж мороженое такое, какое и не снилось тебе. Не та дрянь, которую мы едали у Тортони… Теперь я такой сделался скряга, что если лишний байок (почти су) передам, то весь день жалко…»
В какой-то момент отсутствие денег (на фоне относительного благополучия окружающих его русских художников-стажеров) заставляет Гоголя просить помощи у Василия Андреевича Жуковского, близкого к императору Николаю:
«Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин… Я дорожу теперь минутами моей жизни потому, что не думаю, чтобы она была долговечна; а между тем я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду. Но чуть ли это не правда. Будь я живописец, хоть даже плохой, я был бы обеспечен. Здесь в Риме около пятнадцати человек наших художников, из которых иные рисуют хуже моего: они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры – я был бы обеспечен: актеры получают по 10 000 и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель – и потому должен умереть с голоду… Если бы мне такой пансион, какой дается воспитанникам Академии художеств, живущим в Италии, или хоть такой, какой дается дьячкам, находящимся здесь при нашей церкви, то я бы протянулся, тем более что в Италии жить дешевле. Найдите случай и средство указать как-нибудь государю на мои повести: „Старосветские помещики“ и „Тарас Бульба“…»
По протекции Жуковского Николай I удовлетворил просьбу Гоголя и пожаловал ему пять тысяч рублей.
Наслышанный о римской летней жаре («собаки кричат, бродя по улицам»), Гоголь в июне 1837 г. уезжает из Рима на немецкие и швейцарские курорты – принимать ванны и пить холодные минеральные воды для лечения желудочной болезни, мучившей его всю жизнь. Однако он скучает по Риму, о чем пишет буквально в каждом письме родным и друзьям:
«Я почти с грустью расставался с Италией. Мне жалко было на месяц оставить Рим. И когда при въезде в северную Италию на место кипарисов и куполовидных римских сосен увидел я тополи, мне сделалось как-то тяжело. Тополи стройные, высокие, которыми я восхищался бы прежде непременно, теперь показались мне пошлыми… Вот мое мнение: кто был в Италии, тот скажи „прости“ другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю» (из Баден-Бадена); «Я соскучился страшно без Рима. Там только я был совершенно спокоен, здоров и мог предаться моим занятиям. Мутно и туманно все кажется после Италии. Прежние синие горы теперь кажутся серыми, все пахнет севером после нее…» (из Женевы).
В октябре 1837 г. Гоголь возвращается из Швейцарии в Рим.
«Наконец я вырвался, – писал он Жуковскому. – Если бы вы знали, с какою радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр – все это мне снилось. Я проснулся опять на родине… Как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все. Гляжу, как исступленный, на все и не нагляжусь до сих пор. Вы говорили мне о Швейцарии, о Германии и всегда вспоминали о них с восторгом. Моя душа также их приняла живо, и я восхищался ими даже, может быть, с большею живостью, нежели как я въехал в первый раз в Италию. Но теперь, когда я побывал в них после Италии, низкими, пошлыми, гадкими, серыми, холодными показались мне они со всеми их горами и видами, и мне кажется, как будто я был в Олонецкой губернии и слышал медвежее дыхание северного океана».
На этот раз Гоголь поселяется в трех небольших комнатах по адресу: Strada Felice, № 126, третий этаж. Эту улицу прорубили среди виноградников в конце XVI в. по распоряжению Папы Сикста V и застроили очень быстро, ибо по высочайшему указу новым домовладельцам предоставлялись большие льготы. Дом Гоголя, где он подолгу жил и работал в 1837–1842 гг., сохранился, хотя улица теперь называется Via Sistina. (В 1901 г. русская колония в Риме установила на этом доме мраморную мемориальную доску.)
Третий (тогда – последний) этаж дома № 126 по улице Феличе принадлежал некоему синьору Джузеппе Челли; его служанка Нанна прислуживала и Гоголю – ее неряшливость и простота обращения с Гоголем шокировали приезжавших из России гостей. Дом в целом принадлежал синьору Паоло Кочча – он сдавал его поэтажно, а арендаторы этажей уже сдавали квартиры жильцам. Внизу перед входом в дом находилось небольшое стойло для ослов, пронзительный крик которых нередко будил Гоголя. Позднее литературный критик и мемуарист Павел Васильевич Анненков, некоторое время проживший в соседней с Гоголем комнате, описал жилище Гоголя на Страда Феличе, 126:
«Комната Николая Васильевича была довольно просторна, с двумя окнами, имевшими решетчатые ставни изнутри. Обок с дверью стояла его кровать, посередине большой круглый стол; узкий соломенный диван рядом с книжным шкафом занимал ту стену ее, где пробита была другая дверь… У противоположной стены помещалось письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя. По бокам бюро – стулья с книгами, бельем, платьем в полном беспорядке. Каменный мозаичный пол звенел под ногами, и только у письменного бюро да у кровати разостланы были небольшие коврики. Ни малейшего украшения, если исключить ночник древней формы, на одной ножке и с красивым желобком, куда наливалось масло. Ночник или, говоря пышнее, римская лампа стояла на окне, и по вечерам всегда только она одна и употреблялась вместо свечей. Гоголь платил за комнату 20 франков в месяц…»
В 30-е годы в Риме обосновалась группа русских художников, командированных туда Академией художеств. Гоголь сблизился с некоторыми из них, особенно с Александром Андреевичем Ивановым, Федором Антоновичем Моллером и Федором Ивановичем Иорданом. Художник-гравер Ф. И. Иордан, будущий ректор Российской Академии художеств, живший совсем рядом с Гоголем (на перекрестке Via Felice и Capo le Case), вспоминал о встречах с Гоголем в Риме в то время:
«В Риме у нас образовался свой особый кружок, совершенно отдельный от прочих русских художников. К этому кружку принадлежали Иванов, Моллер и я; центром же и душою всего был Гоголь, которого мы все уважали и любили. Иванов к Гоголю относился не только с еще большим почтением, чем мы все, но даже (особенно в тридцатых и в сороковых годах) с каким-то подобострастием. Мы все собирались всякий вечер на квартире у Гоголя, по итальянскому выражению, „alle ventire“ (в 23-м часу, т. е. около 7? часов вечера), обыкновенно пили русский хороший чай и оставались тут часов до девяти или до десяти с половиной – не дольше, потому что для своей работы мы все вставали рано, значит, и ложились не поздно. В первые годы Гоголь всех оживлял и занимал».
В Риме Гоголь попадает и в круг княгини Зинаиды Александровны Волконской, часто посещает апартаменты Волконской в палаццо Поли у фонтана Треви, а также виллу Волконской недалеко от базилики San Giovanni in Laterano (сегодня здесь расположена резиденция посла Великобритании). П. Анненков свидетельствует:
«На даче княгини 3. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он ‹Гоголь› ложился спиной на аркаду „тогатых“, как называл древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью».
Польские католические ксендзы П. Семененко и И. Кайсевич из близкого окружения Волконской (участники польского восстания 1830–1831 гг., с подложными паспортами прибывшие в Рим) склоняли Гоголя к обращению в католичество, однако безуспешно.
Зиму и весну 1838 г. Гоголь полностью посвящает работе над «Мертвыми душами». Среди любимых гоголевских заведений в Риме – «Antico Caffe Greco» на улице Кондотти, № 86 (это популярное среди русских кафе, в котором бывали также Гете, Байрон, Стендаль, Мицкевич, Визе, Гуно, Теккерей и др., сохранилось), кофейня «Del buon gusto» («Хороший вкус») на углу Испанской площади и Via Carozze, а также траттории «Lepre» (на той же Via Condotti, в доме № и) и «Falcon» (на площади Сан-Эустакио недалеко от Пантеона). О своих гастрономических привычках Гоголь писал одному из друзей:
«Ты спрашиваешь, что я такое завтракаю. Вообрази, что ничего. Никакого не имею аппетита по утрам… Пью чай, сделанный у себя дома, совершенно на манер того, какой мы пивали в кафе Anglais, с маслом и прочими атрибутами. Обедаю же я не в Лепре, где не всегда бывает самый отличный материал, но у Фалькона, – знаешь, что у Пантеона? где жареные бараны поспорят, без сомнения, с кавказскими, телятина более сытна, а какая-то crostata с вишнями способна произвесть на три дня слюнотечение у самого отъявленного объедала».
Благосклонно относился Гоголь и к местным винам, называя их в шутку «добрыми распорядителями желудка», «квартальными», «городничими». Одним из любимых Гоголем напитков было козье молоко, которое он варил сам особым способом, прибавляя туда рому, который всегда носил с собой во фляжке; эту стряпню он называл «гоголь-моголем».
И. Золотарев, который жил с Гоголем в 1837–1838 гг., вспоминал о необычайном аппетите своего друга, разыгрывающемся ближе к вечеру:
«Бывало, зайдем мы в какую-нибудь тратторию пообедать; и Гоголь покушает плотно, обед уже кончен. Вдруг входит новый посетитель и заказывает себе кушанье. Аппетит Гоголя вновь разгорается, и он, несмотря на то что только что пообедал, заказывает себе или то же кушанье, или что-нибудь другое».
Были у Гоголя и другие «странности» – к примеру, страсть к рукоделию. В холодные, пасмурные дни он любил вязать на спицах, а с приближением лета, как свидетельствует П. Анненков, вдруг принимался выкраивать для себя легкие платки из кисеи и батиста, удлинять жилеты и т. п. М. Погодин, много путешествовавший с Гоголем, заметил также, что тот крайне неохотно показывал на границах свой паспорт. Даже если паспорт лежал в кармане, он непременно вступал в перебранку с пограничным чиновником, а если паспорта близко не оказывалось, то, по словам Погодина, «он начнет беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадает под руку, и, наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому: на тебе паспорт, ешь его и проч., да и назад взять не хочет».
Из всех римских сезонов Гоголь особенно полюбил весну.
«Что за воздух! – писал он своей бывшей ученице Марии Петровне Балабиной весной 1838 г. – Кажется, как потянешь носом, то по крайней мере 700 ангелов влетают в носовые ноздри. Удивительная весна! Гляжу, не нагляжусь. Розы усыпали теперь весь Рим; но обонянию моему еще слаще от цветов, которые теперь зацвели и которых имя я, право, в эту минуту позабыл. Их нету нас. Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше – ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого бы ноздри были величиной в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны».
В 1837–1838 гг. Гоголь много путешествовал по маленьким городкам в окрестностях Рима – зачастую там рождались целые главы «Мертвых душ».
«Ехал я раз между городками Джансано и Альбано. Середи дороги, на бугре, стоит жалкий трактир, с бильярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все проезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том „Мертвых душ“, и эта тетрадь со мной не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, мне захотелось писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением».
Лето 1838 г. Гоголь провел по приглашению княжны В. Н. Репниной-Волконской на вилле в Кастелламаре (к югу от Неаполя), а также в самом Неаполе, который в ту поездку сильно разочаровал Гоголя.
«Неаполь не тот, каким я думал найти его, – писал он Данилевскому. – Нет, Рим лучше. Здесь душно, пыльно, нечисто. Рим кажется Парижем против Неаполя, кажется щеголем. Кафе римские, магазины и парикмахерские великолепны против неаполитанских. Итальянцев здесь нельзя узнать; нужно прибегать к палке, – хуже, чем у нас на Руси».
Из Неаполя Гоголь едет в Париж, откуда через Лион, Марсель и Геную в конце октября возвращается в Рим, с которым уже сроднился.
«В Риме шумно более, нежели сколько бы желалось, – пишет он Балабиной в ноябре. – Форестьеров ‹иностранцев› гибель. Русских, энглишей, французов – хоть метлой мети. Это скучно. Вы знаете сами, что это скучно. Рим мне кажется теперь похожим на дом, в котором мы провели когда-то лучшее время нашей жизни и в который теперь приезжаем и находим, что дом продан; из окон выглядывают какие-то глупые лица новых хозяев… словом, грустно».
Примерно в то же время Гоголь писал Репниной-Волконской:
«Сколько у вас в Пизе англичан, столько у нас в Риме русских. Все они, по обыкновению, очень бранят Рим за то, что в нем нет отелей и магазинов, таких как в Париже, и кардиналы не дают балов…»
Гоголь относился к большинству знатных путешественников из России с нескрываемым отвращением. «От них несет казармой», – говорил он. Ему претило, когда для того, чтобы выдать себя за людей культурных, они повторяли в Риме на каждом шагу «как это величаво!» и в конце концов превращались в «сплошной восклицательный знак». Одно время ходил слух, что после похождений Чичикова Гоголь собирался писать роман в форме записок путешествующего по Европе отставного генерала.
Действительно, в конце 1838 г. в Рим приехало много русских – в Италии решил провести зиму наследник российского престола, двадцатилетний цесаревич Александр Николаевич (будущий император Александр II). Гоголь писал Данилевскому:
«Я живу, как ты, верно, знаешь, в том же доме и той же улице, via Felice, № 126. Те же самые знакомые лица вокруг меня, те же немецкие художники с узенькими рыженькими бородками и те же козлы, тоже с узенькими бородками; те же разговоры, и о том же говорят, высунувшись из окон, мои соседки… Теперь начался карнавал. Шумно, весело. Наш его высочество доволен чрезвычайно и, разъезжая в блузах вместе со свитою, бросает муку в народ корзинами и мешками и во что ни попало».
Среди знакомых Гоголя в Риме в то время были В. А. Жуковский и М. П. Погодин, которым он с удовольствием показывал Рим, водил по мастерским русских художников – и первым делом к своему другу Александру Иванову. В те месяцы Гоголь близко познакомился и с молодым графом Иосифом Михайловичем Виельгорским, чья ранняя смерть весной 1839 г. стала самым большим потрясением для Гоголя после гибели Пушкина.
Летом 1839 г. Гоголь – в Вене и Мариенбаде, но продолжает скучать по Риму:
«О Рим, Рим! Мне кажется, пять лет я в тебе не был. Кроме Рима, нет Рима на свете. Хотел было сказать – счастья и радости, да Рим больше, чем счастье и радость…»
Проведя затем несколько месяцев в России, Гоголь в начале лета 1840 г. вместе с молодым писателем-славянофилом Василием Алексеевичем Пановым выехал в Италию, но в Вене серьезно заболел и, по мнению окружающих, несколько дней находился на грани жизни и смерти. Свой диагноз Гоголь описывал так: «желудочное расстройство, остановившееся пищеварение и необыкновенное раздражение нерв; к этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания». Слегка поправившись, Гоголь писал в Рим своему другу художнику А. А. Иванову:
«Теперь сижу в Вене. Пью воды, а в конце августа или в начале сентября буду в Рим, увижу Вас, побредем к Фалькону есть Bacchio arosto ‹жареная баранина› или girato ‹баранина на вертеле› и осушим фольету Asciuto ‹бутыль белого вина›, и настанет вновь райская жизнь…»
Похоже, что именно та серьезная болезнь лета 1840 г. сильно повлияла на самоощущение Гоголя и – в определенном смысле – на его отношение к Риму. Эта перемена (от пылкой любви 30-х годов – к едва ли не отчужденности конца 40-х) была поначалу не столь заметной, но ее симптомы уже видны, например, в письме Погодину, где Гоголь пишет о болезни в Вене и очередном приезде в Рим:
«Умереть среди немцев мне показалось страшно. Я велел себя посадить в дилижанс и везти в Италию… О, как бы мне в это время хотелось сделать какую-нибудь дальнюю дорогу. Я чувствовал, я знал и знаю, что я бы восстановлен был тогда совершенно. Но я не имел никаких средств ехать куда-либо. С какою бы радостью я сделался фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку. Чем дольше, тем лучше. Клянусь, я был бы здоров. Но мне всего дороги до Рима было три дни только. Тут мало было перемен воздуха… Ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровывало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу, не чувствую. Мне бы дорога теперь, да дорога, в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света. Вчера и сегодня было скверное время, и в это скверное время я как будто бы ожил. Так вот все мне хотелось броситься или в дилижанс, или хоть на перекладную. Двух минут я не мог просидеть в комнатке, мне так сделалось тяжело, и отправился бродить по дождю. Я устал после нескольких шагов, но, право, почувствовал как будто бы лучше себя…»
Прибыв в Рим 25 сентября 1840 г. вместе с В. А. Пановым и медиком Н. П. Боткиным (братом В. П. Боткина), Гоголь снова поселился на виа Феличе, где продолжил работу над «Мертвыми душами». В мае 1841 г. приехавший в Рим П. В. Анненков поселился в соседней с Гоголем комнате (где до него жил Панов) и под диктовку Гоголя начал переписку первых шести глав поэмы. Анненков оставил подробные мемуары о тех днях:
«Поселившись рядом с Гоголем, в комнате, двери которой почти всегда были отворены, я связан был с Николаем Васильевичем только одним часом дня, когда занимался перепиской „Мертвых душ“. Остальное время мы жили розно и каждый по-своему… Гоголь вставал обыкновенно очень рано и тотчас принимался за работу. На письменном его бюро стоял уже графин с холодной водой из каскада Терни, и в промежутках работы он опорожнял его дочиста, а иногда и удвоивал порцию. Это была одна из потребностей того длинного процесса самолечения, которому он следовал всю свою жизнь. Он имел даже особенный взгляд на свой организм и весьма серьезно говорил, что устроен совсем иначе, чем другие люди, и, если не обманывает меня память, с каким-то извращенным желудком. Я относился тогда несколько скептически к его жалобам на свои немощи и помню, что Гоголь возражал мне с досадой и настойчиво: „Вы этого не можете понять, – говорил он, – это так: я себя знаю“. При наступившем вскоре римском зное Гоголь довольно часто жаловался на особенное свойство болезненной своей природы – никогда не подвергаться испарине. „Я горю, но не потею“, – говорил он. Все это не мешало ему следовать вполне своим обыкновенным привычкам. Почти каждое утро заставал я его в кофейне „Del buon gusto“ ‹на Испанской площади›, отдыхающим на диване после завтрака, состоявшего из доброй чашки крепкого кофе и жирных сливок, за которые почасту происходили у него ссоры с прислужниками кофейни: яркий румянец пылал на его щеках, и глаза светились необыкновенно. Затем отправлялись мы в разные стороны до условленного часа, когда положено было сходиться домой для переписки поэмы. Тогда Гоголь крепче притворял внутренние ставни окон от неотразимого южного солнца, я садился за круглый стол, а Николай Васильевич, разложив перед собой тетрадку на том же столе подалее, весь уходил в нее и начинал диктовать мерно, торжественно, с таким чувством и полнотой выражения, что главы первого тома «Мертвых душ» приобрели в моей памяти особенный колорит. Это было похоже на спокойное, правильно разлитое вдохновение, какое порождается обыкновенно глубоким созерцанием предмета… После утренней работы, еще до обеда, Гоголь приходил прямо к превосходной террасе виллы Барберини, господствующей над всею окрестностью, куда являлся и я, покончив с осмотрами города и окрестностей. Гоголь садился на мраморную скамейку террасы, вынимал из кармана книжку, читал и смотрел, отвечая и делая вопросы быстро и односложно… Более занятый своею мыслью, чем чтением, Гоголь часто опускал книжку на колени и устремлял прямо перед собой недвижный, острый взгляд, который был ему свойственен…»
Обедали Гоголь и Анненков, как правило, в трактире «Лепре» на Via Condotti (по словам знатока Рима А. Валадье, в меню этой траттории во времена Гоголя значилось 72 вида супов и 543 блюда и закуски, не считая десертов).
Анненков: «Между тем время было обеденное. Он ‹Гоголь› повел меня в известную историческую астерию под фирмой Lepre (заяц), где за длинными столами, шагая по грязному полу и усаживаясь просто на скамейках, стекается к обеденному часу разнообразнейшая публика: художники, иностранцы, аббаты, читадины, фермеры, принчипе ‹князья›, смешиваясь в одном общем говоре и истребляя одни и те же блюда, которые от долгого навыка поваров действительно приготовляются непогрешительно. Это все тот же рис, барашек, курица, – меняется только зелень по временам года. Простота, общежительность итальянская всего более кидаются тут в глаза, заставляя предчувствовать себя и во всех других сферах жизни. Гоголь поразил меня, однако, капризным, взыскательным обращением своим с прислужником. Раза два менял он блюдо риса, находя его то переваренным, то недоваренным, и всякий раз прислужник переменял блюдо с добродушной улыбкой, как человек, уже свыкшийся с прихотями странного форестьера (иностранца), которого он называл синьором Николо. Получив, наконец, тарелку риса по своему вкусу, Гоголь приступил к ней с необычайною алчностью, наклонясь так, что длинные волосы его упали на самое блюдо, и поглощая ложку за ложкой со страстью и быстротой, какими, говорят, обыкновенно отличаются за столом люди, расположенные к ипохондрии… Опорожнив свое блюдо, Гоголь откинулся назад, сделался весел, разговорчив и начал шутить с прислужником, еще так недавно осыпаемым строгими выговорами и укоризнами…»
Позднее В. Ф. Чижов в своих мемуарах дополнил эти свидетельства описанием походов Гоголя в другую остерию – к Фалькону (около Пантеона):
«Там его любили, и лакей (cameriere) нам рассказывал, как часто signor Niccolo надувал их. В великий пост до Ave Maria, то есть до вечерни, начиная с полудня, все трактиры заперты. Ave Maria бывает около шести часов вечера. Вот, когда случалось, что Гоголю сильно захочется есть, он и стучит в двери. Ему обыкновенно отвечают: „Нельзя отпереть“. Но Гоголь не слушается и говорит, что забыл платок, или табакерку, или что-нибудь другое. Ему отворяют, а он там уже остается и обедает…»
Весной 1841 г. Гоголь и Анненков совершали также загородные прогулки, например, в любимое Гоголем местечко Тиволи под Римом, с его холмами, водяными каскадами, развалинами вилл Адриана и Мецената, средневековой виллой кардинала д' Эсте.
Анненков: «Он ‹Гоголь› садился где-нибудь в чаще, упирал зоркие, недвижные глаза в темную зелень, купами сбегавшую по скалам, и оставался недвижным целые часы, с воспаленными щеками».
По вечерам они часто ходили на театральные спектакли заезжей труппы, дававшей комедии Карло Гольдони и Альберто Нота. Спектакли начинались обыкновенно в десять часов вечера и кончались за полночь. Анненков вспоминал:
«Ночь до спектакля проводили мы в прогулках по улицам Рима, освещенным кофейнями, лавочками и разноцветными фонарями тех сквозных балаганчиков с плодами и прохладительными напитками, которые, наподобие небольших зеленых храмиков, растут в Риме по углам улиц и у фонтанов его. В тихую летнюю ночь Рим не ложился спать вовсе, и как бы поздно ни возвращались мы домой, всегда могли иметь надежду встретить толпу молодых людей без курток или с куртками, брошенными на одно плечо, идущих целой стеной и вполголоса распевающих мелодический туземный мотив. Бряцание гитары и музыкальный строй голосов особенно хороши бывали при ярком блеске луны: чудная песня как будто скользила тогда тонкой серебряной струей по воздуху, далеко расходясь в пространстве. Случалось, однако ж, что удушливый сирокко, перелетев из Африки через Средиземное море, наполнял город палящей, раскаленной атмосферой, тогда и ночи были знойны по-своему: жало удушливого ветра чувствовалось в груди и на теле. В такое время Гоголь видимо страдал: кожа его делалась суха, на щеках выступал яркий румянец. Он начинал искать по вечерам прохлады на перекрестках улиц; опершись на палку, он закидывал голову назад и долго стоял так, обращенный лицом кверху, словно перехватывая каждый свежий ток, который может случайно пробежать в атмосфере».
Бывало, однако, что, «наскучив прогулками и театрами», Гоголь вместе с Анненковым и художником Александром Ивановым проводили вечера дома – за бильярдом (который Гоголь установил в одной из комнат) или картами, играя в некий «бостон», придуманный самим Гоголем.
Анненков: «Надо сказать, что ни я, ни хозяин, ни А. А. Иванов, участвовавший в этих партиях, понятия не имели не только о сущности игры, но даже и о начальных ее правилах. Гоголь изобрел по этому случаю своего рода законы, которые и прикладывал поминутно, мало заботясь о противоречиях и происходившей оттого путанице; он даже весьма аккуратно записывал на особенной бумажке результаты игры, неизвестно для чего, потому что с новой игрой всегда оказывалась необходимость изменить прежние законы и считать недействительными все старые приобретения и потери. Лучше всего была обстановка игры: Гоголь зажигал итальянскую свою лампу об одном рожке, не дававшую света даже столько, сколько дает порядочный ночник, но имевшую достоинство напоминать, что при таких точно лампах работали и веселились древние консулы, сенаторы и проч. Затем Гоголь принимал в свое распоряжение фляжку орвиетто, захваченную кем-нибудь по дороге, и мастерским образом сливал из нее верхний пласт оливкового масла, заменяющий, тоже по древнему обычаю, пробку и укупорку…»
В августе 1841 г. Гоголь выехал в Германию, а затем в Россию. Летом 1842 г. увидел свет первый том «Мертвых душ», а еще ранее – в феврале – Гоголь закончил повесть «Рим», которую прочел сначала у Аксаковых, а потом на литературном вечере у московского военного губернатора, князя Д. В. Голицына (повесть была опубликована в третьем номере журнала «Москвитянин» за 1842 г.).
Гоголь вернулся в Рим 4 октября 1842 г. вместе с поэтом Николаем Михайловичем Языковым. Несколько дней они прожили в отеле «Россия» на Via Babuino рядом с Piazza del Popolo, а затем переселились в уже известный дом на виа Феличе, где Языкову вместе с его слугой нашлись две комнаты на втором этаже («в бельэтаже»). Дом к тому времени уже был надстроен, и на четвертом этаже вскоре поселился еще один русский литератор – Федор Васильевич Чижов, оставивший любопытные воспоминания:
«Расставшись с Гоголем в университете ‹они в одно время были адъюнктами Петербургского университета› мы встретились с ним в Риме в 1843 году и прожили здесь целую зиму в одном доме, на via Felice, № 126. Во втором этаже жил покойный Языков, в третьем Гоголь, в четвертом я. Видались мы едва ли не ежедневно… В Риме он, как и все мы, вел жизнь совершенно студентскую: жил без слуги, только обедал всегда вместе с Языковым, а мы все в трактире… Сходились мы в Риме по вечерам постоянно у Языкова, тогда уже очень больного, – Гоголь, Иванов и я. Наши вечера были очень молчаливы. Обыкновенно кто-нибудь из нас троих – чаще всего Иванов – приносил в кармане горячих каштанов; у Языкова стояла бутылка Алеатино, и мы начинали вечер каштанами, с прихлебками вина… Однажды мы собрались, по обыкновению у Языкова. Языков, больной, молча сидел в своих креслах; Иванов дремал, подперши голову руками; Гоголь лежал на одном диване, я полулежал на другом. Молчание продолжалось едва ли не с час времени. Гоголь первый прервал его: – Вот, – говорит, – с нас можно сделать этюд воинов, спящих при гробе господнем. И после, когда уже нам казалось, что пора расходиться, он всегда приговаривал:– Что, господа? Не пора ли нам окончить нашу шумную беседу?»
Русский художник-гравер Ф. И. Иордан, также часто встречавшийся с Гоголем в 1843-м, подтверждает:
«Исчезло прежнее светлое расположение духа Гоголя. Бывало, он в целый вечер не промолвит не единого слова. Сидит себе, опустив голову на грудь и запустив руки в карманы шаровар, и молчит…»
В те месяцы нарастают религиозные настроения Гоголя. Он все более погружается в чтение богословской литературы, а свою работу над «Мертвыми душами» воспринимает как «предназначенье свыше», как некую «миссию»:
«Да, друг мой! Я глубоко счастлив. Несмотря на мое болезненное состояние, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивные минуты. Создание чудное творится и совершается в душе моей, и благодарными слезами не раз теперь полны глаза мои. Здесь явно видна мне святая воля Бога: подобное внушенье не приходит от человека; никогда не выдумать ему такого сюжета!» (Письмо С. Аксакову); «Часто душа моя так бывает тверда, что, кажется, никакие огорчения не в силах сокрушить меня. Да есть ли огорчения в свете? Мы их назвали огорчениями, тогда как они суть великие блага и глубокие счастия, ниспосылаемые человеку. Они хранители наши и спасители души нашей. Чем глубже взгляну на жизнь свою и на все доселе ниспосылаемые мне случаи, тем глубже вижу чудное участие высших сил во всем, что ни касается меня. И вся бы хотела превратиться в один благодарный вечный гимн душа моя» (Письмо Н. Шереметевой).
Тем не менее в это время Гоголь стремится быть в курсе полемики, развернувшейся в России по поводу «Мертвых душ», активно занимается литературно-издательскими делами – подготовкой в Петербурге издания четырехтомника своих сочинений, пересылает Прокоповичу переделанный финал «Ревизора», комедию «Игроки», переработанный вариант «Театрального разъезда после представления новой комедии»; хлопочет о прохождении через цензуру «Ревизора» и «Женитьбы» для бенефисов М. С. Щепкина и И. И. Сосницкого, работает над вторым томом «Мертвых душ».
Поздней осенью 1842 г. Гоголь пригласил в Рим жившую тогда во Флоренции Александру Осиповну Смирнову (урожденную Россет) – свою хорошую знакомую, фрейлину императриц Марии Федоровны, а затем и Александры Федоровны. Приехавшая в Рим в январе 1843 г., Смирнова сняла апартаменты в палаццо Валентини на южной стороне Piazza Santi Apostoli недалеко от Форума Траяна. (Сегодняшний адрес этого палаццо XVI в., построенного архитектором Доменико Паганелли для кардинала Карло Бонелли: Via Cesare Battisti, № 119.) На протяжении нескольких недель Гоголь каждое утро являлся в палаццо Валентини («серая шляпа, светло-голубой жилет и малиновые панталоны, точно малина со сливками»), и они вместе со Смирновой на осликах ездили по Риму и окрестностям. Фрейлина вспоминала:
«Он хвастал перед нами Римом так, как будто это его открытие… Никто не знал лучше Рима, подобного чичероне ‹гида› не было и быть не может. Не было итальянского историка или хроникера, которого был он не прочел, не было латинского писателя, которого бы он не знал; все, что относилось до исторического развития искусства, даже благочинности итальянской, ему было известно и как-то особенно оживляло для него весь быт этой страны, которая тревожила его молодое воображение и которую он так нежно любил, в которой его душе яснее виделась Россия, в которой отечество его озарялось для него радужно и утешительно. Он сам мне говорил, что в Риме, в одном Риме он мог глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления».
Все экскурсии заканчивались, как правило, собором Св. Петра. «Это так следует, – утверждал Гоголь. – На Петра никогда не наглядишься, хотя фасад у него комодом». При входе в собор, вспоминала Смирнова, Гоголь подкалывал свой сюртук, и эта метаморфоза преобразовывала его во фрак, потому что кустоду (хранителю) приказано было требовать церемонный фрак – «из уважения к апостолам, папе и Микеланджело». Однажды, когда они поднимались под купол Св. Петра, фрейлина сказала Гоголю, что ни за что не решилась бы пройти по внутреннему карнизу – хотя он так широк, что по нему могла бы проехать карета, запряженная четверкой лошадей. Гоголь тогда ответил:
«Теперь и я не решился бы, потому что нервы у меня расстроены; но прежде я по целым часам лежал на этом карнизе и верхний слой Петра мне так известен, как едва ли кому другому. Когда вглядишься в Петра и в пропорции его частей, нельзя надивиться довольно гению Микеланджело».
После поездок Гоголь часто заходил в лавку, покупал макароны, масло и пармезан и, несмотря на возражения Смирновой («у Лепре ‹в известном трактире› это всего пять минут берет»), сам долго и обстоятельно готовил обед.
Проживший рядом с Гоголем на виа Феличе зиму 1842/43 г. поэт Н. М. Языков вспоминал, что та зима была «пренегодной»:
«Холодно, сыро, мрачно, дожди проливные, ветры бурные. На прошлой неделе от излишества вод и ветров вечный Тибр вздулся, можно сказать – вышел из себя, и затопил часть Рима так, что на некоторых улицах устраивалось водное сообщение. Теперь он успокоился, но дожди продолжаются и еще не дают надежды на приятный карнавал, которому быть послезавтра! До сих пор я никогда не видел таких ливней, какие здесь: представь себе, что бывают целые дни, когда дождь льет, не переставая ни на минуту, с утра до вечера, и льет как из ведра, как из ушата! Небо как тряпка. Воздух свищет, вода бьет в окна, по улице река течет, в комнате сумерки!»
Письма Гоголя того времени говорят о растущей ностальгии по России:
«Для меня все, до последних мелочей, что ни делается на Руси, теперь стало необыкновенно дорого, близко. Малина и попы интересней всяких колизеев…» (Письмо А. Данилевскому, февраль 1843); «Сказать правду, для меня давно уже мертво все, что окружает меня здесь ‹в Риме›, и глаза мои всего чаще смотрят только в Россию и нет меры любви к ней» (Письмо С. Шевыреву, февраль 1843)', «У меня точно нет теперь никаких впечатлений и… мне все равно, в Италии ли я, или в дрянном немецком городке, или хоть в Лапландии… Живу весь в себе, в своих воспоминаниях, в своем народе и земле, которые носятся неразлучно со мною, и все, что там ни есть и ни заключено, ближе и ближе становится ежеминутно душе моей» (Письмо А. Данилевскому, июнь 1843).
В самом начале мая 1843 г. Гоголь снова уехал из Рима в Германию, а зиму 1843/44 г. провел в Ницце; весной 1844 г. он через Страсбург, Дармштадт, Баден приехал во Франкфурт, где долго – до середины января 1845-го – жил в доме Жуковского. Всю первую половину 1845 г. он провел в разъездах между Германией и Францией – по его мнению, путешествия, «дорога» помогали ему… В эти месяцы метаний по Европе он несколько раз был опять тяжело болен («я едва было не откланялся, но Бог милостив», писал он позднее); тогда же Гоголь дважды сжигал рукописи второго тома «Мертвых душ».
Лишь осенью 1845 г. Гоголь снова решает ехать в Рим и с дороги просит римского друга Александра Иванова снять ему комнату поближе к знакомым местам у Монте Пинчио:
«Участь моя определилась. После холодного лечения мне сделалось лучше, и я еду теперь к вам в Рим, и по собственному желанию, и по медицинскому совету. Имейте в виду для меня квартирку или в Via Sistina и Felice, или Грегориана, – две комнатки на солнце… Можно даже заглянуть и к Челли, моему старому хозяину. Хотя он своей безалаберностью и беспрерывной охотой занимать деньги смущает меня, но если, кроме него, не найдется в тех местах, то можно будет и у него. Я привык к этим местам, и мне жалко будет им изменить».
24 октября 1845 г. Гоголь приезжает в Рим и поселяется по новому адресу: Via della Croce, № 81, четвертый этаж. (Этот старинный дом на углу Via Mario de Fiori, известный в Риме как палаццо Понятовского, сохранился; во дворике, откуда жильцы входили на лестницу, теперь располагается ресторан «Otello»)
В это свое пребывание в Риме Гоголь особенно близко знакомится с графиней С. П. Апраксиной. Старый друг Гоголя – А. О. Смирнова писала в те дни П. А. Плетневу из Калуги:
«До меня дошло, что Гоголь поправился, бывает всякий день у Софьи Петровны Апраксиной, которая очень его любит, чему я очень рада. Ему всегда надобно пригреться где-нибудь, тогда он и здоровее, и крепче духом. Совершенное одиночество для него пагубно».
В ту зиму в течение четырех дней в Риме находился российский император Николай I, посетивший до этого с больной императрицей Сицилию. Для императора были приготовлены апартаменты в Palazzo Giustiniani на Via della Dogana Vecchia, ранее занимаемые русским чрезвычайным посланником при Святейшем престоле А. П. Бутеневым, переехавшим по этому случаю в гостиницу. 13 декабря 1845 г. состоялась важная с дипломатической точки зрения встреча русского царя с Римским Папой Григорием XVI. В письмах различным адресатам Гоголь сообщает, что «видел государя два-три раза мельком», «любовался им издали», когда Николай прогуливался в коляске по Монте Пинчио.
«Лицо его было прекрасно, – писал Гоголь из Рима Смирновой. – Исполненная благоволения наружность его, несмотря на некрасивое и к нему вовсе не идущее наше штатское платье, не могла не поразить всех. Я не представлялся к нему потому, что стало стыдно и совестно, не сделавши почти ничего еще доброго и достойного благоволения, напоминать о своем существовании… Римом вообще государь остался бы больше доволен, если бы прожил подолее, если бы погода была получше и если бы квартира не попалась бы ему такая дурная, каков сырой и мрачный palazzo Giustiniani…»
(Гоголь оказался прав: Николай I строго выговорил Бутеневу «за размещение посольства в неподобающем месте». Выскажу, однако, мнение, что Николай, человек в бытовом смысле крайне неприхотливый, разгневался скорее всего на то, что русское посольство в Риме в палаццо Джустиниани располагалось в самом центре «французского квартала», прямо напротив французской церкви San Luigi dei Francesi.) От доктора И.-Л. Шенлейна, одобрившего новую поездку в Рим, Гоголь имел строгое лечебное предписание: «вытиранье мокрой простыней всего тела по утрам, всякий вечер пилюлю и две какие-то гомеопатические капли поутру». Между тем здоровье Гоголя в ту римскую зиму опять серьезно ухудшается:
«Я зябну теперь до такой степени, что ни огонь, ни движение, ни ходьба меня не согревают. Мне нужно много бегать, чтобы сколько-нибудь согреть кровь, но этого теперь нельзя, потому что совсем ослабели и ноги, и силы, жилы болят и пухнут» (Письмо А. Толстому); «Тяжело, тяжело, иногда так приходится тяжело, что хоть просто повеситься…»(Письмо Н. Языкову).
В мае 1846 г. Гоголь выехал из Рима в Париж (через Флоренцию, Геную, Ниццу). Там его встретил старый знакомый Анненков:
«Гоголь постарел, но приобрел особого рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа».
В июне Гоголь уехал лечиться в Германию, где много работал над вызвавшими потом жаркую полемику в литературно-политических кругах «Выбранными местами из переписки с друзьями». Собираясь на очередную зиму в Италию, мечтает больше о ранее не оцененном им Неаполе – Рим, судя по письмам, уже не привлекает Гоголя. «В Рим вряд ли заеду, да и незачем», – пишет он Смирновой. Тем не менее по дороге из Ниццы в Неаполь он, наряду с Генуей и Флоренцией, останавливается на три дня в Риме (12–14 ноября 1846 г.).
«Неаполь я избрал своим пребыванием потому, что мне здесь покойней, чем в Риме, и потому, что воздух, по определенью доктора, для меня лучше римского, что, впрочем, я испытал: здесь я меньше зябну» (Письмо С. Шевыреву); «Неаполь прекрасен, но чувствую, что он никогда не показался бы мне так прекрасен, если бы не приготовил Бог душу мою к принятию впечатлений красоты его. Я был назад тому десять лет в нем и любовался им холодно. Во все время прежнего пребыванья моего в Риме никогда не тянуло меня в Неаполь; в Рим же я приезжал всякий раз как бы на родину свою. Но теперь, во время проезда моего через Рим, уже ничто в нем меня не заняло, ни даже замечательное явление народного восторга от нынешнего истинно-достойного папы ‹Пия IХ›. Я проехал его так, как проезжал дорожную станцию; обонянье мое не почувствовало даже того сладкого воздуха, которым я так приятно был встречаем всякий раз по моем въезде в него; напротив, нервы мои услышали прикосновение холода и сырости. Но как только приехал в Неаполь, все тело мое почувствовало желанную теплоту, утихнули нервы, которые, как известно, у других еще раздражаются от Неаполя…»(Письмо В. Жуковскому).
В мае 1847 г. Гоголь вновь выезжает из Неаполя на северные курорты и 12 мая минует Рим, практически не останавливаясь. Так же он поступит на обратном пути в Неаполь в октябре того же года – это будет последнее посещение Гоголем Рима. Наверное, прав Анненков:
«Новая цепь идей под конец жизни заслонила перед Гоголем и образ самого города, столь любимого им некогда…»
А возможно, надо внимательнее перечитать одно из сравнительно мало известных писем Гоголя своему самому близкому другу – Данилевскому:
«Ничего не пишу к тебе о римских происшествиях, о которых ты меня спрашиваешь. Я уже ничего не вижу перед собою, и во взоре моем нет животрепещущей внимательности новичка. Все, что мне нужно было, я забрал и заключил к себе в глубину души моей. Там Рим как святыня, как свидетель чудных явлений, совершившихся надо мною, пребывает вечен. И, как путешественник, который уложил все свои вещи в чемодан и усталый, но покойный ожидает только подъезда кареты, понесущей его в далекий, верный, желанный путь, так я, перетерпев урочное время своих испытаний, изготовясь внутреннею, удаленною от мира жизнью, покойно, неторопливо, по пути, начертанному свыше, готов идти укрепленный и мыслью, и духом…»
Первоначальный набросок повести о Риме (она тогда называлась «Аннунциата») Гоголь привез с собой в Россию уже осенью 1839 г. В феврале 1840 г. он читал первые главы повести у Аксаковых. По-видимому, переделкой повести Гоголь занимался зимой 1841/42 г. Повесть посвящена судьбе юного итальянского князя, который едет учиться в Париж и возвращается в Рим после пятнадцати лет отсутствия. Сначала, находясь в Париже – «самом сердце Европы», он свысока рассуждает о своей родине: «Италия казалась ему теперь каким-то темным, заплеснелым углом Европы, где заглохла жизнь и всякое движенье». Однако со временем он испытывает глубокое разочарование: «Париж со всем своим блеском и шумом скоро сделался для него тягостной пустыней…» В итоге князь возвращается в Рим и переживает «новое узнавание» Вечного города:
«Словом, он уединился совершенно, принялся рассматривать Рим и сделался в этом отношении подобен иностранцу, который сначала бывает поражен мелочной, неблестящей его наружностью, испятнанными, темными домами и с недоумением вопрошает, попадая из переулка в переулок: где же огромный древний Рим? И потом уже узнает его, когда мало-помалу из тесных переулков начинает выдвигаться древний Рим, где темной аркой, где мраморным карнизом, вделанным в стену, где порфировой потемневшей колонной, где фронтоном посреди вонючего рыбного рынка, где целым портиком перед старинной церковью, и, наконец, далеко, там, где оканчивается вовсе живущий город, громадно воздымается он среди тысячелетних плющей, алоэ и открытых равнин, необъятным Колизеем, Триумфальными арками, останками необозримых цезарских дворцов, императорскими банями, храмами, гробницами, разнесенными по полям; и уже не видит иноземец нынешних тесных его улиц и переулков, весь объятый древним миром: в памяти его восстают колоссальные образы цезарей; криками и плесками древней толпы поражается ухо… Но не так, как иностранец, преданный одному Титу Ливию и Тациту, бегущий мимо всего, к одной только древности, желавший бы в порыве благородного педантизма срыть весь новый город, – нет, он находил все равно прекрасным: мир древний, шевелившийся из-под темного архитрава, могучий средний век, положивший везде следы художников-исполинов и великолепной щедрости пап, и, наконец, прилепившийся к ним новый век с толпящимся новым народонаселением. Ему нравилось это чудное их слияние в одно, эти признаки людной столицы и пустыни вместе: дворец, колонны, трава, дикие кусты, бегущие по стенам, трепещущий рынок среди темных, молчаливых, заслоненных снизу громад, живой крик рыночного продавца у портика, лимонадчик с воздушной украшенной зеленью лавчонкой перед Пантеоном. Ему нравилась сама невзрачность улиц темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города: отдыхавшее стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие на всем ясной торжественной тишины, обнимавшей человека. Ему нравились эти беспрерывные внезапности, неожиданности, поражающие в Риме. Как охотник, выходящий с утра на ловлю, как старинный рыцарь, искатель приключений, он отправлялся отыскивать всякий день новых и новых чудес, и останавливался невольно, когда вдруг среди ничтожного переулка возносился пред ним дворец, дышавший строгим сумрачным величием… – или как вдруг нежданно вместе с небольшой площадью выглядывал картинный фонтан, обрызгивавший себя самого и свои обезображенные мхом гранитные ступени; – как темная грязная улица оканчивалась нежданно играющей архитектурной декорацией Бернини, или летящим кверху обелиском, или церковью и монастырской стеною, вспыхивавшими блеском солнца на темно-лазурном небе с черными, как уголь, кипарисами… И как пред этой величественной, прекрасной роскошью показалась ему теперь низкою роскошь XIX столетия, мелкая, ничтожная роскошь, годная только для украшенья магазинов, выведшая на поле деятельности золотильщиков, мебельщиков, обойщиков, столяров и кучи мастеровых и лишивших мир Рафаэлей, Тицианов, Микель-Анжелов, низведшая к ремеслу искусство… При таких рассужденьях невольно приходило ему на мысль: не оттого ли сей равнодушный хлад, обнимающий нынешний век, торговый, низкий расчет, ранняя притупленность еще не успевших развиться и возникнуть чувств. Иконы вынесли из храма – и храм уже не храм: летучие мыши и злые духи обитают в нем… В такую торжественную минуту он примирялся с разрушеньем своего отечества, и зрелись тогда ему во всем зародыши вечной жизни, вечно лучшего будущего, которое вечно готовит миру его вечный творец. В такие минуты он даже весьма часто задумывался над нынешним значением римского народа. Он видел в нем материал еще непочатый…»
В Гоголе воплощено с необыкновенной, поистине стихийной силой, тяготение к Италии и Риму, охватившее русских людей сороковых годов. Но мало так сказать! Трудно найти в какой-либо литературе и трудно даже представить себе такую восторженную любовь к Италии, какой ее любил Гоголь. Письма Гоголя, писанные разным лицам из Рима, являются незабываемым памятником этого изумительного глубокого и яркого чувства… Рим внушает Гоголю необъятно широкое, «эпическое» чувство, и если вспомнить, что в Риме писалась эпопея «Мертвые души», то сквозь строки этих писем на нас глянет обширная и важная тема об участии Рима в творчестве Гоголя, – тема, еще не затронутая русской литературой. Здесь должно сказать только, что великий труд Гоголя питало его счастье Римом… Гоголь открыл в русской душе новое чувство – ее родство с Римом. После него Италия не должна быть чужбиной для нас. После него должны прийти другие, которые будут писать в своих римских письмах, как он писал Данилевскому: «Ты спрашиваешь меня, куда я летом. Никуда, никуда, кроме Рима. Посох мой страннический уже не существует…
Я теперь сижу дома, никаких мучительных желаний, влекущих вдаль, нет, разве проездиться в Семереньки, то есть в Неаполь, и в Толстое, то есть во Фраскати или в Альбано». Пусть другим, вслед за Гоголем, выпадут часы, подобные тем, какие проводил он в саду Волконской. «Я пишу тебе ‹Данилевскому› письмо, сидя в гроте на вилле у кн. 3. Волконской, и в эту минуту грянул прекрасный проливной, летний, роскошный дождь на жизнь и на радость розам и всему пестреющему около меня прозябанию». Другие пусть повторят за ним его прогулки. «Мои прогулки простираются гораздо далее, глубже в поле. Чаще я посещаю термы Каракаллы, Roma Vecchia ‹Старый Рим›, с его храмами и гробницами, Villa Mattei, Villa Mills…» И тогда не умрет в русской литературе великая часть души Гоголя, вложенная им в этот призыв: «Италия, прекрасная, моя ненаглядная Италия…»
П. П. Муратов. Образы Италии. Предисловие к первому изданию (1910). M., 1993, т. 1, с. 11–12.
…Когда я в Риме, я всегда нет-нет, да и подумаю о Гоголе. Наглядишься, бывало, с верхушки Испанской лестницы на то, как в небо взлетает и покоится в небе купол Св. Петра, да и начнешь медленно спускаться по улице, образующей с двумя продолжениями своими вытянутую по шнуру каменную просеку, которая, опускаясь и поднимаясь с холма на холм до самой Санта Мариа Маджоре, перерезает старый папский город. Прорубить повелел ее в конце XVI века папа Сикст Пятый, в честь которого и называется она Сикстинской. Но в гоголевские времена звалась она «Счастливой» – «виа Феличе» – и, спускаясь по ней, редко забывал я остановиться против дома номер 126 и взглянуть лишний раз на мраморную доску, прибитую между двумя его окнами в 1901 году заботами, как на ней указано, русской колонии в Риме… Так что, в сущности, – каждый раз себе это говорю и каждый раз дивлюсь, – из ворот вот этого самого дома и выехала бричка, на которой ездят господа средней руки, с Селифаном и Петрушкой на козлах; в этом самом доме на третьем этаже и родились… и Манилов, и Коробочка, и Плюшкин, и дама приятная во всех отношениях, и губернатор, вышивающий по тюлю, и сам Павел Иванович Чичиков… И что же?… Коробочку ты встречаешь утром, когда выйдешь погулять между Тритоном, радостно мечущим вверх водную струю, с великолепной громадой палаццо Барберини: «Может быть, понадобится птичьих перьев? У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья!» – А на площади Квиринала, возле Диоскуров, где сияет вдали тот же купол, увенчивающий Рим, тебе слышится голос Ноздрева: «Брудастая с усами; шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребер уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет!» – Или на крутой тропе, что ведет меж пиний и кипарисов от говорливых мраморов Форума к тенистому молчанию Палатина, Собакевич, наступив тебе на ногу, «входит в самую силу речи»: «А Пробка Степан, плотник? Я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!»… Все эти слова и голоса звучали для него здесь – возле Траянова столпа, у пирамиды Кая Цестия, на Латинской, на Аппиевой дороге.
В. В. Вейдле. Римлянин Гоголь // Рим. Из бесед о городах Италии. Париж, 1967, с. 65–67.
Михаил Петрович Погодин
Михаил Петрович Погодин (11.11.1800, Москва – 8.12.1875, Москва) – историк, журналист, издатель. Специалист в области русской и славянской истории. Профессор Московского университета, с 1841 г. – академик. В 1827–1830 гг. издавал журнал «Московский вестник», в 1844–1856 гг. – журнал «Москвитянин» (вместе с С. П. Шевыревым). По своим общественно-политическим взглядам был близок к славянофильскому направлению.
Зимой 1839 г. отправился с женой в большое заграничное путешествие, которое подробно описал в четырех выпусках дневниковых записей «Год в чужих краях» (М., 1844). В санной повозке добирались до Варшавы; оттуда дилижансом через Вену до Триеста; далее пароходом в Венецию; оттуда снова дилижансом через Феррару, Падую, Болонью, Анкону, Лорето и Фолиньо – в Рим.
Погодины приехали в Рим 8 марта 1839 г. Там их встретил уже проживший несколько месяцев в Риме Николай Васильевич Гоголь и поселил в соседних со своей квартирой комнатах по адресу: Via Sistina, № 126, в районе художественной богемы у Монте Пинчио. Гоголь и другой старый знакомый Погодиных – историк и писатель Степан Петрович Шевырев (много лет пробывший в Италии в качестве домашнего учителя в семье княгини 3. А. Волконской) составили для них детальный план осмотра Рима. Сразу же по приезде Гоголь повел («потащил») их смотреть храм Св. Петра, а затем на Форум.
Погодин: «Обошли Форум. Терпения не достанет смотреть на этих итальянцев, как они работают: где-то возьмут лопату, где-то подгребут мусору, где-то обмахнут или перевернут тележонку. Прислать бы сюда тысячи две белорусцев из Одессы, со своим ржаным хлебом, так они… в один год очистили бы вам всю площадь, как она была в римское время, и даровали ученому свету великое зрелище. Началом работ ученый мир обязан французам, но теперь они идут очень тихо, потому что у Папы денег мало».
Обедали Погодины в любимой Гоголем траттории «Лепре» («Заяц») на Via Condotti, № 11, недалеко от Испанской лестницы.
Погодин: «Устали, проголодались без памяти, а гостиницы все заперты. Надо ждать до шести часов, когда пропоется Ave Maria… Наконец, служба кончилась, и народ толпами бросился в гостиницы, чуть растворились двери. Нынче мы обедали у Лепре. Народа, небогатого, множество; насилу нашли место, хотя пропустили не более пяти минут по отворению дверей. Камерьер итальянский – существо особого рода. В белом переднике, а здесь и в белом колпаке, бегает он по комнатам, схватывает на лету заказы, кому maccherone au gratin, кому cervelli fritti, кому cefalo con patate, кому zuppa inglese, кому crostata, передает их на кухню, и через две-три минуты возвращается, навьюченный блюдами, в руках, подмышками, чуть ли не на ногах, раздает всем, кто что требовал, без ошибки, и немедленно отправляется опять в новое путешествие. Вы кончили ваш обед, подзываете его, и он, с десятками новых заказов в голове, напомнит вам в случае нужды, что вы забыли при исчислении вашего обеда, сочтет вам, не останавливаясь, как пономарь: pasta al brode – 4, testa di Mongana – 8, Agro dolce di cignale – 7, pollastro mezzo – 15, crema, summa – 4 paoli: и получит от вас деньги, даст вам сдачу, положит себе на водку в особый карман, примолвив соразмерно с вашей щедростью: grazie, mille grazie, и поскачет в свою кухню. Память, или навык, проворство удивительные!»
Каждый день, с раннего утра Погодины, часто вместе с Гоголем и Шевыревым, смотрели римские достопримечательности или, наняв коляску на пьяцца Спанья, осматривали виллы в окрестностях Рима – в «Дорожном дневнике» подробнейшим образом описаны все их римские маршруты. Как профессиональный историк, Погодин вместе с Шевыревым много времени проводил в музеях и библиотеках Ватикана.
В течение месяца своего пребывания в Риме Погодины неоднократно посещали виллу княгини Зинаиды Александровны Волконской недалеко от базилики San Giovanni in Laterano, а также апартаменты жившего тогда в Риме московского губернатора князя Д. В. Голицына. В Дневнике от 25 марта сохранилась запись о посещении римской студии Александра Андреевича Иванова в доме № 5 в переулке Вантаджио (в районе Piazza del Popolo, недалеко от набережной Тибра), где художник с 1837 по 1858 г. работал над картиной «Явление Христа народу».
Погодин: «Картина представляет проповедь в пустыне св. Иоанна Крестителя, который указывает на Спасителя, вдали идущего. Прекрасное сочинение: Иисус Христос, чуть видимый вдали, произвел на меня особое действие, и мгновенно навел задумчивость. Счастливая мысль, которой подобной я не видал нигде… Одним словом, задумано превосходно – есть где развернуться художнику, есть что представить. Дай Бог ему! Говорят, что г-н Иванов работает очень медленно, беспрестанно поправляет себя, недовольный. Жаль; с таким расположением души лучше б ему писать картины, не столь сложные, как эта».
Посещал Погодин и мастерские других русских художников в Риме – Ефимова, Рихтера, Пименова, Каневского, Маркова, Иордана, Бруни, а также студии знаменитых римских мэтров – датчанина Торвальдсена и итальянца Тенерани.
Каждый вечер по два часа Погодины занимались итальянским языком с рекомендованным им учителем Грифи («сорок рублей в месяц – какая дешевизна!»). А ближе к ночи Погодин обычно толковал с соседом Гоголем о судьбах России и русской литературы – «за рюмками сладенького и легкого Дженсано».
Тяготеющего к славянофильству Погодина весьма волновала в Риме проблема взаимоотношений православия и католицизма, и, в частности, ставшее популярным в русской колонии в Италии обращение в римскую веру (эти настроения весьма поддерживались, например, римском салоне католички 3. Волконской). Как-то раз, на прогулке по Риму Погодин встретил знакомую ему по Москве г-жу N., также принявшую католичество.
Погодин: «Вот объяснение переходов: в детстве не получают эти господа и госпожи никаких понятий о религии, разве поверхностные. В молодости они грешат, увлекаясь потоками света; к старости, в чужих краях, приходят иногда в себя и начинают думать и бояться будущей жизни – в эту-то минуту появляется ловец, услужливый аббат, красноречивый, снисходительный, – он утешает, объясняет, убеждает и овладевает умом и воображением бедного грешника или грешницы, которые прежде не слыхали и не имели случая ничего слышать подобного о своей церкви, верят на слово, что там и нет ничего, кроме заблуждений, не имея силы состязаться оружием слишком неровным, – и упадают в сети. Вот что советовал бы я этим несчастным лицам как соотечественник и христианин: выслушав аббата, согласясь с его верованиями, побывайте, до перехода, у русского священника или архиерея, сообщите ему ваши вновь приобретенные мнения и спросите у него ответов, а потом сравните, рассудите и проч.».
Однажды, будучи в Термах Каракаллы с Гоголем и Ивановым, Погодин увидел «большое общество», судя по долетавшим обрывкам разговора – из русских:
«Я заговорил нарочно со своими, чтоб показать, что и мы русские, но не произвел ни малейшего действия. Прошли как чужие. Я не постигаю, как грубеет настоящее национальное и даже человеческое чувство в этих господах, хотя, может быть, и очень утончивается космополитическое! Мне грустно было смотреть на них. Что до меня, сознаюсь в квасном патриотизме: лишь только услышу русский звук в чужих краях, всегда готов броситься на шею к кому бы то ни было».
Особенно запомнились Погодиным в Риме пасхальные торжества и предшествующие им публичные действа: иллюминация на храме Св. Петра, фейерверк в замке Св. Ангела и др. О фейерверке (римской традиции, идущей еще от Микеланджело) есть подробная запись в дневнике. Чтобы лучше видеть ночной салют над замком Св. Ангела (бывшим мавзолеем императора Адриана), Погодины вместе с Гоголем и Ивановым хотели пробраться поближе к набережной Тибра, но на всех подходах к ней с раннего вечера уже стояла сплошная толпа. В одном из высоких домов в районе Piazza Borghese привратник предложил им четыре места на балконе.
Погодин: «Людей натыкано было на этом бренном балкончике столько, что я побоялся, как бы он не обломился. Мы стали одною ногою наружи, а другою на пороге, чтоб на всякий случай иметь хоть какую-нибудь точку опоры. Разумеется, нам будет видно хуже, через головы, зато безопаснее… Но вот прошипела и сверкнула ракета… Первая декорация понравилась особенно: густые облака дыма рассеялись, и крепость Св. Ангела представилась каким-то волшебным замком, вся в пламени; залились огненные фонтаны, загремели бураки из тысячи ракет, которые рассыпались над Тибром при залпах из пушек… Торжественно, величественно, высоко! Нас так и обсыпало искрами беспрестанно. Прилетали и завертки, головни. Стекла звенели, дома дрожали, – того и глядел я, что балкончик наш кувыркнется в Тибр, и, каюсь в трусости, я прижимался к стене».
2 апреля с Гоголем и Ивановым Погодины поехали в знаменитое своими водопадами и развалинами древних вилл местечко Тиволи к северо-востоку от Рима. Отправившись рано утром, они выехали из Рима через ворота Сан-Лоренцо и к середине дня были в Тиволи.
Погодин: «Мы остановились в гостинице подле храма Весты, на вершине скалы. Знаменитый водопад перед глазами… Мы нашли четырех лошаков с двумя проводниками. Пресмешная процессия составилась из нас, как мы в разнообразных своих костюмах: плащах, салопах, блузах – сели на долгоухих чад осла и кобылицы и потянулись гуськом под гору смотреть Cascatelli ‹каскады›. Иванов хотел написать эту смешную картину. Виды прелестные на каждом шагу, с горы, по коей мы ехали, чрез обширный овраг, на другую гору, высшую, с которой ниспадают эти великолепные потоки, белыми, серебристыми, радужными, переливными лентами, пуская от себя блестящую пыль».
В тот день в Тиволи они побывали на развалинах виллы Мецената и средневековой вилле кардинала д' Эсте, а затем и на находящейся в нескольких километрах ниже вилле императора Адриана. А через несколько дней Погодины вместе с Гоголем и художником Рихтером ездили во Фраскати – древний Тускул, любимое место Цицерона, где он написал свои «Тускуланские размышления».
Подробнейшим образом описал Погодин православную пасхальную ночь в Риме. Служба происходила в домовой церкви русского посольства, где иконостас, сделанный по проекту Константина Тона, украшен образами работы Карла Брюллова (сейчас его можно увидеть в православной церкви на Via Palestro,71).
Погодин: «Малая и тесная церковь вместе со смежною комнатою была полнехонька. Приятно было почувствовать себя между своими, приятно молиться вместе русскому Богу, петь русские молитвы, обняться, перецеловаться по обычаю предков. Иные назовут это квасным патриотизмом, – пожалуй; но я почитаю себя счастливым, что это юношеское чувство сохранилось во мне до сих пор живое, горячее. Странно выставлять его наружу – да зачем же исключать мне эти строки из своего дневника… Художники наши разгавливаются все вместе, и пригласили меня к себе на празднество…»
Этот день – 7 апреля 1839 г. – оказался очень длинным. От полуночи до двух часов продолжалась заутреня; в два часа, распевая по сонным римским улицам русское «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим в гробех живот даровав», группа русских мимо Форума Траяна и фонтана Треви пришла на одну из русских квартир в районе Испанской площади, где было назначено разговенье.
Погодин: «Столы были накрыты и уставлены так, что и скатертей не видно. Откуда ни взялись русские куличи, пасха и печеные красные яйца… Было человек 30. Тридцать человек, живущих на счет правительства! Началось целование. Распорядитель Л. попросил сесть за стол, и что же? Откуда ни явился ужин, или лучше особенная заутренняя трапеза. Посыпались холодные, жаркие, пирожные, похлебки, полилось бургонское, португальское и, наконец, шампанское. Подумаешь, богачи задают пир, – и ни от чего нельзя было отказаться. Чего тут не было, а ни у кого за душой ни копейки, – русский дух!»
Право первого тоста было предоставлено Погодину (как-никак профессор Московского университета!):
«Здоровье нашего славного Царя, августейшего покровителя художеств, и да утвердится в нем более и более мысль, что искусство есть венец гражданского образованья, лучшее украшение жизни, слава государства. Боже, Царя храни!»
Хором грянули гимн, но после первого куплета все стали поглядывать друг на друга, ожидая продолжения.
Погодин: «Оборотились ко мне, я помнил не больше, и начал сначала – все обрадовались, как будто вспомнили все, и подхватили опять, только гораздо громче: Боже, Царя храни!»
Потом выпили за здоровье наследника престола, великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II), который незадолго до этого, побывав в Риме, «так одобрил всех наших художников, заказал им работы и вообще оставил самые приятные воспоминания»… Пасхальным утром, чуть отоспавшись, Погодины побывали еще в двух центрах «русского Рима» – у московского градоначальника князя Голицына, вечером – у княгини Волконской.
Прежде чем отправиться во Францию, Погодины решили посетить Неаполь и были очень рады, что такой знаток Италии, как С. П. Шевырев, согласился проделать этот маршрут вместе с ними:
«Мы очень обрадовались такому драгоценному чичероне ‹гиду› для достопримечательностей Неаполя и Помпеи, где он был долго и знает коротко. Хоть добрый Грифи выучил нас немножко болтать по-итальянски, но какая же разница ехать с Шевыревым, который готов говорить хоть с Дантом и Петраркой!»
8 апреля 1839 г. неожиданно выяснилось, что слуга, посланный Шевыревым в контору дилижансов проведать насчет наличия мест до Неаполя, по недоразумению взял места в дилижанс, отправляющийся уже на следующее утро.
Погодин: «Решение судьбы! Это известие поразило меня как громом. Неужели надо оставить Рим? Не расстался бы с ним: никакой город не производил на меня до сих пор такого впечатления, как Рим, и уехать, не досмотревши всего, не пересмотревши ничего, не имев ни одного дня для спокойного обозрения!»
Наутро проснулись в пять часов, очень торопились и на станции дилижансов были первыми. Однако вместо шести часов, как значилось в расписании, отправились только в десять («итальянцы не славятся своею точностью»).
Погодин: «Придется ли еще когда увидеть мне Рим? А хотелось бы! Грустно, очень грустно!»
Отправляясь из Рима в Неаполь, Погодины простились с Гоголем до Чивитта-Веккиа, куда тот обещал выехать навстречу, так как пароход на обратном пути из Неаполя в Марсель должен был там сделать остановку на несколько часов. Гоголь сдержал слово: 18 апреля в полдень он ждал Погодиных и Шевырева на пристани в Чивитта-Веккиа…
Федор Иванович Буслаев
Федор Иванович Буслаев (13.04.1818, Keренск Пензенской губ. – 31.07.1897, Москва) – филолог, историк, искусствовед. Специалист в области истории русского языка, славянской филологии, истории византийского и древнерусского искусства. Профессор Московского университета с 1861 г. – академик.
После окончания словесного факультета Московского университета был приглашен работать домашним учителем в семью графа Сергея Григорьевича Строганова – попечителя Московского учебного округа. Летом 1839 г. Строганов пригласил его с собой в Италию, где Буслаев должен был преподавать русскую историю и словесность детям графа. Строганов снабдил молодого учителя деньгами (тогда путешественники предпочитали голландские десятифранковые червонцы) до Дрездена, где тот должен был ожидать графиню с детьми из Карлсбада, а самого графа – из Москвы. По совету своего университетского профессора римской словесности Д. Л. Крюкова Буслаев запасся в Петербурге книгами о Риме, в том числе фундаментальным трудом О. Мюллера по археологии искусства. А управляющий графа, желая, по-видимому, угодить хозяевам, купил для Буслаева билет на пароход до Любека не второго класса, а первого, чем, по словам Буслаева, нанес немалый ущерб его кошельку и «обрек на исключительное положение между первоклассными пассажирами из великосветского общества».
Буслаев: «В потертом сюртуке скромного покроя и в черной шелковой манишке вместо голландского белья, я казался темным пятном на разноцветном узоре щегольских костюмов окружавшей меня толпы. Впрочем, это нисколько не смущало меня, потому что и сидя в каюте, и гуляя по палубе, я не имел ни минуты свободной, чтобы обращать на кого бы то ни было внимание, уткнув свой нос в книгу Отфрида Мюллера. Все время на пароходе я положил себе на ее изучение, чтобы исподволь и загодя подготовлять себя к специальным занятиям по истории греческого и римского искусства и древностей в Риме и Неаполе. На другой же день плавания мне случилось заметить, что между моими спутниками первого класса я прослыл за скульптора или живописца, отправленного из Академии художеств в Италию для усовершенствования в своем искусстве. Это очень польстило моему самолюбию, и тем более, что я еду в такой дальний путь и с такой возвышенной целью, тогда как все другие направлялись – кто веселиться в Париж, Лондон или Вену, а кто полоскать свой желудок на минеральных водах».
Буслаев добрался морем до Травемюнде, потом ехал дилижансами; от Лейпцига до Дрездена уже была железная дорога. Оттуда он вместе со Строгановыми ехал до Неаполя экипажами. Для крутых подъемов на высоты Тирольских и Апеннинских гор в экипажи впрягали волов. На два-три дня путешественники останавливались в Нюрнберге, Мюнхене, Инсбруке, Вероне, Мантуе, Модене, Сиене; по неделе провели во Флоренции и Риме; месяц – в Болонье.
Граф Строганов ехал в Италию со всей семьей: женой, сыновьями Александром (студентом, на год моложе Буслаева), Павлом, шестнадцати лет, Григорием, десяти, и полуторагодовалым Николаем, а также дочерьми Софьей и Елизаветой, пятнадцати и тринадцати лет. Их сопровождали также немецкий гувернер старших сыновей (доктор филологии одного из немецких университетов), лозаннская гувернантка дочерей, немецкая бонна Николая, камердинер графа, горничная графини и повар. Был также специальный кондуктор-курьер, свободно говоривший на четырех языках, который ехал впереди экипажей и договаривался насчет обеда и ночлега. В случае длительных остановок этот же курьер нанимал для Строгановых дом или виллу со всей обстановкой и прислугой. В гостиницах для богатых путешественников полагался также гид – «лон-лакей» (по-итальянски – domestico di piazza). Однако старший граф Строганов, будучи одним из образованнейших людей своего времени, и сам прекрасно знал Европу. Он владел несколькими европейскими языками, был одним из крупнейших в Европе коллекционеров древнего искусства: в своем петербургском доме у Полицейского моста он собрал огромную коллекцию древних монет; московский же дом Строганова славился на всю Европу собранием византийских и русских икон.
Буслаев: «Он ‹граф Строганов› не принадлежал к большинству тех заурядных любителей изящного, которые, относясь к художественным произведениям слегка, как к приятной забаве, умеют оценивать его качества только личным своим вкусом, иногда тенденциозным пристрастием, а то и просто минутным капризом. Настоящий знаток не довольствуется в эстетических взглядах таким узким, крайне субъективным кругозором и проверяет и подкрепляет свои личные впечатления и суждения научным знанием и опытностью, которую приобретает многолетним и постоянным изучением художественных произведений во всех мельчайших подробностях технического их исполнения. Именно таким знатоком был и граф».
Сыновья Сергея Строганова впоследствии продолжили традицию отца: Павел Сергеевич разместил в своем петербургском доме на Сергиевской большую картинную галерею, а Григорий Сергеевич, живший в основном в Италии, собрал в Риме в своем палаццо на Via Sistina около Trinita dei Monti уникальную коллекцию памятников древнехристианского и византийского искусства.
В начале ноября 1839 г. Строгановы приехали наконец в Неаполь, где прожили до апреля 1840 г.; начало лета провели на острове Иския, а в августе-сентябре два месяца жили на вилле в Сорренто. Строганов поначалу не собирался более заезжать в Рим и, по просьбе Буслаева, отпустил его в мае 1840 г. в Рим на две недели.
Буслаев: «Заранее составил я себе план с обдуманно строгим выбором, что надобно мне в Риме осмотреть и где быть, и не ограничивался беглым обзором, даже по нескольку раз побывал там и внимательно изучал то, что особенно меня интересовало и что казалось мне самым важным и необходимым. В голове моей крепко засела всего меня охватившая мысль, что этих сокровищ знания и образования я уже потом никогда не увижу Две майские недели слились для меня в один торжественный праздник. Вместе с тем мое ликование растворялось унылым ожиданием разлуки».
Осенью 1840 г. Строгановы, однако, приехали в Рим, решив именно здесь провести зиму. Курьер снял для них большие апартаменты в двух этажах дома в районе Испанской площади, известного в Риме как «Casa Dies» (на углу Via Gregoriana и Capo le Case).
Буслаев: «Я жил в верхнем этаже. В моей комнате вместо окон были две стекольные двери, выходившие каждая на свой балкончик, так что, находясь у себя дома, я всегда мог любоваться бесподобною панорамою западной части Рима».
Угловой дом на виа Грегориана был в те годы одним из самых высоких в этой части Рима – с верхних этажей действительно открывался уникальный вид. Вот лишь одна из дневниковых записей Буслаева (от 19 ноября 1840 г.):
«Зрелище величественное! Со своего балкона сейчас смотрел я, как нисходили первые лучи восходящего солнца на Святого Петра: сначала осветился фонарь, потом мало-помалу купол и, наконец, все здание с соседним Ватиканом. За Святым Петром все было сумрачно, так как он сам горел розовым сиянием: вот истинный символ церкви! Так нисходит Святой Дух на освященный алтарь, верил я тогда в преизбытке глубокого умиления. Кстати пришлось, что перед таким чудом природы я, как нарочно, во второй песне „Пургатория“ ‹„Чистилища“› читал о лучезарном явлении ангела. Но так высока и исполнена поэзии моя действительность, что сейчас виденное мною предпочитаю сказанному даже самим Дантом».
Биограф и исследователь творчества Буслаева Э. Л. Афанасьев так передает первоначальные римские настроения Буслаева:
«Поначалу его очарование было так велико, что все окружающее как бы потускнело и померкло: он не замечает ни сценок итальянской народной жизни, ни даже красот самого пейзажа дивной страны. Ему чудилось, будто самый воздух Италии – ясный и прозрачный – словно застыл во времени и живет только в вечности, и он с радостью переселяется в этот мир… Это чистейшее наваждение имело решительное влияние на всю дальнейшую деятельность Буслаева: все наиболее продуктивные его мысли отныне неизбежно несут в своем составе необыкновенную чуткость к художественной форме; все они будут формироваться в поле повышенного внимания к красоте».
Что касается буслаевских обязанностей домашнего учителя, то и в Неаполе, и в Риме существовал один и тот же распорядок занятий: полдевятого подавали кофе; от 9 до 12 часов Буслаев давал три урока: Павлу, потом Григорию, потом обеим сестрам вместе. Буслаев преподавал русскую историю и словесность (не только теорию – риторику и пиитику, – но и историю литературы). Всю вторую половину дня он был относительно свободен и посвящал это время углубленному знакомству с папской столицей, которая во многом жила тогда еще жизнью средних веков.
Буслаев: «Куда ни пойдешь, повсюду аббаты и разновидные монахи в своих белых, черных и коричневых рясах, а то кардинал в своем багровом облачении или какой другой вельможный прелат едет в высокой позлащенной карете на красных колесах, с нарядными гайдуками… Зайдешь куда в лавку, а там уж непременно торчит монах; пойдешь поутру бриться в цирюльню, а там уже сидят аббаты с намыленными щеками и подбородком, подвязанные белыми салфетками. Раз дал я цирюльнику наточить мою бритву с черенком из слоновой кости; вместо этого возвратил он мне чужую, с черенком из дешевого костяного материала с нацарапанной надписью: „Padre Travaglini“. Так и привез я с собою в Москву клерикальную бритву, которой я и пользовался до тех пор, пока с разрешения эмансипации перестал брить бороду».
В те месяцы Буслаев подружился с жившим почти напротив, на втором этаже («в бельэтаже») углового дома Via Sistina и нынешней Via Francesco Crispi, известным русским художником-гравером Федором Ивановичем Иорданом – другом Гоголя, долгие годы гравировавшим «Преображение» Рафаэля.
О своих прогулках по Риму Буслаев вспоминал:
«Бывало, присяду на камне у входа в так называемый „золотой дворец“ Нерона, перед громадою Колизея, и читаю Тацита, а то заберусь в трущобы по ту сторону Форума и Палатинской горы и, воображая себя при самых началах римской истории, читаю у Ливия, как волчица кормила своими сосцами Ромула и Рема и как Нума Помпилий поучался премудрости от нимфы Эгерии, – и проходят тогда в моих мечтаниях вереницею Тулл Гостилий, Тарквиний Гордый и другие баснословные цари, в которых, еще по лекциям Крюкова, я прозревал длинные периоды доисторических времен. Я и тогда уже любил сказочные потемки народных преданий, на разработку которых впоследствии, будучи профессором, я положил немало труда».
Главным чтением Буслаева в Риме в те месяцы были классические труды Винкельмана по истории искусства.