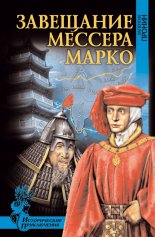Знаменитые русские о Риме Кара-Мурза Алексей
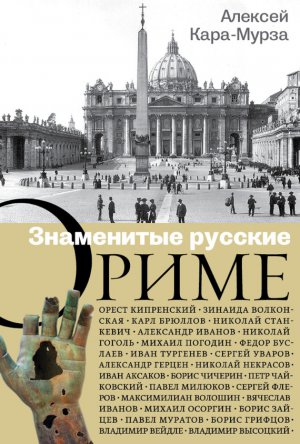
Не случайно в своих мемуарах о совместных с Муратовым римских путешествиях писатель Зайцев более всего вспоминал именно о прогулках по Римской Кампанье, и в первую очередь в любимый Муратовым городок Тиволи в окрестностях Рима. Зайцев так описал их общее с Муратовым впечатление от посещения развалин виллы императора Адриана (I в. н. э.):
«В опьянении некоем бродим среди обломков жилищ ее, по разным портикам, атриумам, заросшим плющом, видим водоемы, – все это двухтысячелетний сон, заплетенный зеленью, полный очарования неизъяснимого».
Впечатлениям от виллы Адриана в окрестностях Тиволи посвящены и строки самого П. Муратова:
«С этих террас ‹Тиволи› путешественник видит невдалеке… укрытые в группах зелени развалины виллы Адриана. Он может быть хорошо подготовленным к посещению этих развалин „Археологическими прогулками“ Буассье, но описания не могут дать понятия о выросшей среди руин удивительной растительности. Все приняло там поистине колоссальные размеры. Редко где можно увидеть такие мощные оливковые деревья с причудливейшими кривыми стволами. Их узловатые корни далеко тянутся вокруг, переплетаясь и взрывая землю. Нигде нет таких развесистых и густолиственных вечнозеленых дубов, как на склонах „Темпейской“ долины. Здесь даже в полдень сумеречно, даже в летний жар прохладно; зимой вода выступает при каждом шаге из-под сухих листьев, и повсюду ярко зеленеет влажный мох. Леса лавров выросли среди каменных россыпей. Плющ завешивает целые стены и взбирается высоко, до зияющих провалами сводов. Даже недавние насаждения принимаются с необычайной быстротой. Аллея кипарисов, ведущая к выходу, уже стала самой высокой кипарисовой аллеей в окрестностях Рима. И новое дерево Кампаньи, спасающий от малярии эвкалипт, растет здесь в изобилии. Его прямые белые стволы и длинные шелковистые листья встречаются часто среди развалин. Чередование разнообразной и великолепной растительности с причудливыми обломками стен, с прорванными сводами, сквозь которые синеет небо, с опрокинутыми колоннами, со ступенями из драгоценного мрамора и мозаичными полами, искривленными пробивающейся среди них травою, придает редкую прелесть вилле Адриана… Вилла Адриана хороша еще тем, что она открывает перед нами что-то из частной жизни римлян… Это было личное, интимное заведение Адриана, его поместье, в котором хозяину был знаком каждый угол и в котором каждый новый гость был событием… К ней надо подходить с тем понятием о римской вилле, которое дают очаровательные письма Плиния Младшего. Исследователи находят в расположении отдельных зданий виллы Адриана ту же преобладающую заботу о солнце, которая так выражена у Плиния. Положение относительно солнца делает комнаты разными, как живые существа, веселыми или серьезными, приглашающими к легкой беседе, к настойчивым трудам или одиноким размышлениям».
В своем очерке «1908-Рим» Борис Зайцев вспоминает и о том, как после посещения виллы Адриана и завтрака в скромной остерии под открытым небом («запивали спагетти и сыр прохладным Фраскати») они с Павлом Муратовым отправились пешком на виллу кардинала д'Эсте (ХVI в.):
«Там другой мир и другой век – фонтаны Ренессанса, божество вод, аллея льющихся струй. Хоть и другая эпоха, но воды все те же, что и в самом Риме – сухопутном городе великих вод».
А вот описание той же виллы д'Эсте (которой восхищались многие русские – от Карла Брюллова до Макса Волошина) самого Павла Муратова:
«Это вечный образ римской виллы, пленяющий наше воображение, какая-то вечная наша мечта. Обильные воды текут там, образуя тихие зеркальные бассейны и взлетая сверкающими на солнце струями фонтанов. Широкие террасы установлены рядами потемневших от времени статуй. Закругленные лестницы ведут к ним; зеленый мох лежит толстым слоем на их балюстрадах. Аллеи проходят под сводами вечнозеленых дубов. Солнечный луч пестрит тонкие стволы в рощицах мирт и лавров. Заросли папоротников занимают заброшенные сырые гроты, нежные пещерные травки свешиваются с их потолков. Мраморные скамьи стоят у подножия старых кипарисов, и их твердые смолистые шишечки сухо стучат, падая на мрамор. Все это есть на вилле д'Эсте, и никакое воображение не в силах представить богатство ее вод, расточительности фонтанов, величия бесконечно спускающихся лестниц и простора Кампаньи, открывающегося с ее высоких террас».
С ноября 1911 г. по август 1912 г. П. Муратов (вместе со второй женой, Екатериной Сергеевной Грифцовой) находился в новой командировке в Италии от Румянцевского музея для написания двухтомника «Новеллы Итальянского Возрождения» (вышел в Москве в 1912 г.). Поздней осенью 1911 г. он снова оказался в Риме вместе с Зайцевыми; там же они вместе встречали и новый, 1912-й год. И вновь любимым местом их совместных путешествий была Римская Кампанья. Муратов вспоминал о новом посещении виллы Адриана:
«Однажды зимой небольшое наше общество замешкалось с осмотром Адриановой виллы. Вечерний туман захватил нас в Канопской долине. После краткого совещания мы решили ехать на ближайшую станцию железной дороги. С наступлением сумерек все странно изменилось на вилле. Тень вечера погасила блеск воспоминаний. Холодная сырость декабрьской ночи распространялась быстро, и казалось, что холод смерти разливается здесь реками туманов. Мы поспешили к выходу; те самые камни, мимо которых мы проходили здесь утром, казались уже другими. Все внушало леденящее кровь чувство небытия. Сторож, укутанный в плащ, проводил нас за ворота; на его лице мелькал неясный страх – страх ночи, лихорадки, привидений… По дороге к станции мы переехали Анио через Понте Лукано. Вода глухо шумела под мостом у круглой гробницы Плавтиев. Нам повстречались два-три запоздалых стада. Овцы жались к изгородям; злые, взъерошенные собаки переглянулись с пастухами и не стали на нас лаять. На станции, в ожидании поезда, мы долго сидели в остерии, слушая, как усиливается ветер в Кампанье. Лампа вспыхивала и гасла, стены дрожали, и казалось, вот-вот рухнет кровля бедного жилья и прикроет нас, грязных ребятишек, стол с полулитрами желтого вина, ветхий диван, над которым висели портрет короля и пара скрещенных ружей. Когда мы вышли наружу, была уже совсем черная ночь; порывы ветра валили с ног. Кое-как, держась друг за друга, мы добрели до платформы, освещенной двумя тусклыми фонарями. Шум падающей воды и серный запах заставили вспомнить, что то была станция Альбулейских вод, знаменитых в древности и посещаемых и теперь в летние месяцы приезжими из Рима. Но каким далеким казался Рим! Ночь и ветер скрывали пространства. Наконец спящий ночной поезд, шедший из Абруцци, подобрал нас и после медленного пробега через какие-то темные пустыни высадил на сияющей городскими огнями площади Термини. Ничто уже не заставляло здесь думать о Кампанье. Лишь влажность воздуха, туман и мокрые плиты римских улиц были ее недальним напоминанием».
Очерки П. П. Муратова на итальянские темы публиковались в «Русских ведомостях», «Зорях», «Аполлоне», «Золотом руне», «Старых годах» и имели большой успех. Они и стали основой вышедших в 1912 г. двух томов муратовских «Образов Италии», позднее многократно переиздававшихся. Среди итальянских «образов» многие посвящены Риму – «Чувство Рима», «Античное», «Христианский Рим», «Высокое Возрождение», «Барокко», «Пиранези», «Римская Кампанья» и др. В предисловии к «Образам Италии» Муратов писал:
«Италия с особенной силой пробуждает в душе каждого способность воспоминаний. Дни, прожитые там, не исчезают бесследно, и прошлое отдельного существования выступает отчетливее на фоне неумирающего прошлого. Прошлое Италии представляет главную тему этой книги. В нем больше жизни, настоящей вечной жизни, чем в итальянской современности. Она не внушает вражды, мешающей верить в будущее итальянского народа, сохранившего многие прекрасные черты. Но, думается, душа этого народа полнее и вернее выражена в его старом искусстве, в судьбе его исторических героев и в религиозной древней связи с картинами окружающей природы. Италия принадлежит к великим темам, не устающим привлекать мысль и воображение различных людей и сменяющихся поколений. Это целый мир, и каждый, кто вступает в него, проходит в нем отдельной дорогой».
В 1914 г. Муратов начал издавать журнал «София», в котором сотрудничали и его друзья-италофилы Б. Зайцев, М. Осоргин, Б. Грифцов, М. Хусид и др. С началом войны призывается в действующую армию, служит офицером в гаубичной батарее на австрийском фронте; затем переводится на Кавказ. С весны 1915 г. отвечал за воздушную оборону Севастополя, военным комендантом которого был его брат.
После большевистской революции, весной 1918 г., Муратов, в противовес большевистскому официозу, становится одним из организаторов (с 1921 г. – председателем) Института итальянской культуры – «Studio Italiano», который просуществовал в Москве около пяти лет. (Его первым директором был Одоардо Кампо, гражданин Италии, живший с 1913 г. в Москве и работавший в библиотеке Румянцевского музея.) В институте, помимо самого Муратова и таких известных литераторов, как Осоргин и Зайцев, работали молодые преподаватели университета и сотрудники Музея изобразительных искусств – А. Габричевский, Б. Виппер, Н. Романов, А. Сидоров, М. Хусид, С. Шервинский. Лекции Института итальянской культуры проводились в аудиториях Университета Шанявского, во 2-м Московском государственном университете (бывших Высших женских курсах в Мерзляковском переулке, д.1/5), в Российской академии истории материальной культуры на Малой Никитской, 12.
Просветительская и общественная деятельность Муратова привлекла внимание властей. В августе 1921 г. он был арестован чекистами вместе со всей Комиссией помощи голодающим. В Лубянской тюрьме Муратов оказался в одной камере с Б. Зайцевым и М. Осоргиным.
Зайцев: «Первую ночь на Лубянке, в камере „Контора Аванесова“, мы провели рядом, на довольно жестких нарах. В третьем часу привели молодого Виппера, книгу которого „Тинторетто“ я купил здесь в прошлом году, и тотчас вспомнил ту ночь и как Павел Павлович сонно приподнялся, посмотрел на вошедшего, опять усмехнулся, сказал: „Ну, вот, вот и еще“. Отодвинувшись слегка, указал ему место с собою рядом».
Для развлечения себя и других Муратов, Зайцев, Осоргин, другие заключенные читали в камере друг другу лекции об искусстве, литературе, истории.
В начале 1922 г. Муратов, как сотрудник отдела по делам музеев и охраны памятников искусства Наркомата просвещения, вместе с семьей выехал в заграничную командировку в Германию, из которой в Россию не вернулся. Осенью 1923 г. по приглашению итальянского слависта Э. Ло Гатто Муратов приехал в Италию для чтения лекций по русскому искусству. Вместе с женой Е. С. Грифцовой и сыном он поселился в Риме, где прожил на Via Babuino (около Piazza del Popolo) до 1927 г. Дочь поэта и философа В. И. Иванова (окончательно поселившегося в Риме в 1924 г.) Лидия Иванова с дружеской иронией писала о римском обиталище Муратова:
«Иностранцы, поселяясь в Риме, обычно проходят три стадии. Первая – они с упоением поселяются в старом районе. У них нет отопления. Окна не закрываются, ванна занята стирающимся бельем, все сломано и грязно – неважно, они в старом Риме, они в восторге… Наш дорогой романтический друг Павел Павлович Муратов может служить примером иностранца первой стадии. Как-то раз он искал квартиру. Нашел восхитительную, говорит он. Дешево. Это надстройка на крыше одного дома на Виа дель Бабуино. Какой воздух! Какая панорама! Буквально весь Рим! Вечером Павел Павлович ложится спать. Стены в щелях, продувные. Он накидывает на постель одеяло, одежду, все, что может, долго мучается и, наконец, засыпает. Вдруг его будит острый свет, падающий прямо в глаза. Он долго не понимает, что это такое, присматривается и видит: прямо над его кроватью звезда сияет сквозь дырки в потолке».
На римской квартире П. Муратова бывали Вяч. Иванов, В. Ходасевич и Н. Берберова, художник Г. Шилтьян, архитектор А. Белобородов. Впоследствии Муратов жил в Париже, побывал в Японии и Америке, а незадолго до войны перебрался в Англию, где пережил налеты германской авиации на Лондон. Умер П. П. Муратов в 1950 г. в имении друзей в Ирландии.
Борис Александрович Грифцов
Борис Александрович Грифцов (24.05.1885, Москва – 21.12.1950, Москва) – литературовед, искусствовед, переводчик. Окончил философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. Печатался в журналах «Зори», «Русская мысль», «София», «Власть народа». Читал лекции в Народном университете А. Л. Шанявского; в летние каникулы ездил с группами земских учителей в Италию по линии благотворительного Фонда, организованного графиней В. Бобринской. В 1914 г. выпустил книгу «Город Рим» (в 1916 г. вышло второе издание этой получившей известность книги).
Весной 1918 г. Б. А. Грифцов стал одним из активных сотрудников «Studio Italiano» («Итальянского Института»), организованного в Москве итальянским искусствоведом О. Кампи и группой русских италофилов – П. Муратовым, М. Осоргиным, Б. Зайцевым, М. Хусидом, А. Габричевским, С. Шервинским. В 1918–1921 гг. Грифцов регулярно выступал с лекциями на итальянские темы на сессиях «Studio Italiano», которые проходили в аудиториях Университета Шанявского, во 2-м Московском государственном университете в Мерзляковском переулке, д. 1/5 (бывших Высших женских курсах), в Российской академии истории материальной культуры на Малой Никитской,12.
В отличие от многих своих коллег – литераторов и поклонников Италии (Вяч. Иванова, Б. Зайцева, М. Осоргина, П. Муратова), Б. А. Грифцов остался в Советской России и позднее стал известен как переводчик произведений Дж. Вазари, О. Бальзака, Г. Флобера, Р. Роллана, М. Пруста. Участвовал в составлении «Русско-итальянского словаря» (1934).
Владимир Васильевич Вейдле
Владимир Васильевич Вейдле (13.03.1895, Петербург – 5. 08.1979, Париж) – поэт, литературный критик, искусствовед, историк-медиевист. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, где учился, в частности, у таких знатоков Италии, как профессора Дмитрий Власьевич Айналов и Иван Михайлович Гревс. Преподавал историю искусств в Пермском и Петроградском университетах, в Институте истории искусств. Писал стихи в духе акмеизма, был близко знаком с Ахматовой, Мандельштамом, Блоком.
В июле 1924 г. эмигрировал во Францию, где прожил до конца жизни. С 1925 г. – профессор христианского искусства парижского Богословского института. После Второй мировой войны преподавал в Европейском колледже в Брюгге, университетах Мюнхена, Принстона, Нью-Йорка. Кавалер ордена Литературных заслуг Франции. Близкий друг таких мировых знаменитостей, как Клодель, Валери, Элиот, Беренсон.
Прекрасный знаток Италии и Рима. В 1967 г. в Париже вышла его книга «Рим. Из бесед о городах Италии». Многократно посещая Рим, В. Вейдле с иронией, но и с пониманием и симпатией относился к «культу Вечного города», бытовавшему среди иностранцев. Вот одна из его римских зарисовок:
«В июльский полдень бравые баварцы, обливаясь потом, восходят на Палатин; на них толстые шерстяные куртки, такие же чулки, подбитые железом башмаки и зеленые войлочные шляпы с кокетливым петушиным перышком».
«Европейское паломничество» в Рим В. Вейдле считал и естественным, и благотворным. Поэтому он полагал, что и традиция русских путешествий в Италию – это «залог европейского бытия России, ибо нет в Европе страны, где не было бы собственной вереницы итальянских путешествий и своего, одной этой стране присущего вида любви к Италии». К числу благодарных римских паломников Вейдле относил и самого себя:
«Да и мы сами, нынешние гости Рима, разве нет у нас чувства, что мы – паломники здесь и что прибыли мы сюда хоть и не пешим хождением, как дальние наши предки, а все же по стопам других паломников? Паломником можно ведь назвать и того, кто предпринимает странствие к местам пусть и не святым по его вере, но все же таким, где он чает воочию увидеть драгоценное, священное для него прошлое. Таким местом был, и по преимуществу был, для многих поколений, таким местом и для нас остался Рим. Даже и те, кто компактными стадами с вожаком во главе устремляются сюда, все же взирают на показываемое им здесь не с любопытством только, но и почти всегда с некоторой долей благоговения».
Владимир Семенович Высоцкий
Владимир Семенович Высоцкий (25. 01. 1938, Москва – 25. 07. 1980, Москва) – поэт, автор-исполнитель песен, актер театра и кино. В конце июня 1979 г. Высоцкий полетел из Москвы в Париж к жене – французской актрисе русского происхождения Марине Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова). 2 июля 1979 г. они вдвоем прилетели в Рим: инициатором поездки была Марина, которая провела в Италии годы юности и считала ее своей «второй родиной». В этот раз она должна была сниматься в роли Лукреции в фильме «Мнимый больной» (Il Malato immaginario) режиссера Тонино Черви; ее партнерами были такие звезды европейского кино, как Альберто Сорди (Аргант), Лаура Антонелли (Белина) и Бернар Блие (доктор Пургон).
В Риме Марина Влади забронировала номера в отеле «Madrid» на via Mario de Fiori, 93 недалеко от Испанской лестницы – отчасти из-за «испанской темы», близкой Высоцкому, только что отснявшегося в роли Дон-Гуана в «Маленьких трагедиях» по мотивам А. С. Пушкина. Кроме того, отель находился совсем рядом с рестораном «Otello alla Concordia» на via della Croce, в котором Марина любила обедать, бывая на съемках в Риме.
Для В. С. Высоцкого это было первое настоящее посещение Италии – до этого он лишь кратко бывал в Генуе, в порту которой в середине 1970-х гг. начинались и заканчивались средиземноморские круизы на теплоходе «Белоруссия», где капитаном был его друг – Феликс Дашков.
К лету 1979 г. у Высоцкого закончились трудные съемки в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера. Режиссер несколько месяцев боролся за то, чтобы ему разрешили снимать именно Высоцкого в роли Дон Гуана: «поэта должен сыграть поэт». Швейцер вспоминал:
«Приступая к работе над „Маленькими трагедиями“ Пушкина, я решил, что Дон Гуана должен играть Высоцкий… Дон Гуан – Высоцкий – это тот самый Дон Гуан, который и был написан Пушкиным. Для меня был важен весь комплекс человеческих качеств Высоцкого, которые должны были предстать и выразиться в этом пушкинском образе. И мне казалось, что всё, чем владеет Высоцкий как человек, всё это есть свойства пушкинского Дон Гуана. Он поэт, и он мужчина. Я имею в виду его, Высоцкого, бесстрашие и непоколебимость, умение и желание взглянуть в лицо опасности, его огромную, собранную в пружину волю человеческую, – всё это в нем было. И в иные минуты или даже этапы жизни из него это являлось и направлялось, как острие шпаги… Пушкинские герои живут „бездны мрачной на краю“. И находят „неизъяснимы наслажденья“ существовать в виду грозящей гибели. Дон Гуан из их числа. И Высоцкий – человек из их числа».
Жена Швейцера и сорежиссер фильма Софья Милькина добавила:
«Равенство между Дон Гуаном и Высоцким для нас заключалось в соответствии каждого из них – личности самого А. С. Пушкина. И Дон Гуан, и Высоцкий – поэты, оба бесстрашные люди, бросающие вызов смерти, оба понимают любовь к женщине как борьбу духовную и победу над женщиной как победу в этой духовной борьбе».
Сам Высоцкий так написал об этой роли:
«Для меня роль Дон Гуана была в диковинку. Десять лет назад они, конечно, предложили бы эту роль Тихонову или Стриженову. Потом подумал: почему, в конце концов, – нет? Почему Дон Гуан должен быть обязательно, так сказать, классическим героем? Во всяком случае, были очень интересные пробы, я не в силах был от этого отказаться. Хотя, честно говоря, хотел уже больше не играть… По-моему, „Каменный гость“ – одно из самых интересных произведений Пушкина. Он написал это про себя. Он же сам был Дон Гуаном до своего супружества, до того, как из разряда донжуанов перешел в разряд мужей. В этой трагедии он сам с собой разделался, с прежним. Сам себе отомстил».
Поначалу предполагалось, что Высоцкий будет играть в «Маленьких трагедиях» еще и роль Мефистофеля в прологе фильма – на эту вторую роль, кстати, в отличие от Дон Гуана, Высоцкий согласился сразу: «на Черта, на Мефистофеля я подхожу, а с этим… – не знаю».
В июне 1979 г. для съемок пролога была подготовлена «натура» на берегу Каспийского моря – Высоцкий прилетел туда с гастролей в Минске совершенно больным. Милькина вспоминала:
«Высоцкий жаловался на сильную боль в горле. Когда я пощупала его лоб, он был горяч… Артиста знобило. Но он готов был приступить к работе. На берегу дул пронзительный холодный ветер. А сниматься-то надо было в одних трусах да еще барахтаться в холодной прибрежной воде… Потрясающим было то, что Высоцкий изъявил желание репетировать сцену. Он быстро устал и мы, режиссеры, оставили его в покое».
Только позднее съемочная группа узнала, что 10 июня, после концерта в Минске, у Высоцкого был тяжелейший сердечный приступ, и весь полет из Минска в Баку ему было очень плохо (на роль Мефистофеля в итоге был приглашен другой актер).
В своей книге «Владимир или прерванный полет», написанной в форме обращения к Высоцкому, Марина Влади потом написала:
«Я люблю Рим, и особенно квартал, который я тебе показываю сразу же по приезде. Я выбрала маленькую гостиницу на улице Марио де Фьори, в двух шагах от знаменитой лестницы на площади Испании, и от нашего ресторана с внутренним двориком, увитым виноградными лозами».
В этот ресторанчик Марина и повела Высоцкого в первый же вечер, попросив захватить гитару: «На маленькой улочке возле площади Испании в Риме находится ресторан „Отелло“ – это моя столовая, как здесь говорят. Я прихожу сюда каждый вечер после работы, когда снимаюсь в Риме. Три дочери старого Отелло теперь хозяйки заведения. Это мои подруги, мы знакомы уже больше тридцати лет… Вокруг семейного стола уселись хозяйки, их дети, друзья, а за ними и все посетители ресторана потянулись к этому столу. Американские и японские туристы, пожилые обитатели квартала, отдыхающие в свежести вечера от почти тропической июльской жары, местные торговцы, врачи и санитары из ближайшей больницы – около двухсот пятидесяти человек больше двух часов стоят, прижавшись друг к другу, и слушают, как поет „русский“».
Марина Влади, конечно, преувеличила и размер аудитории, и продолжительность импровизированного концерта. Хорошо сохранившаяся полная аудиозапись свидетельствует: Владимир Высоцкий пел немногим более получаса. Но успех действительно был полным.
Удивительна перекличка эпох, о которой наверняка не подозревали не только Владимир Высоцкий и Марина Влади, но и хозяева популярной в Риме траттории. «Отелло» находится во дворе дома, известном знатокам как «Палаццо Понятовского» и построенном в конце XVIII в. сыном последнего польского короля Станиславом Понятовским. Здесь почти полгода, с конца октября 1845 г. по май 1846 г., снимал скромную квартиру на четвертом этаже Николай Васильевич Гоголь. – Это было его последнее жилище в Риме (потом он будет там только проездом), и именно здесь Гоголь написал свои прощальные римские строки: «Тяжело, тяжело, иногда так приходится тяжело, что хоть просто повеситься»
В римском отеле «Мадрид» Владимир Высоцкий продолжал сочинять: в бумагах поэта и актера сохранился черновик стихотворения «Еще бы не бояться мне полетов…» – на фирменном бланке отеля.
14 июля 1879 г., уже на следующий день после возвращения из Европы, Владимир Высоцкий дал в Москве очередной большой концерт в Плехановском институте, а через несколько дней отправился на гастроли в Узбекистан. Там ему опять стало плохо с сердцем, и 28 июля, прямо в гостиничном номере в Навои, случилась клиническая смерть. В тот раз его удалось спасти…
Владимир Семенович Высоцкий скончался в Москве через год, 27 июля 1980 г. За месяц до смерти он снова побывал в Италии – на одни сутки прилетал к Марине Влади в Венецию.
Роль Дон Гуана в «Маленьких трагедиях» так и осталась последней крупной ролью Владимира Высоцкого в кино. Режиссер Софья Милькина как-то заметила:
«Смертельно тяжелым оказалось для него пожатье каменной десницы Командора, которому он всю жизнь бесстрашно бросал вызов».
Часть вторая
Русские о Риме
Первая встреча с Римом
Н. Гоголь
1837
«Когда въехал в Рим, я в первый раз не мог дать себе ясного отчета. Он показался маленьким. Но чем далее, он мне кажется большим и большим, строения огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, развалин и антиков на всю жизнь станет. Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уж на всю жизнь. Словом, вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить…»
Письмо А. С. Данилевскому, 15 апреля 1837 г.
М. Погодин
1839
«Дилижанс едет. Рассветает… Прекрасное утро! Я упросил кондуктора взять меня к себе, на перед, чтоб смотреть удобнее вокруг и поймать первую точку вечного города, как она мелькнет на горизонте… Места пустые, совершенно бесплодные, начались верст за сорок до Рима. Не видать ни одного дерева. Кое-где торчит скудный кустишко. Зелени нет. Вся земля как будто вымерла. Никакого жилья… Здесь господствует Malaria, зловредный воздух. Рим стоит как оазис, окруженный им со всех сторон… С чувством стесненным приближался я к Риму. Вон купол Св. Петра, воскликнул вдруг кондуктор и схватил меня за руку, а другою указывал точку, черневшую вдали. Я вздрогнул, встал и поклонился… Нетерпение увеличивается с каждым шагом. Наконец, город становится виднее и виднее, а вокруг сторона бесплодная и пустынная до невероятности. Ближе и ближе, и вот подъезжаем к воротам Porta del Popolo. В Риме мы, в Риме!»
М. П. Погодин. Год в чужих краях. 1839. Дорожный дневник. М., 1844, ч. 2, с. 1–2.
Ф. Буслаев
1840
«В три часа пополудни, за 15 миль, показался нам на отдаленном горизонте этот чудесный город. Я сидел в передней коляске дилижанса и потому мог наслаждаться вполне необъятной панорамою, которая открылась нам с последнего спуска на огромную равнину, на которой лежит Рим. Вправо в солнечном тумане волновались грациозными линиями горы… Рима еще не видать было за большим холмом влево; когда же мы обогнули его, вдали на конце горизонта открылась темноватая полоса, которою раскинулся вдали Рим: здания сливались в одну сплошную массу, и только один Св. Петр своим куполом возносился над этой полосой, подобно вещей голове сказочного исполина, лежащего на костях всемирного побоища народов, и высоко рисовался по синему небу; все исчезло в пространстве и сливалось с землею, от которой величаво поднимался купол великого храма храмов… Так верою возносится душа над сутолокою житейских забот… Есть на земле счастье! Возвышеннее и блаженнее того, что я вкушал сегодня, не могу себе и представить!»
Ф. И. Буслаев. Мои воспоминания. М., 1897, с. 236–237.
А. Герцен
1847
«Не могу сказать, чтоб Рим с первого раза сделал на меня особенно приятное впечатление. В Рим надобно вжиться, его надо изучить; хорошие стороны его не бросаются в глаза, в наружности города есть что-то старческое, отжившее, пустынное и дряхлое; его мрачные улицы, его угрюмые дворцы и некрасивые дома печальны; в нем все почернело, все будто после покойника, все пахнет затхлым, так, как в Петербурге все лоснится, все пахнет известью, сырым, необжитым. Всего более поражает в новом Риме отсутствие величия, т. е. именно ширины, того, что мы привыкли сопрягать со словом „Рим“… Рим – величайшее кладбище в мире, величайший анатомический театр, здесь можно изучать былое существование и смерть во всех ее фазах… Первое, что поражает человека, не свихнувшего свой ум мистическими бреднями, – это следы жизни смутной, дикой, отталкивающей, исключительной, которою сменяется широкая, могучая, раскрытая жизнь древнего Рима. В древнехристианском Риме не видать ни малейшего понятия об искусстве, никакого чувства изящного; застроенные в стены колонны, порталы стоят вечными свидетелями благочестивого безвкусия того печального мира, который заменил мир Пантеона и Колизея… Когда я первый раз вышел на Капитолийскую гору и вдруг очутился над Форумом и Колизеем, я остановился, смущенный и взволнованный. Вот он, остов великого деятеля! В гигантском скелете сохранилось царственное выражение. Forum Romanum – великие светские мощи мира чисто светского; вечный Рим тут, по этим развалинам легко понять, кто были римляне».
А. И. Герцен. Письма из Франции и Италии. 1847 Собрание сочинений в 8 тт. М., 1975, т. 3, с. 78–79.
И. Аксаков
1857
«Рим, когда вы в него въезжаете, взволнованные ожиданием, производит самое странное впечатление. Вы видите город современной постройки, грязный, вонючий, с высокими домами безобразной архитектуры, даже без всякой архитектуры: один дом приложен к другому, но не симметрично, а разной высоты; улицы, будто задний двор: под окнами везде висят веревки, а на веревках грязное белье. Везде снуют монахи и аббаты в чулочках; образа, статуи святых в нишах и на улицах, в домах – все говорит о католицизме. Папские чиновники, папские солдаты поражают вас неприятнее, чем где-либо: во Франции, например, вас интересует администрация, вы с любопытством глядите на чиновников, на войско, но в Риме вам бы и не хотелось вспоминать об этом порядке. Вас задерживают в полиции, вас мучают в таможне. Правда, подъезжая к Риму, вы видите издали купол Св. Петра, мелькнет он вам и при проезде через город, но так уж известен вам фасад Петра и по картинкам, а главное, по подражаниям, что издали, по крайней мере на меня, он не произвел никакого действия; его колоссальность видна только вблизи. Но вот вдруг, при каком-нибудь повороте, увидите вы полуразвалившуюся арку громадных размеров и на ней сохранившуюся надпись:
SENATUS POPULUSQUE ROMANUS
(Сенат и римский народ), все в вас вздрогнет невольно, будто весь древний мир встал на ноги, лицом к лицу, заговорил с вами.»
Письмо родным 4 июня 1857 г.
М. Волошин
1900
«Рим… Я увидел его в первый раз с Monte Pincio. Под тенью старых каштанов и магнолий был зеленоватый полусумрак, впереди, в рамке зелени сочных кактусов и пальм, под нестерпимо жгучими лучами итальянского солнца, голубым облачком клубился стройный купол Св. Петра. Был полдень. Магазины все заперты, и на улицах ни души. Но тогда я еще не почувствовал его. Я почувствовал его вечером, когда мы сидели у одной русской ‹Н. Д. Шаховской-Хельбиг›, живущей постоянно в Риме, в старинной вилле ‹вилле Ланте›, построенной в XVI веке Джулио Романо В темном небе стоял полный месяц, „сияя без лучей“, а внизу, прямо под ногами лежал весь Рим, сверкая огоньками, как будто подернутыми лунной дымкой. Линия огней тянулась по Тибру, на Квиринале сверкали огни. Одни кварталы уже замерли в темноте, другие еще светились редкими огоньками. Над всем городом висело какое-то смутное бормотанье – далекий шум засыпающего великого города. На горизонте смутно мерещились Альбанские горы и одинокая вершина Соракты налево. Пахло цветами. Внизу кричали лягушки… На звездном небе темные силуэты кипарисов… Рим не захватывает сразу, как другие города, как Генуя, как Париж, которые сразу бьют в глаза всей своей оригинальностью. Рим слишком разбросан (хотя он, в сущности, не особенно велик), и он поражает сперва то отдельной развалиной, то видом, то церковью, и только потом это все начинает соединяться в одну картину».
Письмо А. М. Петровой, 20 июля 1900 г.
Б. Грифцов
1910-е
«Как разнообразен и холоден Рим, как искусственно соединились здесь различные эпохи, несовместимые друг с другом архитектурные линии, – с таким чувством бродишь здесь первые дни. Как можно связать милую бедность молчаливых средневековых церквей с театральностью барокко, с манерностью его статуй, с изогнутостью его линий? Что общего между античностью и не менее заметным папским Римом? И воспоминания об античности, слишком фрагментарные, только вкрапленные в современные ансамбли, кажутся недоступными, уже навсегда потерявшими свой смысл. Самой античности разве не придал холода и сухости рационалистичный, государственный Рим? Недоумеваешь, почему так настойчиво говорят о душевности Рима… И только Форум, увиденный на закате с площади Капитолийского холма, положит конец этой тягостной отчужденности от Рима. Когда после вспоминаешь первый вечер, погасающий над Форумом, вспоминается с благодарностью и Капитолийская лестница, которая своими широкими покатыми ступенями отделяет суетящуюся внизу, еще бесформенную, неуловимую современную жизнь от строгих форм руин… Здесь свой целый мир, отделенный стенами и зеленью Палатинского холма, стеной Колизея и синеватыми линиями Альбанских гор вдали… Немногими основными линиями намечена сущность этого прекраснейшего в мире пейзажа: мрамор, зелень, закат. На трех колоннах, стройность которых заметишь раньше всего, уходящее солнце горит живым пламенем. Античный ли мир с его не повторившимся больше в истории ощущением эстетической гармонии открывается сердцу? Или самая мысль о разрушительной мощи времени так усиливает восприимчивость? Во всяком случае, этот вечер остается самым сильным впечатлением всей жизни. Восторженность, красота – старинные слова, которым почти перестал верить, только и могли бы передать его силу».
Б. А. Грифцов. Рим. 2-е изд. M.,1916, с. 28–30.
Б. Зайцев
1919
«Известно, что Рим самый трудный, „медленный“ город Италии. Как творение очень глубокое, с таинственным оттенком, он не сразу даст прочесть себя пришельцу. Помню ночь, показавшую мне раз навсегда Венецию. Помню блаженный день, когда узнал Флоренцию. Не таков Рим. Он встречает неласково, почти сурово. Все, кто бывал в Риме, знают ощущение чуть ли не разочарования, когда со Stazione Termini въезжаешь в этот город с шумными трамваями, бесцветными домами via Cavour, неопределенной уличной толпой, неопределенными витринами магазинов. Все что-то неопределенное. Не плохо и не хорошо. Если столица, то второго сорта. Если древность, искусство – где они? И главное: где лицо, дух, сердце города? В первый раз я был в Риме юношей несколько дней. Рим мне тогда не дался. Форум, Микель-Анджело, Палатин, катакомбы, Аппиева дорога… но целого я не почувствовал. С тех пор мне дважды приходилось жить в Риме, и его облик, кажется, до меня теперь дошел. Я ощущаю его голос, мерный зов его руин, его равнин. Великое молчание и тишину, царящие над пестротою жизни».
Б. К. Зайцев. Рим (1919) // Собрание сочинений в 7 тт. Пг. – Берлин, 1923, т. 5, с. 85.
«Чувство Рима»
Н. Гоголь
1837
«Что за земля Италия! Никаким образом не можете вы ее представить себе. О, если бы взглянули только на это ослепляющее небо, все тонущее в сиянии! Все прекрасно под этим небом; что ни развалина, то и картина; на человеке какой-то сверкающий колорит; строение, дерево, дело природы, дело искусства – все, кажется, дышит и говорит под этим небом. Когда вам все изменит, когда вам больше ничего не останется такого, что бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, приезжайте в Италию. Нет лучшей участи, как умереть в Риме; целой верстой здесь человек ближе к божеству… Перед Римом все другие города кажутся блестящими драмами, которых действие совершается шумно и быстро в глазах зрителя; душа восхищена вдруг, но не приведена в такое спокойствие, такое продолжительное наслаждение, как при чтении эпопеи. В самом деле, чего в ней нет? Я читаю ее, читаю… и до сих пор не могу добраться до конца; чтение мое бесконечно. Я не знаю, где бы лучше могла быть проведена жизнь человека, для которого пошлые удовольствия света не имеют много цены… Хотите – рисуйте, хотите – глядите… не хотите ни того ни другого – воздух сам лезет вам в рот».
Письмо А. С. Данилевскому, 15 апреля 1837
М. Погодин
1839
«Долго, долго стоял я на этой знаменитой Площади (forum Romanum maximum), где столько веков решались дела Рима, дела царств, народов, всей вселенной, orbis terrarum, по выражению Цицерона. Пусто и тихо… Боже мой! Что же значит эта человеческая твердость, что значит эта человеческая слава, которою так надмеваются люди? Эти каменные глыбы домов, и слов, и действий, которым я сей час удивлялся, пыль и прах! Поднялся вихорь и разметал все, и ничего не осталось. Здесь, здесь именно, да разве еще на острове Св. Елены, можно из глубины сердца воскликнуть… суета сует – и всяческая суета! Что сказал бы Цицерон, Помпей, Цезарь, если бы предрекли им эту судьбу Рима! Люди, люди, приходите сюда удостовериться в бренности вашего естества, тщете всех ваших предприятий и замыслов. Если Рим так упал, кто же из вас может надеяться на свою силу, крепость и твердость? И на какую силу можно надеяться? Упал – этого мало, утонул в тине, в грязи, подвергаясь, гордый, такому уничижению, такому позору всесветному! Не знаешь, была ль выше его слава или глубже падение? О, какой урок, какой урок, если кто умеет ими пользоваться! Величие, видно, не на земле».
М. П. Погодин. Год в чужих краях. 1839 Дорожный дневник. М., 1844, ч. 2, с. 8–9.
С. Уваров
1843
«Рим есть неподвижный берег, мимо коего бегут волны. Он неизменен, они сменяют одна другую… Единогласно толкуют о печали, царствующей в Риме; не знаю, исказила ли мое суждение радость, испытанная мною при въезде туда, но Рим не показался мне печальным. Когда, после, я проходил дорогу Аппиеву до гробницы Сецилии-Мартеллы, или, достигнув дорогой Нументанской Нарзесова моста на Анио, при заходящем солнце, с священной горы, бросал взор на римские поля, я чувствовал себя глубоко растроганным; но это чувство – напрасно бы старался я определить его; во всяком случае, пошлое слово печаль весьма дурно выражает упоительное ощущение тишины и задушевного наслаждения, порождаемое развертывающеюся великолепною картиной… Рим – тихое убежище, беспрестанно отверстое падшему величию и умам разочарованным, самым ярким и самым неизвестным скорбям; там не забываешь своих несчастий, но несешь их бремя с большим мужеством; горесть облекается стыдливостью на земле, смоченной кровью и слезами. Тут, где столько людей страдало, где пало столько поколений, предаешься с какой-то осмотрительностью впечатлениям чисто личным. Человек мыслящий и чувствительный, человек, приготовленный занятиями и вкусом к этому возвышенному зрелищу, скоро с ним роднится… Не только чувство художническое развивается тут с внезапною силою. Нет – все воспоминания жизни, все размышления зрелых лет, все беглые мечты юности воскресают разом; в этой волшебной толпе воображение, тихо растроганное, ловит прозрачные черты, неопределенные облики предметов самых милых, таинственный отголосок самых глубоких пристрастий сердца; невольно глаза увлажняются слезами. И никто не оставляет сей ограды, не благословляя судьбы, которая уделяет умам счастливое, незаменимое блаженство, полное вознаграждения за усталость долгого странствия, скажу даже, за недочеты минувшего бытия».
С. С. Уваров. Рим и Венеция в 1843-м году. Дерпт, 1846, с. 3–5, 11–12, 25.
А. Герцен
1847
«Древний Рим пал, как могучий гладиатор, его колоссальный остов внушает благоговение и страх, он и теперь гордо и торжественно борется против разрушения, время не могло сокрушить его костей; его остатки, ушедшие в землю, разваливающиеся, покрытые плющом и мохом, величественнее и благороднее всех храмов Браманте и Бернини. Каков был мощный дух, умевший так отпечатлеть себя на этих каменных ребрах, что полустертый след его подавляет собою два, три Рима, выстроенные возле и строившиеся века!.. Рядом с костями полубога, героя, возле них, около них, а частью на них замерла другая жизнь, жизнь средневековая; печальная, суровая мумия его наводит уныние, смерть сохранила изнуренные постом и молитвой формы, образ монашеский и болезненный. В Риме нет ни одного замечательного памятника средних веков; весь этот византизм и готизм был не в натуре итальянцам, всего менее римлянам. Они не настолько южны, чтоб предаваться сладострастию аскетизма, и не настолько северны, чтоб млеть в мечтательном мистицизме. Климат Италии слишком светел для истомы плотоумерщвления. Итальянца тянет из-под готической стрелки к спокойному куполу, он не стремится вместе с теряющимися колокольнями… туда, туда – ему и здесь хорошо… Жизнь средневековая для Рима была не цветение, как для Бельгии, а болезнь, искупление старых грехов, изнеможение от избытка жизни и страстей… Языческая закваска никогда не проходила в Италии, ей равно не прививались ни учреждения благоустройства и тишины, о которых так старались гибеллины, ни нравственная неволя, которую папы налагали на весь мир, за исключением Италии… Рим обнищал и, настоящий итальянец, сидит в лохмотьях, а похож на царя и не думает о том, как горю помочь. Рим, как все венчанные главы, не привык заботиться о материальных нуждах. Он уверен, что он по-прежнему первый город во вселенной, что торговля всего мира стремится на его рынки, что он нравственный центр христианства и что Европа лучше ничего не просит, как прислать ему все, что нужно, от восковых свечей и ладану до драгоценных каменьев и слитков золота. Чем далее живешь в Риме, тем больше исчезает его мелкая сторона и тем больше внимание сосредотачивается на предметах бесконечного изящества; грязные сени, отсутствие удобств, узкие улицы, нелепые квартиры, пустые лавки становятся все меньше и меньше заметны, и другие стороны римской жизни вырисовываются, как пирамиды или горы из-за тумана, яснее и яснее…».
А. И. Герцен. Письма из Франции и Италии. 1847 Собрание сочинений в 8 тт. М., 1975, т. 3, с. 79–82.
И. Тургенев
1857
«Рим – именно такой город, где легче всего быть одному. А захочешь оглянуться – не пустые рассеянья ожидают тебя, а великие следы великой жизни, которые не подавляют тебя чувством твоей ничтожности перед ними, как бы следовало ожидать, а, напротив, поднимают тебя и дают душе настроение несколько печальное, но высокое и бодрое. Если я и в Риме ничего не сделаю, – останется только рукой махнуть…».
Письмо Е. Е. Ламберт, 15 ноября 1857 г.
«Рим – прелесть и прелесть. Зная, что я скоро расстанусь с ним, я еще более полюбил его. Ни в каком городе вы не имеете этого постоянного чувства, что Великое, Прекрасное, Значительное – близко, под рукою, постоянно окружает вас и что, следовательно, вам во всякое время возможно войти в святилище. Оттого здесь и работается вкуснее, и уединение не тяготит. И потом этот дивный воздух и свет! Прибавьте к этому, что нынешний год феноменальный: каждый день совершается какой-то светлый праздник на небе и на земле; каждое утро, как только я просыпаюсь, голубое сияние улыбается мне в окна».
Письмо П. В. Анненкову, 13 декабря 1857 г.
Ф. Буслаев
1875
«Какую же притягательную силу имеет в себе этот необыкновенный город, куда съезжаются со всего мира, чтобы променять столичные удовольствия и забавы на тишину провинциальной жизни?… Этот беспримерный в свете город, поистине город вечный, имеет в себе нечто такое, что его ставит в интересах цивилизованного человечества выше временных случайностей его столичного положения. Что он сделался теперь резиденцией правительства всей Италии – для приезжающих сюда иностранцев вообще не имеет большого значения… Эстетики говорят, что зрелище безграничного моря или горных высот, теряющихся в облаках, производит чувство высокого; в той же мере может внушать это чувство и бесконечная даль веков в сравнении с проходящими современными событиями, и это нигде в мире не может быть так ощутительно, как в стенах Рима».
Ф. И. Буслаев. Римские письма. 1875 Мои досуги. М., 1886, т.1, с. 62–63.
С. Флеров
1882
«По Риму, по „вечному городу“, бродишь, затаив дыхание, с тем священным ужасом, который овладевает человеком, очутившимся лицом к лицу перед внезапно восставшими перед ним тенями прошлого. Из каждой пылинки, из каждого атома римской почвы восстает такая тень, и всюду, и со всех сторон окружают вас в вечном городе эти тени, и нет вам нигде от них покоя; на каждом шагу смотрите вы в мертвые очи, и под вашим взглядом очи эти оживают, раскрываются и вы читаете в них повесть минувшего. Нет атома в римской почве, в котором не дрожал бы отзвук боевого клика, ораторской речи, безумного крика толпы, на котором не засела бы алая росинка мученической крови…»
С. Васильев ‹С. В. Флеров›. Картинки Италии. Письма из Рима и Флоренции (1882). M.,1894, c.310.
П. Муратов
1911–1912
«Одна особенность замечена всеми, кто писал о Риме. Надо время, чтобы испытать чувство Рима. Оно почти никогда не приходит в начале римской жизни, но зато нет никого, кто не испытал бы его после более или менее продолжительного пребывания… Здесь, в этом старинном гнезде путешественников, на тех улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Монтень, Пуссен, Китс, Гете, Стендаль и Гоголь, больше всего понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств… Сколько раз, спускаясь в сияющее утро по этой ‹Испанской› лестнице или поднимаясь по ее влажным камням в теплый дождливый вечер, хочется повторить здесь всем сердцем замечательные слова Гете: „Кто хорошо видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным“. Счастлив поистине тот, кто всходил здесь в декабрьские дни, чтобы после свежести затененных улиц почувствовать благодетельное тепло на вечно солнечном Пинчио, кто стоял на верхней площадке в ночи, веющие душным сирокко, колеблющим пламя фонарей и сгибающим струи фонтанов, кто в ослепительном блеске поздней весны искал здесь любимых роз или остро и старинно пахнущих ветвей жасмина! В этом счастье, которое дает испытывать Рим, есть что-то похожее на счастье быть молодым – ждать с трепетом каждого нового дня, засыпать с улыбкой, думая о завтра, верить в неистраченное богатство жизни, быть расточительным в своей радости, потому что всюду вокруг бьют ее неиссякаемые источники. В начале жизни мир полон очарования, но разве не прав был Гете, воскликнувший в своей первой римской элегии: „О Рим, ты целый мир…“ И эта молодость души в Риме не проходит даже так скоро, как обыкновенная молодость человеческой жизни… Эта вечная зелень, венчающая холмы и руины Рима, волнует и очаровывает сердца северных людей, точно слова античного мифа или явление древних божеств. Превращение Дафны так понятно перед живыми и человечными словами лавров, растущих около казино Фарнезе на Палатине или в храме Юлия Цезаря на Форуме… Утраченный мир получеловеческих-полуприродных образов открывается здесь снова. Здесь обостряется способность угадывать напоминание о древних, как мир, вещах в этом металлическом шуме листьев, в этом аромате горькой зелени и влаги. Рим проникнут чувством обожествленного дерева, и фиговые деревья, так часто встречающиеся во дворах, на улицах, прорастающие в трещинах развалин и взбирающиеся на плоские крыши старых домов, говорят о пережившем века инстинкте народа, почитающего дерево, которое осенило некогда зарю его существования. Другое чувство, неотделимое от чувства Рима, – это чувство воды. О царственности Рима ничто не говорит с такой силой, как обилие его водоемов, щедрость источников и расточительность фонтанов. Древние акведуки, возобновленные папами, Аква Паола, Аква Марчия, Аква Феличе, питают его такой великолепной водой, какой не может похвалиться ни одна из европейских столиц. Но лучшая вода – это изумительно чистая, свежая и вкусная Аква Вирго, изливающаяся каскадами фонтана Треви. Надо вырасти под этим солнцем, знать палящий зной августовских дней и лихорадочные испарения Понтинских болот, чтобы испытывать то восхищение, с которыми наполняют кувшины водой Треви приходящие в Рим по воскресеньям обитатели Кампаньи… Так проходят дни жизни в Риме. Их трудно считать, и они текут легкой чередой, образуя недели, месяцы, годы. Какая убаюкивающая сила должна быть в этой жизни, оправдывающейся одним скользящим впечатлением, мелькнувшим образом – утренним силуэтом Соракте, увиденным с Понте Маргерита, трепещущими в полуденном свете очертаниями ряда далеких пиний за виллой Памфили. С каждым таким видением странным образом крепнут нити, привязывающие нашу судьбу к судьбе этого удивительного города. Интерес к Риму не слабеет никогда, и нет пределов для внимания, устремленного к мельчайшим чертам и подробностям его облика… Рим дорог тем, что в нем так прекрасно и так печально. Здесь все проникнуто важным раздумьем свершения, свободным от утомляющей суеты действия. Формы жизни найдены и много раз повторены в веках. Материальное значение вещей изжито, освобождена их духовная сущность. Все, на чем останавливается здесь взор, – гробницы, но так долго обитала здесь смерть, что этот старейший и царственнейший из ее домов стал, наконец, самим домом бессмертия».
П. П. Mypaтов. Чувство Рима. 1911–1912 Образы Италии. М., 1994, с. 211–213, 216, 220–221.
Б. Грифцов
1910-е
«Нет города, где скопилось бы больше противоречивых культур, чем в Риме. Периодами разрушения не раз сменялись в нем периоды строительные, но именно в нем будет возникать с исключительной настойчивостью мысль о единстве человеческих судеб, об единстве чувства, которое в разные времена находит в себе только различные словесные выражения, всегда оставаясь шире и убедительнее, чем эти различные слова. Если рассуждать отвлеченно, трудно было бы называть приобщенным к культуре того, кто не совершил паломничества в Италию, не коснулся ее искусства, идей Ренессанса и античности… Еще настоятельнее, хотя и труднее для совместной формулировки остается Италия и больше всего Рим, как сердечная потребность, как необходимое расширение душевной культуры, как молитва неведомому богу… Это чувство гораздо более широко и требовательно, чем отвлеченный исторический интерес. Не столько занимает здесь любопытство к тому, как жили когда-то люди, сколько влечет надежда на какое-то обновление, на то, что удастся коснуться вековечных сторон человеческой жизни, найти для себя лично чувство меры и утерянной гармонии… Для разных эпох и для разных людей меняется периодами подход к Риму. Но в нем же заключена удивительнейшая возможность найти единство, если не в теории, то в чувстве, и, отданные созерцанию, дни в Риме незабываемо должны обогатить личный опыт каждого туриста. Рим переживается, как неисчерпаемая любовь, для которой находится много причин и которая не может быть объяснена ни одной из них, не объясняется даже всеми ими вместе… Что придет на память, когда издали подумаешь о месяцах, проведенных в Риме? О Риме вспоминаешь, как о спокойном прибежище от волнений, от неразрешимых противоречий чувств и мыслей. Там снова вернется спокойствие, что не случилось бы за те годы, которые придется провести вдали от него. Как об единственном верном прибежище и непреодолимой душевной тишине может думать о Риме путник, даже переставший верить в общие идеи среди раздробившейся на частности и суету жизни».
Б. А. Грифцов. Рим. 2-е изд. М., 1916, с. 12, 76.
М. Осоргин
1910-е
«Я не хочу пытаться определить чувство Рима; это – непосильная задача. Но я бы сделал одну прибавку ко многим старым и новыми определениям. Любовь к Риму – это любовь к родине; тоска по Риму – это тоска по родине. Эта кажущаяся странность и есть, может быть, то особенное, что выделяет Рим из всех других городов мира. Рим – родина космополита, дом гражданина мира. И тот, чей дух блуждает, чье чувство не имеет в мире угла, который назывался бы домом, тот, раз побывав, стремится в Рим, с которым он уже связан навеки… Рим – родина духа блуждающего и ищущего, тот, кому в мире холодно и неуютно, находит здесь тепло, ласку и привет. Есть ласка и в Париже, но та ласка продажная; только Рим согревает бескорыстно, даря от избытка и от привычной расточительности. В нем такой запас света, прекрасных линий и нежных оттенков, что даже современный, застроенный и урегулированный Рим еще имеет право быть щедрым по-царски. Тот, кто дома видел только серое и среднее, находит здесь величие, которое подавило бы везде, но которое в Риме приглашает приблизиться и сдружиться. Грандиозный Колизей мог бы устрашать своей циклопичностью и своей историей; в Риме же вы входите в него с улыбкой, так же смело днем, когда он залит солнцем, как и ночью, когда фантастический свет луны превращает эту колоссальную развалину в царство сказок волшебных, но не страшных… Чувство Рима, уже проникшее вас, смягчило резкость теней и населило провалы Колизея сказками добрыми… Рим – старый любезник, но не теряющий достоинства. В нем есть все, на все вкусы, кроме пошлого. Любителя шумной современной жизни он зовет к закату на Корсо Умберто и показывает ему, как римская толпа отрицает порядок движения и как люди и экипажи умеют двигаться рядом и вперемежку, не беспокоя друг друга. Он зовет мечтателя на площадку, с которой виден на ладони весь форум в остатках мрамора и темная масса Палатина – направо. Затем он блеснет рядом тусклых огней на набережной Тибра, очертит на небе силуэт пиний на Монте Пинчио или кипарисов на стороне Ватикана. С той же охотой он заманит вас в скромное кафе, где посетители говорят о делах войны и мира, о женах, дочерях и женщинах и сидят гораздо дольше, чем того требует пищеварение и хотели бы лакеи. Когда же вам захочется быстрым шагом сменять улицу переулком, он внезапно, все с той же охотой, покажет вам столько фонтанов, странных, причудливых, живописных, неэкономных на воду, что вы невольно протянете ладонь к одной из струй. Тогда он вдруг пахнет на вас пригорелым маслом пиццерии… и выведет к темному, роскошному палаццо, во дворе которого журчит вода в большой раковине барокко, затянувшейся темным мохом и завитой плющом. Промчится автомобиль, прозвенят бубенчики винной арбы, возвращающейся в деревню, и снова перед вами – либо античная развалина, либо модный магазин. Все это спутано, нагорожено, все связано общей жизнью и все проникнуто единым и неразделенным, сладко волнующим чувством Рима… И тогда вечный город начинает делаться вам родным. Ну да, вы родились в нем и мыслью жили в нем всегда! Вы помните толпу рабов и патрициев, трибуны ораторов, статуи победителей в беге колесниц. Вы жили тут в эпоху развратных пап и шумных карнавалов, жуликов, солдат, монахов, художников, иностранных гостей и набожных старух… Рим – ваша Родина; когда-то какая-то нелепая, необъяснимая случайность унесла вас отсюда в другой край, который вы пытались любить, считая его родиной. Но это было лишь сном, тяжелым и напрасным! Там было холодно, неприютно, там всегда не хватало красоты, ласковости и той связи с веками ушедшими, но живыми, без которой сама жизнь кажется лишь случайностью, лишь ленточкой между двумя вечностями: из мрака на свет лишь на мгновение, чтобы опять – во мрак. Здесь – не то; здесь вы окружены предками и творениями предков, здесь все полно памяти, все связано с ближним и дальним прошлым связью тесной, необходимой, такой понятной и законной, такой возвышающей. Здесь вы – не затерявшаяся песчинка, не бесправный и обездоленный, не угнетатель и командующий, не выборщик и избиратель; здесь вы – просто и только гражданин вселенной, нашедший свой дом. И это чувство высокого подъема, свободной любви ко всему и всем безраздельно, жажды вечности и вечной красоты, это чувство, наполнившее вас, льющееся через края нашего сознания, – это чувство и есть чувство Рима».
М. А. Осоргин. Очерки современной Италии. М., 1913, c. 112–114.
Б. Зайцев
1919
«В жизни римского пилигрима Монте Пинчио и вилла Боргезе играют роль большую. Многие из нас живут поблизости. Многие любят тихие аллеи виллы Боргезе, ее казино, лужайки, храм Фаустины, молочную ферму, где в синеющем римском вечере хорошо сидеть и пить молоко с трубочными пирожными, дышать воздухом свежим и легким и в просветы деревьев любоваться дальним Monte Mario. Многие водили своих детей из пансиона на via Veneto или via Aurora, замшелыми воротами Porta Pinciana в зверинец виллы Боргезе, где смешны обезьянки и горестен орел пленный, в оранжево-зеленой заре; гуляли с ними у ипподрома, где скачут по утрам нарядные кавалеристы; катали их по Монте Пинчио на осликах, запряженных в маленькие повозки с поперечными скамеечками, куда за несколько сольди насаживаются ребята. Просто сидели на Пьяцца дель Пополо, слушая музыку, наблюдая пеструю, к вечеру нарядную толпу. Эти прогулки, чуть не ежедневные, установили связь с Монте Пинчио; точно принят уж человек под покровительство местных божеств. Способностью своею подчинять, медленно околдовывать Монте Пинчио очень, очень полно духа Рима. И, быть может, одно из очарований места этого есть ощущение соприсутствия Риму… Здесь Рим не поражает; он обычнее, но он, быть может, и значительнее в повседневности своей; там – праздник, здесь – постоянное созерцание лица дорогого и глубокого… Вечер Риму идет. Захватил ли он вас на мосту через Тибр, когда пепельно розовеет закат над Ватиканом, а в кофейных волнах, быстрых струях ломаются золотые отражения фонарей; или на Монте Пинчио, вечер краснеющий, с синею мглой в глубине улиц; или у Капитолия, тихий и облачный, когда стоишь над Форумом, вглуби чернеют кипарисы, Арка Тита, даль за ней смутно-фиолетовая да несколько золотых огоньков – всегда это очень сливается с Римом, всегда ощущаешь – вот это и есть стихия его, задумчиво-загадочная. Это она поглощает пестроту, шумность дня, выводит душу ночную, освобождая те великие меланхолии, которыми Рим полон. В сумерках грандиозней, молчаливей Колизей; ярче блестят глаза одичалых кошек на Форуме Траяна; величественней шум фонтана Треви…»
Б. К. Зайцев. Рим. Собрание сочинений в 7 тт., Пг. – Берлин, 1923, т. 5, с. 101–102, 117–118.
В. Вейдле
1950-е
«Когда из церкви в церковь исхаживаешь Рим, кажется, что нет в нем ничего, что не говорило бы, не взывало бы о смерти… Город мертвых. La mort semble ne Rome ‹Смерть, похоже, родилась в Риме – фр.›, сказал Шатобриан… Конечно, этим не исчерпывается Рим. Но первенствует здесь все же не деловой современный город и не столица новой Италии, а священное сосредоточие католического мира. Католический же город решающий свой облик получил не в те века, когда воздвигались первые базилики, и не в те, когда из камней форума строились родовые крепости и монастырские колокольни. Даже не Возрождение наиболее неизгладимую наложило печать на Рим, а те полтора века, что отделяют первые архитектурные опыты Микель-Анджело от последних построек Борромини и Бернини. Бесчисленные церкви и дворцы римского барокко, его фонтаны и сады способны оттеснить куда-то вдаль не только все другое, что здесь создано в христианскую эпоху, но и форумы с Колизеем, и арку Тита, и Траянову колонну, и Пантеон. Изумительная эта архитектура, со всем, что с ней связано в прикладном искусстве, скульптуре, живописи, так воцарилась на семи холмах, что, кажется, легче представить себе Рим без славных его развалин, без мозаик его ранних церквей, чем без тритона на плацца Барберини, без Испанской лестницы, без купола Св. Петра и даже без слона, что несет на себе обелиск Минервы. Римское барокко – не только колыбель этого стиля вообще, но и одна из самых целостных, самодовлеющих, насыщенных жизнью художественных систем, какие знает история искусства; вся система эта проистекает, однако, из необыкновенно могущественного чувства смерти, подстерегающей, пронзающей, изнутри просвечивающей жизнь. Любовь к жизни этим не умалена; в некотором смысле, напротив, она доведена до исступления – отсюда и повышенная праздничность и щедрость замыслов и сосредоточенная телесность всякой формы, – но жизнь вся насквозь опьянена смертью, и именно такой любит ее любовь… Религия отчаяния и надежды, не уверенность, а страстная жажда воскресения во плоти создала эту трагически потрясенную архитектуру, это изнутри надтреснутое великолепие, этот в Риме рожденный строй искусства и самой жизни…»
В. В. Вейдле. Месяц мертвых. Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952, с. 59–62.
Возвращение в Рим
Н. Гоголь
1838
«И когда я увидел, наконец, во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет. Опять то же небо, то все серебряное, одетое в какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться сквозь арки Колисея. Опять те же кипарисы – эти зеленые обелиски, верхушки куполовидных сосен, которые кажутся иногда плавающими в воздухе.
Тот же чистый воздух, та же ясная даль. Тот же вечный купол, так величественно круглящийся в воздухе… Был у Колисея, и мне казалось, что он меня узнал, потому что он, по своему обыкновению, был величественно мил и на этот раз особенно разговорчив. Я чувствовал, что во мне рождались такие прекрасные чувства! Стало быть, он со мною говорил. Потом я отправился к Петру и ко всем другим, и мне казалось, они все сделались на этот раз гораздо более со мною разговорчивы».
Письмо М. П. Балабиной, апрель 1838 г.
Ф. Буслаев
1874
«Легко сказать! Я опять в Риме, через бесконечные 33 года, когда я, наконец, сделался тем, о чем я в молодости мечтал, гуляя по этим холмам, по этим узеньким улицам и широким, великолепным площадям с громадными фонтанами и бассейнами, сидючи на этом самом щебне вековых развалин Форума и Колизея, с Винкельманом и Тацитом или Горацием в руке, откуда я жаждал набраться сил и вдохновенья, чтобы со временем быть профессором и литератором. И вот я опять пришел в Рим теми же молодыми мечтами пахнуло на меня с его красноречивых твердынь, и в ответ на них принес я зрелые результаты, деятельно прожив эти 33 года, для которых те мечты были вдохновением и руководящею нитью. Видите, что Рим мне не чужой город; это часть моей жизни, это та моя молодость, свежая и бодрая, когда запасаешься силами на всю жизнь… Итак, приезд в Рим – это не путешествие, а возвращение в родные места, где каждая мелочь запечатлена воспоминаниями, где на самых камнях античной мостовой чувствуются следы тех животворных прогулок, которые вместе с лучшими радостями в жизни никогда не забываются… Точно будто мы воротились в Москву, или, еще лучше, будто я очутился на своей родине, в Пензенской губернии, в городе Керенске. Потому что, действительно, Рим – та же родина для моего нравственного существования, как Керенск – для физического».
Ф. И. Буслаев. Мои воспоминания. М., 1897, с. 376–377.
П. Чайковский
1890
«Меня до сих пор поражает страшная перемена во всем в Риме с тех пор, как мы тут жили. И подобно тому, как нам говорили старожилы в наше время, что Рим утратил много прелести со времен пап, подобно тому и я недоволен переменами. Рим все более и более утрачивает характер уютности и простоты, который составляет его главную прелесть. А все-таки интересного и чудесного бездна…»
Письмо М. И. Чайковскому, 15 апреля 1890 г.
М. Осоргин
1923
«Лучшие годы молодости я прожил в Италии. Жил там вынужденно и томился по России, куда вернуться было нельзя. Томился, и все же – как теперь, с отдаленья вижу – был счастлив. Это очень много – сказать самому про себя: был счастлив. А когда, потрепав-побросав, судьба опять увела меня за отечественные пределы и когда, после лет жизни тяжкой, душу повытрясшей, захотелось закусить бочку дегтя ложкой меда, – решил испробовать старого лекарства: среди серых олив – макарон итальянских на античном блюде. Вкус их остался в памяти, как вкус поцелуя у того, кто целовал – любя, как аромат духов на пожелтевших строчках в узком конверте. Макароны-поцелуи-духи… такие несхожие образы, а понимающий поймет: нас единомышленников, италофилов, немало… Я прожил в Риме восемь лет; так долго подряд не жил нигде, кроме провинциального города, в котором родился и юношей жил – до университета. Казалось бы – здесь мой дом, – если есть у меня дом где-нибудь… Я жил в Риме жизнью обывателя, интересами города и страны, как свой, не как чужестранец… Но по той светочувствительной пластинке, которая запечатлевала светотени Рима, по той тонкой мембране, которая записывала оттенки его шумов, – жизнь иная, родная, нашенская била в студеную зиму березовым поленом. И уже невозможно вернуть прежнюю восприимчивость. Стали мы страшно мудрыми житейски и страшно неотзывчивыми на внешние впечатления. Рим такой ласковый, такой простосердечный в своем историческом величии. А мы так глубоко заглянули в будущее и увидали в нем такого зверя, что ласке уже не верим и над историей смеемся… И лишь сегодня в первый раз остановился в отеле – как чужой, любопытный, приезжий. Понял сразу: я действительно чужой, совсем посторонний и лишний здесь человек! В высоких переулках Людовизи, где также жил когда-то, одиноко и прекрасно, – теперь смутился и запутался. Ночью вышел к площадке на Тринита деи Монти, спустился к площади, к каменной затонувшей лодке; на эту лестницу я взбегал одним духом лишь десять – пятнадцать лет назад; сейчас меня утомил даже спуск. У „Араньо“ сажусь за мой столик… Все лакеи – те же; их пощадила война. Но все поседели. Один подходит, улыбаясь, приветствует: точно вчера видел в последний раз. Пожалуй, это единственное, что порадовало по-настоящему: признанье и привет лакеев „Араньо“, знаменитого политического кафе, в котором я восемь лет подряд бывал ежедневно. Когда зажглись огни, из обычной норы под расписным потолком вылетела обычная летучая мышь и принялась кружить свои обычные круги. Так кружит и так будет кружить под потолком десятки лет… Но за завтрашний день Пантеона – поручусь ли я? Может быть, мальчишка, которому я дал сегодня два сольди, – завтра обратит Рим в новые руины?»
М. А. Осоргин. Там, где был счастлив. 1923. Париж, 1928, с. 96–99.
В. Вейдле
1960-е
«Сладко Рим узнавать, но слаще, пожалуй, его знать. Не раз я все это видел и за столиком этим сиживал не раз, и сейчас пойду в места, издавна мне знакомые. Неисчерпаем этот город. Не только тем, что всегда тут остается еще не виданное, но и тем, что увиденное всегда хочешь вновь увидать и видишь с новою отрадой. Никогда я больше месяца подряд здесь не жил, но мне кажется, проживи я тут всю жизнь, пресыщения так бы и не узнал. Предвкушаю, расплачиваясь за мой кофе, темную громаду дворца Фарнезе, но, когда взгромоздится она передо мной, будет то, чего не было, – не было, хоть и было, – будет новое свиданье. Будет повторенье, о котором столь многие не знают, столь многих даже музыка не научила, что оно может быть не менее прекрасно, чем увиденное в первый раз. Да и нет повторений. Наши дни и часы неповторимы. Разве музыка не знает, что в каждом ее повторении новый шаг от начала к концу, новый шаг и новый смысл?»
В. В. Вейдле. Рим. Из бесед о городах Италии. Париж,1967, с.51.
Форум Versus Палатин
Б. Грифцов
1910-е
«Форум… Этим именем, вызывающим привычные мысли об империи, ее мировой власти, ее непременной силе, не захочешь на первый взгляд назвать те куски камней среди зелени, в низине под Капитолием. Груда камней в беспорядке разбросана среди кустов и травы; кое-где между ними одинокие колонны, арки и расчищенные площадки. Теперь не реконструируешь ни одного храма, и даже не отделить на первый взгляд границы одной руины от другой. Но это поле, засеянное бесформенными кусками мрамора, прекрасно… Это чувство приближения к классическому, душевному равновесию, к чистейшим эстетическим формам, к явившимся вдруг с удивительной простотою судьбам человеческим – не будет случайным. Наоборот, все трудное, книжное изучение Форума будет просветлено тем же чувством. Когда из груды камней начинают выделяться планы отдельных построек и разрозненные архитектурные элементы связуются между собой, когда, наконец, поднимаешься до мысленной реконструкции зданий – весь этот процесс познавательный и творческий так радостен. Нет задачи более привлекательной и более благодарной, чем воссоздание из этого печального и прекраснейшего пейзажа форм прежнего Рима. Тогда примиряешься и с современностью. Три эпохи в истории Форума: его постройка, его разрушение, его архитектурное открытие – равно значительны… Постепенное и насильственное его разрушение не менее, в сущности, красноречиво, чем его создание. Века варварства занимают значительно большую часть в истории человечества… И кто может утверждать с полной уверенностью, что этот эпизодический в сущности пафос к античности не погаснет опять в варварских волнах?… Своей живописностью больше, чем развалинами, запоминается Палатинский холм, который был застроен дворцами цезарей. Он еще не принял архитектурного вида, как Форум, и в его дикости есть что-то первоначальное. Природы в нем больше, чем истории. Естественнее представить себе архаические эпохи его жизни, когда пастушеский народ с этого холма начал историю Рима, и конечную, когда в XVI веке кардинал Александр Фарнезе, „племянник“ Павла III, развел на нем прославленные Фарнезские сады. Прекрасные кипарисы, цветники до сих пор остаются на холме… Но всего удачнее для туриста попасть на Палатин, когда над Римом проносится вихрь, угрожая ливнем. От ливня найдется где укрыться, – в мрачных криптопортиках Калигулы. Зато величественнее становятся опустелые развалины под клубящимися с зловещей серьезностью тучами. Хаотическая тревога царит над холмом. Только кипарисы не теряют своей стройности, изгибаясь в борьбе с ветром. И может быть, естественнее тогда думать о доисторической, старинной природе холма, который раньше, чем стать средоточием первоначального Рима, был вулканом. Века великолепия, мраморных дворцов, цезаризма кажутся быстро мелькнувшим эпизодом. По своим развалинам Палатин много беднее и однообразнее Форума; разрушали его еще энергичнее, и не приходится ожидать от него того мраморного праздника. Но нигде, как на Палатине, не вспоминаются большие периоды исторические, самые общие различия культур… Огромные арки, которые раньше всего увидишь, взглянув на Палатин с юга, – только фундамент для возвышавшегося над ними дворца, в котором отразился новый, заключающий историю римской архитектуры вкус к грандиозному. Оставшиеся и на самом холме анфилады кирпичных арок, лишенные облицовки, обветрившие от времени, производят впечатление чего-то необузданного, дикого и независимого. Это впечатление дикости свойственно и запущенному стадию Домициана, и значительнейшей части всех палатинских развалин, кирпичных, несоединимых, с какой-то вулканической силою выброшенных из-под земли. Их хочется расцветить рассказами о праздниках и играх, но что делать, если и пестрые Светониевские рассказы неизменно завершаются страницами о насилиях и убийствах, становящихся настолько неизбежными, что вся природа спешит предвестить их? Молнии сверкают в течение восьми месяцев так неустанно, что Домициану остается воскликнуть: „пусть разит, если хочет“; буря раскидывает костер, на котором сжигали астролога, предсказавшего кончину императору; мирясь с неизбежным, сам император говорит: „завтра луна будет обрызгана кровью“. Хаотический период природной жизни и необузданная эпопея истории вспоминаются, как тревожное чувство, когда ветер несется над Палатином, над его сводами, над его прошлым… И все-таки, как всегда в Риме, исполненное тоскливых предчувствий впечатление не остается последним. В посещение Палатина входит остановка на южном бельведере, где когда-то была ложа Септимия, с которой он смотрел на зрелища Большого цирка, где теперь открывается печальный, прекрасный вид. Всего печальнее картина под самым Палатинским холмом: стены, трубы, цистерны газового завода пока еще занимают место цирка. Прежде огромный ипподром, на мраморных ступенях которого могло поместиться до 400 тысяч оживленного, шумного народу, открывал зрелище более любопытное. Шум толпы в дни состязаний несся – рассказывают – на несколько верст от Рима и вновь замирал в момент состязаний. Но дальше вид остался значительным и теперь. Обводя взглядом, проходишь линии Колизея, холмов Целия и Авентина, с их зеленью и церквами, ворот и башен и, наконец, купола Петра. Вдали в ясный после дождя день четко видны Сабинские горы, городки, лес, даже виллы на Альбанских горах. Весь уходишь в простор пейзажа, равного которому не найдешь нигде. Буря страстей, самолюбий, попыток дерзких или чудаческих кажется только эпизодом в открывающемся взгляду вековечном космосе».
Б. А. Грифцов. Рим. 2-е изд., М., 1916, с. 29–30, 39, 62–63, 74–75.
Б. Зайцев
1919
«Форум – долина. Палатин – холм. На Форуме природа сдержанна, в духе картины, которую должна украсить. На Палатине буйна, разгульна; целые рощи покрывают его… Главное в Палатине связано с Цезарями, а главное Форума – память о республике. Рим крепкий, суховатый, закаленный; Рим земледельческий, разумный, упорный медленным трудом, победами и жертвами возрос в сложный организм. Из Италии шагнул в мир необъятный. Создал вельмож, рабов, хлебнул роскоши и яда Востока; довел донельзя разницу между князьями мира и отверженными; привил запутанные культы и религии Востока; бешено расцвел, показал невиданную мощь, великолепие и начал загнивать. Символом нового идолопоклонства явились Цезари, первые императоры Рима нового и последнего. Мы знаем их довольно. С ними пришло в Рим безумие, дух Азии, раньше неведомый. В них нет спокойной, выношенной культуры латинизма. Их жизнь, их быт и их жилища лишь с одного конца Рим. С другого – это Вавилон. Холм Палатинский – развалины их бытия. Весь Палатин – гигантская груда сумасбродств, оправдываемых временем, природой… Некогда центр и напряженнейшая точка города, ныне Форум – мир, ясность, строгие линии. Если здесь были страсти, если с ростр гремели ораторы и толпа стекалась к телу Цезаря, выставленному в храме его имени, то теперь Форум не будит памяти о бурях и насилиях. Все это отошло. Образ теперешнего Форума – чистый образ Античности. Форум дневное в Риме, не вечернее и не ночное. Культура строгая и четкая запечатлена в нем. Время одело его тонкой поэзией… Палатин вечернее в Риме, даже ночное. В его рощах, кипарисах, лужайках, дворцах, стадиях, криптопортиках есть величие сумрачное, есть грандиоз, но не из светлых. Впечатление его велико, ибо очень уж он полон, пышен, ярок. Все, что говорит он, сказано словами сильными. Но неулегшиеся страсти, отзвуки преступлений, крови живут еще на нем; и тени императоров его не кинули…»
Б. К. Зайцев. Рим. 1919. Собрание сочинений в 7 тт. Пг. – Берлин, 1923, т. 5, с. 89–94.
Римская Кампанья
А. Герцен
1847
«Чем далее живешь в Риме, тем больше исчезает его мелкая сторона, и тем больше внимание сосредоточивается на предметах бесконечного изящества; грязные сени, отсутствие удобств, узкие улицы, нелепые квартиры, пустые лавки становятся все меньше и меньше заметны, и другие стороны римской жизни вырезываются, как пирамиды или горы из-за тумана, яснее и яснее. Такова самая Campagna di Roma. Сначала она поражает пустынным видом, отсутствием обделанных полей, отсутствием лесов, все бедно, угрюмо, будто вовсе не в средоточии Италии, такие пустыри найдутся, кажется, и на берегах Истры, но мало-помалу человек знакомится с этой вечной пустыней, с этой дикой рамой Рима. Ее безмолвие, ее опаловая даль, синие горы на горизонте – становятся все роднее… Там медленно двигается осел, постукивая бубенчиками, черноволосый пастух, с фартуком из бараньей кожи, сидит пригорюнившись и смотрит – женщина несет какой-нибудь овощ, – в ярком наряде и с белым сложенным платком на голове, она останавливается отдохнуть, грациозно поддерживая свою ношу на голове, и смотрит вдаль, и черные глаза ее выражают такую тоску, такую задумчивость, о которой она и не подозревает, – и будто одна и та же дума налегла, тяжелая и широкая, на бесконечное поле и горы, на пропадающую в неопределенной дали зубчатую линию акведуков, идущую целые мили, на пастуха и на крестьянку. Всегда печальная, всегда угрюмая, Campagna имеет одну веселую минуту – это захождение солнца: тут она облита ярким светом, который меняется каждые две-три минуты, и вдруг поднимается роса, пурпур сменяется ночью, и даль исчезла, – ничего не видать, кроме теперь только заметного огонька пастухов и двух-трех ближних развалин».
А. И. Герцен. Письма из Франции и Италии (1847) Собрание сочинений в 8 тт. М., 1975, т. 3, с. 82–83.
П. Муратов
1911–1912
«Окрестности Рима – римская Кампанья – больше, чем что-либо другое, отличают Рим от всех городов. Образ Кампаньи соединен с образом Рима неразрывно. Она первая открывает глаза путешественнику после начальных дней разочарования. Окруженный Кампаньей, Рим мало принадлежит современной Италии и даже всей современной Европе. Истинный дух Рима не умрет до тех пор, пока вокруг него будет простираться эта легендарная страна. Никакие принадлежности европейской столицы не сделают его современным городом, никакие железные дороги не свяжут его с нынешней утилитарной культурой. Путешественник прежних времен тратил целый день, чтобы проехать Кампанью; теперь поезд пробегает то же пространство в два часа. Но в этом пока вся разница. И теперь, как и тогда, за эти два часа, как за тот день, приближающийся к Риму путешественник расстается с одним миром и находит другой. Вечность Рима не вымысел – его окружает страна, над которой время остановило свой полет и сложило крылья. Исторический день здесь никогда не наступал, здесь всегда брезжит рассвет нашего бытия. Кампанья не поддается изменениям, не подчиняется завоеваниям цивилизации. От самых ворот города начинается иногда необработанное, незаселенное, дикое поле… Все обыденное, все временное здесь непременно погибает. Стада дичают, поля тонут в сорных травах, стены пригородных вилл кажутся стенами кладбищ, остерии через немного лет принимают вид развалин, и плющ убирает их, как заброшенные руины. Рельсовые пути внушают только чувство бесконечной удаленности, и самые недавние дела человека приобретают здесь раннюю и таинственную дряхлость… Невольно хочется верить, что Кампанья в самом деле заколдованное, заповедное место. Над ней произнесено заклятие, в силу которого она уединяет и хранит Рим… Всякое деление времени мало чувствуется в Кампанье. Она внушает совсем особенную историческую перспективу. Даже события и творения вчерашнего дня отодвигаются здесь на бесконечное расстояние. Феодальные башни и римские акведуки здесь одинаково легендарны. Одно не сменяется другим, но одинаково с ним тонет в легендарных и сказочных временах. Размышление минует здесь все звенья исторической цепи и охотнее всего обращается к ее началу, к началу Рима. Еще и теперь на вечерней дороге можно встретить волчицу, которая скрывается в пещеру, где ждут ее голодные детеныши. Капли, падающие с потолка в гроте Эгерии, еще и теперь слышны, как лепет нимфы, который умел понимать когда-то Нума Помпилий. Вид всадников, пересекающих одетые утренним туманом пространства, заставляет подумать о божественных Диоскурах, спешащих в Рим с вестью о победе. Блестящая полоса моря на горизонте вызывает видение корабельщиков Энеиды. Кампанья погружена в стихию прошлого, но истории здесь нет. Историю создают труд человека, правильное общество, закон, честолюбие, богатство. Кампанья никогда не знала ничего этого… Большинство гостей Рима видит Кампанью на Аппиевой дороге. В ясные зимние вечера, когда солнце клонится к закату и красным отблеском освещены гробницы, пинии и развалины акведуков, здесь медленно катятся один за другим экипажи. Это любимая прогулка иностранцев в Риме, того племени живущих легко и видящих много людей, которое веками осело в старинных и уютных отелях вокруг Испанской лестницы и пьяццы Барберини. Дорога еще лучше, когда на ней нет проезжих. Но и в этой вечерней прогулке нет ничего, что могло бы нарушить прекрасный покой развалин. Тихое движение экипажей и невольное раздумье, выраженное на лицах проезжих, придают всему важность и значительность. Женщины, встретившиеся здесь на миг среди могил и в красном свете погасающего дня, внушают мысль о каком-то длинном романе с тонкими чувствами, долгими разлуками и несбывшимся счастьем».
П. П. Муратов. Римская Кампанья (1911–1912) Образы Италии. М., 1994, с. 277–281.
Римские карнавалы
Н. Гоголь
1838
«Теперь время карнавала: Рим гуляет напропало. Удивительное явление в Италии карнавал, а особенно в Риме: все, что ни есть, все на улице, все в масках. У которого же нет никакой возможности нарядиться, тот выворотит тулуп или вымажет рожу сажею. Целые деревья и цветники ездят по улицам, часто протащится телега вся в листьях и гирляндах, колеса убраны листьями и ветвями и, обращаясь, производят удивительный эффект, а в повозке сидит поезд совершенно во вкусе древних Церериных празднеств… На Корсо совершенный снег от бросаемой муки. Я слышал о конфетти, никак не думал, чтобы это было так хорошо. Вообрази, что ты можешь высыпать в лицо самой хорошенькой целый мешок муки, хоть будь это Боргези, и она не рассердится, а отплатит тебе тем же. Франты и джентльмены издерживаются по нескольку сот скуд на одну муку. Экипажи все решительно маскированы. Слуги, кучера – все в маскарадном платье. В других местах один только народ кутит и маскируется. Здесь все мешается вместе. Вольность удивительная, от которой бы ты, верно, пришел в восторг. Можешь говорить и давать цветы решительно какой угодно. Даже можешь забраться в коляску и усесться между ними. Коляски все едут шагом. И оттого часто забияки, забравшись на балкон, имеют возможность целые четверть часа валять горстями и ведрами мучные шарики на сидящих в колясках, большею частию на дам, которым и больно и смешно, и они только что закрывают очень мило рукою глаза и вытирают лицо. Для интриг время удивительно счастливое… Все красавицы Рима всплыли теперь наверх, их такое теперь множество, и откуда они взялись, один бог знает. Я их никогда не встречал доселе; все незнакомые».
Письмо А. С. Данилевскому, 2 февраля 1838 г.
«Я не знаю, писал ли я вам что-нибудь о карнавале, то, что называется у нас масленицею. Это очень замечательное явление. Вообразите, что в продолжение всей недели все ходят и ездят замаскированные по улицам во всех костюмах и масках. Иной одет адвокатом с носом величиною через всю улицу, другой турком, третий лягушкой, паяцем и чем ни попало. Кучера даже на козлах одеты женщинами в чепчиках. Всякой старается одеться во что может, кому не во что, тот просто выпачкает себе рожу, а мальчишки выворотят свои куртки и изодранные плащи. У каждого в руках по целому мешку шариков, сделанных из муки. Этими шариками они бросают друг в друга и засыпают совершенно всего мукою. Все смеются и хохочут. Иногда вместо муки бросают конфекты. В последний вечер, который называется Moccolotti, гасят масленицу, т. е. везде, во всех окнах, показываются огни. Все, которые не едут в колясках (а в колясках сидит человек по 12), все держат на длинных шестах огни, а другие бегут за ними тоже с шестами, на которых навязаны платки, и этими платками они стараются погасить свечи. Если им удастся это сделать, тогда они смеются от всей души. Во все продолжение этого все сливается в один гул; все до одного кричат: Senza moccolo, senza moccolo! Иные прибавляют: О che oscurita! To есть: какая темнота! Дамы между тем из балконов домов протягивают тоже длинные шесты с огнями и зажигают те, у которых погасли. Это продолжается до 11 часов ночи, и таким образом оканчивается карнавал…».
Письмо А. В. и Е. В. Гоголь, 28 апреля 1838 г.
П. Чайковский
1880
«Карнавал в полном разгаре. Мне совсем не нравится это бешенство, но я все-таки рад, что видел его. У нас есть балкон на Corso, с которого все чудесно видно. Но ты не можешь себе представить, до чего доходит это беснование. По Corso идти – чистое мучение. Отовсюду тебе в лицо и голову бросают массу мучных шариков, из коих некоторые причиняют сильную боль, но боже сохрани рассердиться – тогда забросают просто до смерти. Я пришел сегодня оттуда весь в муке, как лабазник. Но что удивительно, так это погода – совершенное лето; смешно и подумать, что я еще увижу в Петербурге снег и санки».
Письмо А. И. Чайковскому, 3 февраля 1880 г.
«Карнавал кончился, и я этому несказанно рад. В последний день сумасшествие и беснование толпы превосходило все, что можно себе представить. На меня все это производило впечатление в высшей степени раздражающее и утомляющее. Но зато, что за погода все время стояла чудная!»
Письмо А. И. Чайковскому, 12 февраля 1880 г.
С. Флеров
1882
«Со своей стороны, городское управление Рима объявило во всеобщее сведение различные постановления и правила, относящиеся до карнавала. Confetti позволяется бросать только в продолжение трех первых дней… Это маленькие белые шарики, величиной с горошину, шарики, сделанные из смеси муки и извести. Они продаются на фунты, по 2 копейки за фунт. С самого утра на всех площадях, находящихся на Корсо, поместились женщины с огромными корзинами этих confetti. Вы купили несколько фунтов. Куда положите вы их? Для этого нужно иметь особый мешок, который надевается через плечо, как охотничья сумка. Как будете вы бросать confetti на балконы? Для этого нужно иметь особый снаряд, род жестяной воронки, прикрепленный к палке; посредством такого снаряда confetti с удобством долетают до окон и балконов второго этажа. Что делать, чтобы предохранить лицо от залпов, которые пребольно действуют на кожу? Для этого нужно запастись особою проволочного сеткой. Она или прямо надевается на лицо, или же только держится перед лицом при помощи рукоятки и в этом случае как две капли воды похожа на наши „совки“ для муки. Вы видите, что это целая система. Чем далее подвигается время к полудню – гулянье по Корсо начинается в 2 часа, – тем чаще встречаются продавцы confetti, продавцы метательных снарядов и проволочных сеток. Во время самого гулянья целые сотни их движутся по улице, выкрикивая свой товар… Вперемежку с экипажами движутся маскарадные колесницы. Вот на огромной повозке, среди зелени и цветов, возвышается громадных размеров ящик, изображающий фотографический снаряд; остальная часть повозки наполнена масками; это „странствующая фотография“, а маски сидят в salon d'attente ‹зале ожидания – фр.›. Другая колесница имеет несколько этажей, расположенных амфитеатром, один над другим; на ступенях амфитеатра сидят мужчины в черных фраках, высоких шляпах и белых галстуках; каждый из них держит в руке портфель с какой-либо надписью: морские дела, внутренние дела и т. д., на каждом одета характерная маска, не „харя“, а более или менее человеческое, хотя и несколько карикатурное лицо; в толпе слышится: „министерство, министерство“, ессо il ministerio! Вот повозка, изображающая странствующий балаган; вот среди улицы движется процессия со знаменем: fine del mondo ‹конец света – итал.›. Впереди несут земной шар; за ним несколько человек тащат колоссальную зрительную трубу; по бокам бегут pulcinelli, также со зрительными трубами: все наблюдают комету, которая должна будет положить конец свету. В римской колеснице медленно движется по Корсо „римский триумфатор“: вместо лошадей колесницы тащат четыре человека с картонными лошадиными головами на плечах. Белые, розовые, полосатые, пестрые маски снуют в толпе, толкаются, пищат, мелькают цветными пятнами, появляются, исчезают… На Корсо было громадное количество народа. В отеле нам объявили с утра, что по случаю moccoli и процессии с фонарями готовится нечто особенное… Бег лошадей, corso dei barberi кончился бедой. Два человека убиты; одиннадцать тяжело ранены и отправлены в больницы; легкие ушибы и испуг, разумеется, считаются ни во что. Решительно, этот бег лошадей среди густой и неосторожной толпы – преопасная вещь. Не менее опасная игрушка moccoli. Это тончайшие восковые свечи, вернее – восковые фитили, ибо они горят на воздухе почти так же скоро, как бумага. Едва успели пробежать лошади, как на улице послышались крики: ессо i moccoli, ecco i moccoli! И появилось такое же множество продавцов свеч, как прежде букетов… На улице между тем стемнело. На балконах начали зажигать moccoli. Меня научили, как это делать. Нужно взять две свечи и переплести их между собою, потому что одна сейчас же может потухнуть. Роздали moccoli детям, взяли их сами в руки, зажгли и… Нет, вы не можете представить, что началось в то же мгновение. Pulcinelli лезли к нам в ложу, дули на moccoli и хлопали по ним своими войлочными шапками, хлопали как ни попало по moccoli и по нам самим. Проходящие всовывали в нашу ложу какие-то веники на палках и также хлопали ими по чем попало; кто-то махнул через барьер целым плащом, который сшиб с нас шляпы и на мгновение покрыл собою moccoli и нас; кто-то кинул пучок травы и попал прямо в лицо моему знакомому итальянцу… Так продолжается с полчаса. Наконец все начинают приходить к убеждению, что на улице нет никакой возможности удержать зажженным свой moccolo, точно так же, как нельзя никаким образом погасить moccoli на балконах и в окнах вторых этажей. Moccoli гасят, и только какой-нибудь десяток уличных мальчишек еще бегает с крошечными огарочками в руках, уже исключительно для собственного удовольствия. Говорят, что прежде пускали на улице разные фейерверочные штуки и кидали с балконов и на балконы зажженные пучки бумаги; теперь это строго запрещено, точно так же как запрещено носить moccoli, прикрепленными к палкам. При необыкновенной неосторожности итальянцев эта игра огнем далеко не безопасна, однако, и в теперешнем виде. Иностранцы, особенно женщины, сделают всего лучше, если будут смотреть на римский карнавал из окон второго этажа; я говорю это по опыту… Карнавал закончился прелестною процессией масок с разноцветными фонарями. Впереди всех двигалась по улице высочайшая пирамида, освещенная внутри… Затем следовали сотни самых разнообразных фонарей, говоря точнее – сотни самых разнообразных фигур, сделанных из разноцветной бумаги и освещенных изнутри. Были кошки, собаки, слоны, земляника, ветчина, бутылки, апельсины, арбузы, дома, чего только тут не было! Двигался целый стол; за столом сидел великан и беспрестанно открывал огромную пасть, в которую каким-то остроумными механизмом со стола летели кушанья в форме освещенных фонарей. За великаном шли по улице громадные часы; за ними катилось колесо фортуны; потом ехала огромная повозка, изображавшая кухню с целым десятком поваров в полной деятельности; за кухней следовал „крах“, огромная позолоченная фигура, наполовину женщина, наполовину хищная птица; вокруг этой фигуры висели сети со множеством запутавшихся в них маленьких птиц. Целая серия фонарей изображала ловлю рыбы в ночное время: вокруг фонаря, имевшего вид лунного серпа, прыгали рыбы, лягушки, всякая водяная тварь. Процессия тянулась около часа и закончилась колоссальною колесницей, на которой восседала фигура карнавала. Перед этою фигурой горели на треножниках бенгальские огни и благоухания, наполнившие всю улицу запахом ладана. Фигура сидела на золотом кресле и была в парчовом одеянии; в головах ее стоял комический доктор и хлопотал около умирающего „карнавала“»
С. Васильев ‹С. В. Флеров›. Картинки Италии. Письма из Рима и Флоренции (1882). M., 1894, с. 33–88.
М. Осоргин
1910-е
«Из года в год 17 заграничного января на улицах расклеивается официальное объявление, написанное весьма архаическим слогом, где жители уведомляются о разрешении носить на улице маски и маскарадные костюмы. Этим знаменуется начало маскарадных дней, отошедших в действительности в область истории. Слабый-слабый намек на давнее уличное карнавальное оживление дают лишь последние дни празднеств, когда на Корсо экономно тратится публикой один франк на серпантин, конфетти и крашеные бобы; но и это желанное оживление длится всего три дня. Умерли Арлекины, Стентерелли, Ругантины и Пульчинелли – умерли, и ничем их не воскресить… По главной улице Рима, по Корсо Умберто, – да и то не по всей, а лишь по оживленнейшей его части, – движется ряд извозчичьих экипажей и автомобилей. Сидят в них не маски, а обыкновенные граждане и гражданки средних классов, и экипажи, конечно, ничем не украшены. Самое большее, если кто-нибудь из веселящихся или считающих своим долгом веселиться англичан водрузит впереди автомобиля размалеванного розового амура, трубящего в рог. Масок же всего несколько десятков; большинство – дети и подростки в костюмах Пульчинелли, с лицом, намазанным мукой или известкой. Иногда, впрочем, некая смелая женщина решится проехать в крытом фаэтоне, выставив напоказ ногу в розовом чулке или зеленом башмаке. Но это – уже явление исключительное, вызывающее двусмысленные замечания… Да, карнавал печальный, окончательно выродившийся. И, однако, нет недостатка в веселье, только оно выражается не в цветочных боях – ни одного цветка нет! – и не в маскарадных интригах, о которых мы слышим со стороны и читаем в романах, а в толкотне, шутках, иногда – в драке, но не цветами и конфетти, а попросту кулаками. Немногочисленные цветные бумажки приберегаются для немногочисленных проезжающих и проходящих женщин, которые отмахиваются с притворным видом неудовольствия, но с завистью смотрят на тех, у кого на шляпе и в волосах застряло больше бумажек. Последнее, что осталось в Риме от прошедших времен, – это так называемые tarantelle romanesche – телеги с разряженными певцами куплетов на диалекте. Но и их немного. Лет пять назад прекратил свою деятельность знаменитый в своем роде карнавальный куплетист Компаретто, забавлявший Рим двадцать лет подряд. Он был всегда одет испанским маркизом, а на руки, на место колец, надевал стеклянные дверные ручки; это был специалист по шаржу и любимец римской публики. Нынешние певцы – лишь слабые его подражатели».
М. А. Осоргин. Очерки современной Италии. М.,1913, с. 255–257.
Рим между прошлым и будущим
С. Флеров
1882
«Рим нельзя ни украшать, ни распространять, ни „модернизировать“; можно только проводить через улицы проволоки телеграфов и телефонов, мести и поливать улицы; главная задача Рима, задача, в которой заинтересована вся Европа и весь исторический мир, главная задача его состоит в том, чтоб оберегать и сохранять свои развалины, а совсем не в том, чтобы создавать что-нибудь новое… В Риме центр политической жизни Италии. Быть может, это совершенно субъективное ощущение, но я должен сознаться вам, что работа центральной политической машины постоянно портила мое ощущение Рима. Машина эта производит слишком много шума, дает слишком много дыма и копоти. Все эти клерикалы и антиклерикалы, все эти депутаты и журналисты, все эти партии и кружки занимают в общественной жизни Рима более места, нежели сколько соответствует (на взгляд иностранца) их действительному значению… Вы чувствуете, что рядом со спокойною народною жизнью, имеющей целью себя саму, существует еще другая жизнь с искусственно повышенной температурой, возводящею личные столкновения, пререкания и сплетни на степень вопросов и событий, крикливо и назойливо зазывающая всех в свою лавочку, подчеркивающая противоречия, доводящая эти противоречия до непримиримых контрастов, вместо того чтобы спокойно устранить и разрешить их… Ни в одном городе так не поражают вас контрасты, ни в одном городе мелочный шум личных и кружковских ссор, интриг, пререканий не кажется вам до такой степени гулом ударов по пустой бочке, как именно в Риме; вся эта шаблонная, фабричная парламентская работа, весь этот журнальный крик и шум, вся эта погоня за новейшими цветками европейской культуры, за новейшими французскими оперетками, зонтиками из Парижа, портсигарами из Вены, гигиеническою бумагою „для домашнего употребления“ из Лондона – все это кажется вам среди великого Рима как-то особенно мелким, искусственным, пришлым, неорганическим. Вы чувствуете себя действительно в Риме лишь когда вы уйдете от его жизни как столицы, от того искусственного шума, который Рим называет теперь своей действительною жизнью; вам нужно отыскивать Рим среди Рима, добираться до почвы через ряд случайных наносных слоев, угадывать лицо под гримасой».
С. Васильев ‹С. В. Флеров›. Картинки Италии. Письма из Рима и Флоренции (1882). М., 1894, с. 318, 321–323.
П. Муратов
1911–1912
«Рим часто кажется на первых порах негостеприимным. Путешественник, прибывающий сюда из тихих и благородно ненынешних городов Тосканы и Умбрии, невольно испытывает сжимание сердца, когда впервые выходит на обширную площадь перед станцией железной дороги, окруженную современными домами и наполненную деловым шумом большого европейского города. Открывающаяся отсюда перспектива банальной Via Nazionale мало утешительна. Вся эта часть города, древний Виминал и склоны Эсквилина и Квиринала, занята новыми кварталами, построенными в семидесятых и восьмидесятых годах, ради желания сделать Рим похожим на другие европейские столицы. Еще сорок лет назад здесь тянулись только огороды и виноградники. Выросшие на их месте новые улицы холодны, однообразны, уставлены тяжелыми и безвкусными домами. Не менее удручающее впечатление производят современные кварталы, выросшие еще более недавно за некоторыми городскими воротами, например за Порта Пиа и Порта Салариа. Великолепные луга когда-то тянулись по правому берегу Тибра от замка Св. Ангела и стен Ватикана до самого Понте Молле.
Теперь там образовался целый городок, состоящий из прямых широких улиц и огромных кубических домов. По счастью, этот квартал, Прати дель Кастелло, остался народным, и народная жизнь в два десятилетия успела несколько согреть его механическую правильность и деловитость. Легче примириться даже с бедностью и нищетой двух других новых народных кварталов, у Тестаччо и около Латерана, чем с безличной нарядностью таких улиц, какие проложены на месте уничтоженной виллы Людовизи, где на пепелище садов Ле Нотра свило свое неуютное гнездо правящее сословие объединенной Италии. Дурное новое резко и неприятно поражает приезжего в первое время. Но очень скоро его как-то мало начинаешь замечать, и потом оно даже почти вовсе исчезает из представлений о Риме. Люди, живущие здесь долго и хорошо знающие Рим, всегда бывают несколько удивлены жалобами кратковременных гостей на бросающиеся в глаза современные дома и улицы. Они верят в таинственную способность этого города: все поглощать, все делать своим, сглаживать острые углы и резкие границы различных культур, соединять на пространстве нескольких саженей дела далеких друг от друга эпох и противоположных верований. Никакие новые здания, даже такие, как только что оконченный монумент Виктора Эммануила или на редкость уродливая еврейская синагога на берегу Тибра, не в силах нанести Риму непоправимого ущерба. Колоссальные сооружения, вроде дворца Юстиции, здесь удивительно легко нисходят на степень незначительной подробности. Сильно помогает этому сама бесхарактерность современного строительства. Фонтан Бернини все еще торжествует над берлинской перспективой Via del Tritone. Торговая суета улицы Витторио Эммануэле легко забывается перед фасадами палаццо Массими и Сант Андреа делла Валле. Современная толпа на главном Корсо не мешает его великолепной строгости. И надо быть педантом, чтобы отчетливо выделить новое из окружающего и преображающего его старого в традиционном квартале иностранцев около Пьяцца ди Спанья».
П. П. Муратов. Чувство Рима (1911–1912) Образы Италии. М., 1994, с. 211–212.
Б. Грифцов
1910-е
«У тех писателей, кому удалось жить в Риме до того, как он стал столицей объединенной Италии, часто встретишь чувство глубокого огорчения от его новейшей культуры. Грегоровиус, автор многотомной и классической „Истории Рима в средние века“, проживший здесь десятилетия, не мог приехать сюда, когда провели железную дорогу. Новая механическая культура казалась ему несовместимой с культом старины, которой он отдал свою жизнь. Гастон Буассье начинает свои „Археологические прогулки“ – спокойную ученую книгу – лирическими страницами о том, как невыносимы „новые кварталы, беда которых в том, что они похожи на все новые кварталы в мире“. Грегоровиус и Буассье – раньше всего социальные историки; ни того, ни другого нельзя заподозрить в отсутствии демократичности, но сочувствие новому положению Рима не могло изгнать у них чувства личного оскорбления, которое вызывается каждой переменой в картинах привычного, спокойного Рима. По всей Италии будет сопровождать путешественника это противоречие различных культур. Но нигде оно не сильно так, как в Риме. И с каждым днем паломничество в Рим становится все труднее. Что сказал бы Грегоровиус, если бы увидел памятник Виктору Эммануилу! Назойливый и все же беспомощный европеизм делает трудным подход к тому чувству города, которое обычно так непосредственно дается в Италии… В Великое спокойствие былого Рима его современная жизнь вносит начала чуждые. Надо сознаться, что, как ни строился бы Рим теперь, новые постройки не в силах был бы принять человек, отдавшийся его прошлому, готовый ревниво заботиться о том, чтобы прошлое сохранилось здесь во всей своей неприкосновенности. Этой ревнивой любви к Риму паломника суждено каждый год испытывать огорчения. После 1871 года Рим стал усиленно строиться, и не только ревнивая любовь к прошлому заставляет признать неудачным и заносчивым его новое строительство. Логически вполне понятен призыв сделать из Италии не музей и гостиницу для иностранцев, а самостоятельное, сильное государство, но что делать, если для беспристрастного взгляда проявления этой новой силы остаются только заносчивыми, только неудачными… Когда заходит речь о том, чтобы по площади Навона проложить широкую улицу, которая открывала бы вид на Дворец Правосудия, о том, чтобы расширить площадь Треви, фонтан которой производит сильное впечатление именно благодаря контрасту ограничивающих его стен, – все эти проекты порождены не только новыми потребностями, но и новыми вкусами…»
Б. А. Грифцов. Рим. 2-е изд. М., 1916, с. 27–28, 250–251.
И. Аксаков
1857
«И сильно займет вас Рим, займет вас и противоречие древней жизни и современной, и тайна грядущего, которая носится над древними и будущими развалинами, и гармония древнего мира, и страшный диссонанс, внесенный (и благодарение Богу) христианством, и попытки новой гармонии в области искусства, и тщета попыток, и безобразие современности с утратою всяких верований, и вся страшная дисгармония, все раздирающие душу аккорды современной жизни древнего человечества, и над всем этим гармония природы, роскошная синь неба, синь моря, синь гор, изумрудная зелень деревьев, и все богатство красок, чарующее вас в цветах, устилающих поля, растущих на воле, венчающих (буквально) каменные развалины!.. Мне нравится эта бесцеремонность обращения итальянцев с древностями. Арка, которую баварский король поставил бы под стеклом, на образец которой он выстроил бы арки во всех концах Мюнхена, и сам с глупым благоговением, надев хламиду и прикинувшись древним антиком, прогуливался бы под ней, – эта арка у итальянца как-то дружится с его беспечной артистической жизнью; если бы из арки строили казарму – другое дело, но к ней привязывает корову, подле нее – раскинувшись – спит он в живописном костюме или вешает даже белье для просушки. Тут есть наивность обращения, по крайней мере, менее оскорбляющая вас, нежели благоговение новейшего немецкого афинянина».
Письмо родным 4 июня 1857 г.
М. Осоргин
1913
«Исчезает, покрываясь наслоениями современности, все прошлое Вечного Города… Новая жизнь идет приступом на сонную и ленивую красоту очаровательной страны, ничего не жалея, раскидывая камни и плиты прошлого, тесно окружая решеткой его памятники, заслоняя их наглыми рекламами отелей, ваксы, модных магазинов, кинематографа. Античное, бывшее достоянием всех, спрятано в глухие стены музеев, сама природа убегает от жилых центров в горы, ближе к небу, которое нельзя перекрасить в модный цвет, ближе к морю, волны которого не строятся по ранжиру… Не нужно чрезмерно сожалеть о прошлом; оно было слишком великим, чтобы нуждаться в нашей защите. Роль его не окончена, и, как Анцианская Девочка, оно и впоследствии может разрушить стены своего склепа и вновь явиться миру. Мы должны радоваться новой жизни, которая пробивает себе дорогу, какой бы серой и бесцветной на фоне прошлых веков она ни казалась нам, ее современникам. Мы слишком пристрастны; мы рискуем проглядеть в ней грандиозное, если не в сфере искусства, то в области зодчества социального. Жизнь многогранна, и грани ее несоразмерны. Слишком долго Италия была для нас только краем мраморных чудес, макарон и ладзарони; она не хочет вечно служить лишь местом прогулок европейских буржуа, покупающих ее красоту на золото европейской цивилизации. Италия хочет быть европейской державой – пусть она будет ею… Но если этим своим прогрессом она мешает английскому туристу излечить приобретенный им на родине сплин, – можно ли винить за это молодой народ? И если вы, читатель, приехав сюда, разочаруетесь в своих преувеличенных поэтических надеждах при виде первой фабричной трубы, коптящей лазурное небо, – вините лишь себя самого! Италию мало видеть; ее нужно знать. И тот, кто понял и полюбил ее и ее народ, никогда не обманется цветистой и модной вывеской. Для него, как настоящего друга, а не случайного покупателя настроений, Италия и теперь, и позже, и всегда найдет способ возродить свое не подчиненное законам смерти обаяние. Легкое дуновенье звездной ночи, слабый звук мандолины, всплеск прибоя, – и само собою вернется то странное, драгоценное чувство к чужой стране, которому не подыщешь ни названья, ни объясненья. Скажем – чувство влюбленности; в отношении ее это чувство не бывает безответным и не может быть смешным. Привета и ласки у нее хватит на всех, и она – единственная из доступных, которая не может прискучить. А любимой – прощается все».
М. А. Осоргин. Очерки современной Италии. М., 1913, с. 259–260.)
«Я не Бедекер, чтобы отмечать звездочками места, где жил и был, да и звездочек, пожалуй, не хватит на моем закатном небе. Италии, роману моей молодости, я посвятил и книги, и осколки книг, все это укатилось в прошлое, и Италия теперь не та, даже имя ее звучит по-иному. Черноглазая девушка захотела стать синьорой, а я любил именно черноглазую девушку, любовью северянина, пригретого чужим солнцем. Спасибо, дорогая, за десять лет ласковой дружбы! Я понимаю, что нельзя вечно оставаться цветочницей на Испанской лестнице или плясать тарантеллу. Та девушка с тибрской стороны Рима, работница табачной фабрики, получившая приз за красоту, – за действительную, непобедимую, всепокоряющую красоту, – тоже впоследствии вышла замуж за европейского комиссионера, представителя фирмы моторов. Все это меня мало касается, и моя любовь была платонической, может быть, даже простой благодарностью. В ватиканском музее есть жертвенник рождающейся Венеры – я его называю по-своему, – и руки прислужниц помогают богине покинуть морскую пену. Выйдя, она наденет современный костюм и будет принимать в своем салоне дипломатов и изобретателей патентованных государственных систем. Мне-то что за дело! Я видал этих людей сотнями; они продаются в лавочках всемирной истории. Но Венеру, с живого мрамора которой нежной тканью сбегает вода, я не обещал забыть, „о gioventu, primavera della vita!“ ‹0 юность, весна жизни!›… Но времена поэзии прошли. Три этажа дантовской поэмы уже соединены подъемною машиной, и мальчик, одетый в черную рубашку с галстуком, выкрикивает: „il purgatorio, avanti chi scende!“ ‹Чистилище! Кто спускается, вперед!› Я выхожу, не дожидаясь обещанного рая, куда уже поднялось достаточно европейских народов… Я прожил восемь лет в Вечном городе, теперь ставшем городом современным; его вечность подчищена и подбрита, окружена решеткой, занесена в регистр, украшена дощечкой с красиво вырисованной надписью. Раньше в нем слитно жили века, кузнец ковал железо в театре Марцелла и забивал гвоздь в вековой камень, не догадываясь о своем кощунстве; кошки плодились на Форуме Траяна, прохожий шагал по земле, наросшей на остатки храма. Это было красиво и непрактично, как все красивое. Бойкие молодые люди, над которыми пытались смеяться, открыли поход против Рима, против веков, против академии и лунного света – за солнце и мотор. Крикливые гуси спасли Рим древний и погубили его в современности. Однажды русские невинные экскурсанты, приехав в Рим, вошли ночью в Колизей и запели хором „Вниз по матушке, по Волге“ – так поступить могли только милые дикари. Сейчас на Капитолии уместна фашистская „Джовинецца“, гимн работы опереточного мастера, – и только Ватикан остается крепостью старой, слишком старой веры».
М. А. Осоргин. Времена. Автобиографическое повествование (1942). Екатеринбург, 1992, с. 552–555.
В. Вейдле
1950-е
«Конечно, Италия не просто хранилище достопримечательностей, не музей, и жизнь ее – не театральное представление. Дело и не в этом, а в том, что ее прошлое слилось с ней самой, с узором ее берегов, с течением рек, с волнистой линией гор, с кипарисами кладбищ и пиниями приморских рощ, с ее виноградниками, деревенскими дорогами, со старыми ее городами, – так слилось, как только с телом сливается душа; нельзя разделить их: потерей души грозит отречение от памяти… Рим создавался медленной работой веков, а не произволом, хотя бы и гениального строителя. Все в нем кажется выросшим из самих его недр и сросшимся одно с другим в неразрываемое глубокое единство. Каждый удар кирки в старых его кварталах, даже самый осторожный и разумный, словно проникает в живую ткань и пронзает ее жестокой болью. Совсем без кирки, конечно, не обойтись – без нее никогда и не обходились, – но есть различие в том, чтобы к ней прибегать в случае насущей необходимости или в силу какого-нибудь общего плана. Замысел такого рода способен предотвратить неприятные случайности и избегнуть вопиющих разрушений, но самый его рассудочный холодок уже противоречит органическому росту и жизненному теплу запечатленной в городском строительстве истории. Проветренные окрестности театра Марцелла, восстановленная вереница форумов, широкая, прямая улица, которой соединены Венецианская площадь и Колизей, – все это прекрасно задумано и выполнено с большим уменьем, но ради всего этого пришлось уничтожить много узких улиц и ветхих домов, быть может не столь уж и замечательных, но все же неотделимых от славы, от старины, так близко прильнувших, казалось, чтобы слиться с ним навсегда, – к самому сердцу Рима… Не будем несправедливы к обновлению столицы, долженствующему знаменовать обновление страны. Из того, что совершилось, многое должно было совершиться, и мера почти всюду была соблюдена… Если в чем-нибудь нужно упрекнуть нынешних хозяев города и страны, так это больше всего в том, что не захотели они порвать с… манией архитектурного величия. Не только не решились они отдать на слом позорящий Рим Национальный Памятник – его освещают прожекторами по вечерам, – но и те памятники и здания, что воздвигаются сейчас, пусть в более деловитом и потому более сносном стиле, все еще несвободны от того же духа демагогической огромности. Оправдано все то, что отвечает действительной потребности страны, но не то, что внушено тщетой соревнования и суетной заботой о престиже. В наше время неуместно – потому что неизменно оказывается внутренне пустым – всякое в себе самом сосредоточенное великолепие. Что же до соперничества с собственным прошлым – вряд ли оно плодотворно: то, что было в Италии, того, чем и сейчас она так богата, все равно никому не перещеголять… По-прежнему несчетные купола мягко плывут над городом и собор открывает за рекой объятия Берниниевой колоннады. Не в сторону Остии и не по Фламиниевой, а по Аппиевой дороге надо уходить из Рима и возвращаться в Рим. Среди могил, среди полей она тянется ровная, прямая; обернитесь: исчезли века, и вы снова в той картине Лоррена, где колонны врастают в землю и мраморы поросли травой, где в летнем сумраке гаснет древний мир, – в картине, которую назвал неизвестно кто „Падением Римской империи“…»
В. В. Вейдле. Вновь я посетил// Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк, 1952, с. 29–35.
Прощание с Римом
С. Уваров
1843
«Посетить Рим есть почетное воспоминание; оставить его без глубокого сожаления – дело невозможное. Хотя не покидаешь там никакой привязанности, хотя оттуда никакой не выносишь, сердце сжимается, когда снова проезжаешь Porta del Popolo для возвращения под свой далекий кров. В роковое мгновение расставания Рим весь предстает глазам вашим, как особа нежно любимая; вы простираете к нему руки, и он издали, кажется, бросает прощальный взгляд на иноземного странника, которого лелеял в стенах своих и осенял своею тенью».
С. С. Уваров. Рим и Венеция в 1843-м году. Дерпт, 1846, с. 25–26.)
П. Муратов
1911–1912
«Так проходят дни, и вот наступает день разлуки с Римом… Чтобы осталась надежда еще раз увидеть Рим, надо проститься с ним по старинному обычаю путешественников – бросить монету в фонтан Треви и напиться оттуда воды. Никогда маленькая площадь Треви не кажется такой прекрасной и оживленной, как в этот последний вечер. Солнце уже садится; отряд карабинеров возвращается с музыкой из караула на Квиринале, и сопровождающая его толпа любопытных смешивается с толпой, выходящей после вечерней службы из церкви Санти Винченцо и Анастазо. Из ее открытых дверей пахнет ладаном, воском и цветами, в темной ее глубине видны горящие перед алтарем свечи. В последний раз взгляд обращается к ее элегантным тройным колоннам, каменным гирляндам и волютам барокко. Безмерно счастливым хочется назвать в эту минуту римский люд, заполняющий площадь, ибо ничто не мешает ему жить под этим небом Рима. Взор тонет в его вечерней синеве, которая кажется еще более глубокой рядом с пылающим в рассеянном свете красным домом направо от фонтана. Только в Риме и Венеции встречаются дома, окрашенные так сильно и нежно. Вместе с наступающей темнотой толпа понемногу растекается по узким улицам, ведущим к Корсо или Квириналу… Мы спускаемся к бассейну; близкий отсюда гул каскадов кажется прощальным, и водяная пыль, оседающая на лице, вызывает легкую дрожь. Какие-то человеческие существа, расположившиеся в нишах ограды, копошатся там смутно; их голоса похожи на трубный и хриплый голос тритонов. Серебряная монета блестит на миг и исчезает под темной поверхностью. Зачерпнутая рукой из боковой струи вода успевает омочить губы, вкус ее свеж и сладок. Когда мы выходим на площадь, мне видно в желтом свете, льющемся из окон остерии, как печально твое лицо, милый друг, как даже воды Треви, сулящие скорое возвращение, не успокоили тоски от этой разлуки с Римом – тоски, которая будет преследовать всюду вдали от Рима».
П. П. Муратов. Чувство Рима (1911–1912) Образы Италии. М., 1994, с. 221.
М. Осоргин
1923
«Прощанье с Римом. Вот рецепт прощанья, старый и испытанный: чтобы вернуться вновь. Ранний ужин и долгая прогулка: последний взгляд с площади Пинчо, от церкви Троицы над Скала Спаньола. С высоты Капитолия – на Форум. Последний стакан белого Фраскати. Когда шум улиц начнет замирать – идите переулками к фонтану Треви. Холодны вокруг него, ниже уровня площади, скамьи из травертина. Его мраморные фигуры вырастают из высокого здания. Ни гармоничнее, ни красивее нет фонтана на земле – даже в том же Риме. Смотрите, как рябит вода в бассейне. Смотрите, на сколько струй и каскадов разбита река, вырывающаяся из извилин мрамора, вспоминайте краткие дни в Риме, мечтайте вернуться. Вздыхайте – это здесь так уместно и так естественно. Встаньте, выньте старую приготовленную монету в одно сольдо и закиньте ее в бассейн, подальше, под струи. И трижды, зачерпнув рукой, отпейте лучшей, и чистейшей, и вкуснейшей воды. С чувством и набожностью причастника, с верою, с благословением и внутренней молитвой. Чтобы вернуться вновь! Бог Нептун позаботится об этом. Он будет трезубцем волновать моря и реки, которыми вы плывете, и гнать вашу лодку к устью Тибра. В гуле улиц, в шуме собраний, в музыку, в пенье, в плач – будет отныне вплетаться мелодия падающей воды фонтана Треви. Что в силах человека – вы все сделаете, чтобы вернуться».
М. А. Осоргин. Там, где был счастлив (1923). Париж, 1928, с. 103–104.
Об авторе