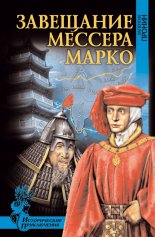Знаменитые русские о Риме Кара-Мурза Алексей
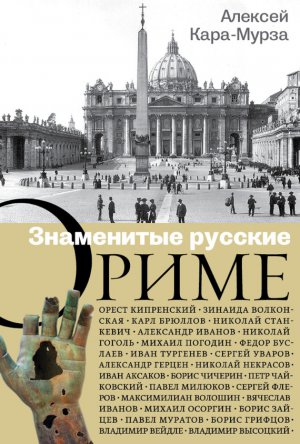
В Риме Чайковский продолжает работу над оркестровой партитурой «Пиковой дамы». На этот раз его письма буквально пестрят восклицаниями: «От Рима в восторге!», «Милый, милый Рим!» и т. п. и сетованиями на то, что ранее для творчества он избрал «скучнейшую до гомерических размеров Флоренцию». Он с радостью посещает собор Св. Петра, Сикстинскую капеллу, Пантеон, но все больше скучает по России и в одном из последних писем Модесту из Рима пишет:
«Расположение духа моего здесь гораздо лучше; но скажу тебе откровенно, что я только и живу предвкушением совершенно невероятного счастья и блаженства вернуться домой!!!»
Чайковский выехал из Рима 29 апреля 1890 г. и уже через пять дней был в Петербурге. Это было шестое по счету и, как оказалось, последнее посещение великим композитором Вечного города.
Павел Николаевич Милюков
Павел Николаевич Милюков (15. 01. 1859, Москва – 31. 03. 1943, Экс-ле-Бен, Франция) – историк, политический деятель, лидер Конституционно-демократической партии, депутат III–IV Государственных дум, министр иностранных дел первого Временного правительства (1917).
После окончания с серебряной медалью Первой московской гимназии поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В 1880 г. за активное участие в студенческих кружках был исключен из университета (с правом восстановления через год). Потерянные для учебы месяцы решил занять давно планируемым большим путешествием по Италии (оно состоялось в мае-августе 1881 г.).
Готовясь к путешествию по Италии, Милюков с благодарностью вспоминал своего университетского профессора знатока Италии Ф. И. Буслаева:
«Профессор постоянно возвращался к своим воспоминаниям об Италии. Помню, раз он вдруг заговорил о картине Мантенья как образце раннего итальянского реализма. Другой раз он движениями рук объяснял, как он научился одним осязанием различать настоящую греческую скульптурную работу от римской. Такие проблески запоминались, возбуждали любопытство и будили настоящий интерес. Я как раз и поставил своей исключительной задачей знакомство с греко-римской скульптурой и с живописью раннего Возрождения. Я не обещал себе наслаждения природой или наблюдений над обществом недавно объединенной Италии; не обещал даже непосредственного наслаждения искусством. Я почему-то считал себя на это решительно неспособным. Суровой и единственной целью должно было быть изучение».
Милюков выработал маршрут, которого потом строго держался: остановка в Венеции; потом Падуя («для фресок Джотто в Arena»); потом Болонья («для Святой Цецилии Рафаэля»); потом Пиза («не столько для падающей башни, сколько для Campo Santo со знаменитой фреской Орканья»); потом во Флоренцию («на которую – по ее значению для раннего Возрождения и для его расцвета – я полагал от одной до двух недель»); потом Сиена («где меня интересовал собор и особая школа живописи»); потом Рим («На Рим – на Палатин и Ватикан – я назначил себе целый месяц»). «Оттуда остаток времени предназначался для Неаполя и Помпеи, а в качестве баловства – для поездки в Неаполитанский залив и на Капри».
Что касается итальянского языка, то Милюков считал, что справится с ним «довольно свободно»;
«Я учился по-итальянски у нашего милого университетского лектора Мальма, шведа, гримировавшегося не то под итальянца, не то под испанца, – с длинными белыми волосами и эспаньолкой. Проведя слушателей через „Promessi Sposi“ Манцони, он довел нас до Данте и прочел с нами несколько песен „Divina Commedia“».
Милюков выехал в Италию поездом через Варшаву и Вену:
«Варшава, при проезде с вокзала на вокзал, показалась мне, по сравнению с Москвой, настоящим европейским городом – первым, который я видел. Что же сказать о впечатлении, произведенном Веной! Я потом много раз бывал в этой красивой столице. Но тогда восторг мой достиг высшей точки. Мне казалось, что лучше этого я уже больше ничего не увижу. Мы остановились в отеле „Метрополь“. Этот сравнительно скромный отель мне представился верхом комфорта и роскоши. А венский кофе с не тонущим куском сахара на сливочной пенке и с непременным стаканом ледяной воды!».
Венеция поразила Милюкова, но он поставил себе задачу «не поддаваться внешним впечатлениям»:
«Мой план был не любоваться, не восторгаться, а учиться». Следующим городов была Падуя, где его ждали ранние фрески Джотто в Arena: «Это было для меня настоящее пиршество. От квадрата к квадрату я переходил, сличая описание с фреской и выслеживая штрихи новизны в рамках строгой традиции. Джотто – но это уже ранняя Флоренция! Джотто – современник Данте! Но подождем. Надо не умиляться, а учиться!»
«Система», избранная Милюковым, «дала окончательную трещину» в Болонье:
«Перед святой Цецилией Рафаэля я долго стоял, забыв о всех своих планах. По своей неподготовленности я не видел раньше репродукций этой картины в красках – и очутился сразу перед оригиналом. Своего впечатления я не могу передать. От картины веяло поистине неземной гармонией (и музыкой, моей милой музыкой). Гармония в диспозиции рисунка, в повышающейся градации настроений окружающих персонажей, и, после Венеции, – в такой бережливой сдержанности красок! Но – дальше, дальше…».
Дальше была Пиза, где на местном Campo Santo Милюкова ждала фреска Андреа Орканьи «Торжество смерти», о которой ему еще в университете рассказывал профессор Буслаев:
«Но фреска плохо сохранилась, и я уже знал ее по снимкам; может быть, поэтому она не произвела на меня ожидаемого впечатления… Падающая башня Пизы произвела впечатление больше тем, что с ее верхней площадки я наблюдал сменяющиеся краски солнечного заката в море».
Милюков посетил потом Флоренцию, которая в тот раз «не далась ему»: «В ней надо жить, чтобы полюбить ее и ее скрытые сокровища». Милюков стремился в Рим, куда он приехал, коротко посетив Сьену.
В Риме Милюков за 40 лир в месяц снял комнату на via Sistina рядом с Trinita dei Monti:
«Дешево тогда жилось бедному студенту. Надо мной был Monte Pincio со своими виллами и пиниями, подо мной – знаменитая лестница, спускавшаяся к Piazza di Spagna».
Однако, несмотря на эти «прелести», Милюков посчитал выбор жилища в северной части Рима неудачным:
«Развалины языческого мира, начиная с Форума, были расположены в южной половине города. Они оставались в том же заброшенном, нетронутом виде, как были в папское время… Тогда это были пустыри с жалкими хибарками беднейшего населения, засыпанные песком. Ходить в июльскую жару в эту часть Рима было настоящим подвигом. Местные жители говорили, что в такое время года, когда асфальт мнется под ногами, как глина, по улицам ходят только inglesi e cani – англичане и собаки. Это была действительно собачья работа – добираться до базилики Сан Паоло, fuori le muro, в южные христианские катакомбы, или выходить на Аппиеву дорогу. Один раз, зайдя довольно далеко по аллее гробниц, я чуть не схватил солнечный удар. Помню, как в каком-то полусознательном состоянии я опустился у дерева при дороге и так, в полусне, пролежал без движения, очнувшись только, когда солнце стояло низко над горизонтом и веял с Кампаньи прохладный ветерок. Кое-как, пешком же, я добрался к ночи до своей квартиры».
Почти ежедневно Милюков ходил в галереи Ватикана:
«Я точно распределил работу между часами дня. Вставал рано и один из первых приходил к открытию намеченного музея. В час завтрака шел в ближайшую тратторию народного типа и там завтракал за 60 чентезими, избегая по возможности специфических итальянских блюд, к которым трудно приучиться. После завтрака шел опять в музей с книжками под мышкой. Меня всегда сопровождал мой любимый „Чичероне“ Буркхардта ‹книга об итальянском Возрождении›, устранявший всех других гидов. Я смотрел свысока на толпы „Куков“, спешно пробегавших комнаты и не успевавших заглянуть в свои Бедекеры. Я усаживался на стул или диван и медленно переходил от одного предмета к другому. Уходил я после звонка к закрытию, и один раз случилась даже со мной по этому поводу забавная история в Капитолийском музее. Я углубился, в амбразуре окна, в рассмотрение tabula ilica ‹каменная доска с барельефом Троянской войны›, звонка не заметил, сторожа прошли мимо меня и заперли музей на ключ. Я продолжал свою работу, пока не заметил, что все стихло и никого нет в музее. Я толкнулся во двор; ворота заперты. Я обошел музей с другого конца, открыл окно на спуске тротуара от Araceli и стал ждать прохожих. Остановил одного, рассказал ему свою историю; тот побежал звать другого, более посвященного. Но другой сказал, что сторожа ушли, и что на вызов их потребуется время. Комната была интересная, и я вернулся к созерцанию Амазонки и Амура. Прибежали, наконец, испуганные сторожа, но, прежде чем выпустить, попросили разрешения меня обыскать, на что я охотно согласился. Извинились и ушли, а я пропустил свой завтрак, который большей частью был и обедом…»
После послеобеденного закрытия музеев Милюков возвращался домой и принимался готовиться к следующему дню:
«Тут прочитывалась соответственная глава Гастона Буассье; для Рима я приобрел еще шесть томов Ампера, построенных на изучении топографии Рима в связи с его историей. Ампер необыкновенно оживлял мои прогулки по Риму. На одном перекрестке я видел Горация, на другом встречался с Цицероном, а вот та низина, в которой римляне похитили сабинянок. Так проштудировал я, следуя Гастону Буассье, Форум, ходил по Аппиевой дороге, съездил с ним в виллу Адриана, суммировавшего там память о своих путешествиях, ходил и в Латеран, где подробно знакомился с символикой первых веков христианства при помощи еще одной прекрасной книги, словаря христианских древностей Мартиньи».
Особенно запомнилось Милюкову одно дальнее путешествие по окрестностям Рима:
«От виллы Адриана я пробрался пешком к котловине озера Неми… Потом решился подняться на гору Monte Cavo no дороге, которая вилась кругом и служила в древности для триумфального восхождения римских генералов, которым сенат не присуждал настоящего, нормального триумфа. На вершине горы стоял небольшой монастырь, куда меня, измученного восхождением, пустили переночевать. После скромной трапезы, состоявшей из неперевариваемых незрелых фиг собственного произрастания, монах повел меня посидеть на лавочке и первым делом спросил, по Гомеру, из каких я стран. Я ответил: ип russo. Монах отпрянул: nihilista? Я его успокоил, и мы начали мирную беседу о том, как испортилось время, как девицы забросили домодельные костюмы и стали одеваться в ситцы и т. д. Пока мы беседовали, солнце склонилось к закату, и мой монах оказался поэтом. Действительно, картина была очаровательная. Перед нами открывался весь Лациум, видно было всё течение Тибра, вплоть до моря, которое сияло последними солнечными лучами. А что делалось на небе! Закатываясь в облаках, солнце постоянно меняло форму; краски, от красной до фиолетовой, оживали по очереди вслед солнцу – и вслед за ним умирали. Но надо было слышать при этом воодушевленный комментарий монаха… Когда стемнело он повел меня в предназначенную для меня келью. Я мирно заснул и снов не видал. Рано утром монах проводил меня по кратчайшей дороге. Это была одна из самых приятных прогулок – и так она хорошо запомнилась».
Далее Милюков отправился на берега Неаполитанского залива. Коротко посетил Неаполь, Помпеи, Сорренто и Капри, вернулся на пароходе в Неаполь, а потом проделал обратный путь, нигде не задерживаясь: средств едва хватило на этот кратчайший способ возвращения.
Лекции в университете уже начались, когда Павел Милюков вернулся из Италии.
Сергей Васильевич Флеров
Сергей Васильевич Флеров (литературный псевдоним – Сергей Васильев; 3.04.1841 – 5.04.1901) – педагог, журналист, театральный и художественный критик. После окончания историко-филологического факультета Московского университета занимался педагогической деятельностью. Был инспектором IV мужской гимназии, позже – гласным Московской городской думы и членом Московской городской управы. С 1875 г. – постоянный сотрудник «Русского вестника» и «Московских ведомостей». Писал театральные фельетоны, отчеты о художественных выставках, музыкальные рецензии (в которых едва ли не первым угадал композиторский гений П. И. Чайковского).
В феврале – мае 1892 г. совершил путешествие по Италии. Мемуарные очерки о Риме, где С. Флеров прожил три недели, печатались частями в «Московских ведомостях», а затем вошли в книгу «Картинки Италии. Письма из Рима и Флоренции» (М., 1894). С. Флерову, в частности, принадлежит самое подробное и, по-видимому, лучшее в русской литературе описание римского карнавала.
Книга Флерова-Васильева изобилует также «советами для русских путешественников в Риме»:
«По моему мнению, все путеводители по Риму не достигают своей цели. Путеводитель Бедекера – прекрасная книга; путеводитель Гзель-Фельса еще лучше, и я советую вам непременно запастись ими, когда вы поедете в Рим. Но все эти путеводители не то, что вам нужно. Читать путеводитель с начала до конца – это приблизительно такое же удовольствие, как взять словарь и приняться за его чтение; путеводитель, подобно словарю, нужен лишь для справок, и нет ничего приятнее и удобнее, как пуститься ходить по Риму наудачу, забрести куда-нибудь в лабиринт маленьких, узких переулков, прочитав на первом попавшемся углу название места, достать из кармана путеводитель и в одно мгновение сориентироваться… Но вы совершенно погибнете, если в короткое время захотите осмотреть Рим по путеводителю. Вы превратитесь в самое несчастное существо, какое только можно себе представить, в существо, которое Бедекер гонит перед собою по „вечному городу“, не давая ему „ни отдыха, ни срока“, в существо, которое через час уже чувствует себя обкормленным и все продолжает быть обкармливаемым… Вместо того чтобы узнать Рим, вы только заварите у себя в голове кашу и все-таки не увидите половины того, что бы следовало увидеть… Я сделал свое дело, я предупредил вас; теперь вы можете поступать, как знаете».
Максимилиан Александрович Волошин
Максимилиан Александрович Волошин (настоящая фамилия – Кириенко-Волошин; 28.05.1877, Киев – 11.08.1932, Коктебель) – поэт, критик, переводчик, эссеист, художник. Впервые М. Волошин посетил Италию (Венецию, Верону и Милан) вместе с матерью Е. О. Кириенко-Волошиной осенью 1899 г. Зимой 1899–1900 гг. он задумал новое путешествие по Италии – на этот раз с обязательным посещением Рима. В одном из дневниковых набросков Волошин писал о своем тогдашнем настроении:
- В Италию – громко звенело ушах,
- В Италию! – птицы мне пели,
- В Италию – тихо шуршали кругом
- Мохнатые старые ели…
Волошин начал учить итальянский язык, занялся историей искусств, проштудировал «Путешествие по Италии» Гете. В письме А. М. Петровой от 9 января 1900 г. из Берлина Волошин писал:
«Я мечтал, что с первыми лучами весеннего солнца я… пойду странствовать по Германии и проберусь на юг Италии в Рим, который меня теперь манит неотразимо… А пока я накупил себе путеводителей по Италии и усердно изучаю их. Теоретически я уж исходил всю Италию вдоль и поперек, с Сицилией включительно, а в Риме даже с закрытыми глазами могу разобраться».
В начале июня 1900 г. М. Волошин с друзьями-студентами – князем В. П. Ищеевым и Л. В. Кандауровым – выехал за границу. Сначала собирались пройти Италию пешком, но, поняв неосуществимость этого плана, решили часть пути путешествовать поездом. Маршрут был расширен: «Задача нелегкая: пройти через Тироль, озера, всю Италию, прожить в Риме, в Неаполе и вернуться через Афины и Константинополь, и в три месяца!» Выделенные на путешествие деньги были скромны – каждый вносил по 150 рублей. Волошин писал матери:
«Все это можно сделать на 150 р., считая на переезды 80 р. (я высчитал по путеводителям), а остальные деньги распределив на 3 месяца, остается по 2 франка в день на остановки и питание; останавливаясь на постоялых дворах и в ночлежных домах и питаясь преимущественно хлебом, молоком и другой примитивной пищей, – этого хватить может свободно».
Через Тирольские Альпы путешественники спустились в Италию и пересекли ее всю – от альпийского городка Бормио до южного порта Бриндизи на берегу Адриатического моря.
В Рим Волошин с друзьями прибыл 13 июля 1900 г. В тот же вечер друзья воспользовались рекомендательным письмом художника В. Д. Поленова и посетили жившую на вилле Ланте Надежду Дмитриевну Хельбиг (урожденную княжну Шаховскую) – жену профессора Вольфганга Хельбига, секретаря Прусского археологического института в Риме. (Н. Д. Хельбиг-Шаховская в свое время занималась музыкой у Ференца Листа, была близко знакома с Л. Н. Толстым и неоднократно бывала в Ясной Поляне. Она уверяла, что именно под воздействием ее игры на фортепьяно писатель создал «Крейцерову сонату» и, кроме того, изобразил ее в «Плодах просвещения» в образе «толстой дамы из-за границы». Н. Д. Хельбиг-Шаховская скончалась в Риме в 1922 г. в возрасте 76 лет и похоронена на кладбище Тестаччо.)
Вилла Ланте, построенная по проекту Джулио Романо в 1523 г., находится на Яникульском холме, с которого открывается великолепный вид на Рим. Волошин описал его в «Дневнике путешествия»:
«На огромном чистом небе стояла луна. Внизу, широко раскинувшись, лежал Рим. Длинная огненная лента показывала течение Тибра. Два ярких электрических огня стояли на Квиринале. Некоторые кварталы тонули во мраке, в других кое-где сверкали огоньки. Направо темнели Альбанские горы, налево на горизонте смутно рисовалась Соракта. Густая зелень виноградников и садов спускалась внизу по склонам холма. Вечный город! Я впервые ощутил его веянье только теперь в этом старинном дворце, чувствуя сонный трепет сияющего города, утопающего в сиянии неподвижно застывшей луны. Дыханье 27 веков, смешанное с легким запахом винограда и переплетенное нитями лунных лучей, поднималось снизу».
15 июля Волошин сочинил в Риме стихотворения «На Форуме» и «Ночь в Колизее».
- Арка, разбитый карниз,
- Своды, колонны и стены…
- Это обломки кулис
- Сломанной сцены.
- Кончена пьеса, ушли
- Хор и актеры. Покрыты
- Траурным слоем земли
- Славные плиты.
- Здесь пьедесталы колонн,
- Там возвышается ростра,
- Где говорил Цицерон
- Плавно, красиво и остро.
- Между разбитых камней
- Ящериц быстрых движенье,
- Зной раскаленных лучей,
- Струны немолчное пенье…
- Зданье на холм поднялось
- Цепью изогнутых линий…
- В кружеве легких мимоз
- Стройные очерки пиний…
- Царственный холм Палатин!
- Дом знаменитый Нерона!
- Сколько блестящих картин,
- Крови, страданий и стона!..
- Смерклось… и Форум молчит…
- Тени проходят другие…
- В воздухе ясном звучит
- «Ave Maria»…
- Спит великан Колизей,
- Смотрится месяц в окошки.
- Тихо меж черных камней
- Крадутся черные кошки.
- Это потомки пантер,
- Скушавших столько народу
- Всем христианам в пример,
- Черни голодной в угоду.
- Всюду меж черных камней
- Черные ходы. Бывало,
- В мраке зловещих ночей
- Сколько здесь львов завывало!!
- Все улетело… и львы
- Все передохли. В окошки
- Смотрится месяц. Средь тьмы
- Крадутся черные кошки.
Об этой ночи в Колизее оставил заметки в «Журнале путешествия» и В. Ищеев:
«Мы спустились к Колизею, почти ощупью перебрались под сводом на арену и сели там в ожидании луны. Полуразрушенные стены Колизея, все изрытые сводами, окнами окружали нас темным грандиозным кольцом. Луна еще не показывалась. Было совершенно темно. Макс стал рассказывать сказку Кенет Греем „Уклончивый Дракон“. Прямо за каменным выступом, на котором мы сидели, чернелся какой-то глубокий проход вниз. Мы ожидали, что оттуда вылезет дракон. Летучие мыши шныряли мимо нас. Иногда пробегали черные кошки, которых почему-то водится громадное количество в Колизее».
20 июля Волошин побывал с друзьями в Тиволи на знаменитой вилле кардинала д' Эсте и оставил следующую запись:
«Ти-во-ли! Тиволи! На склоне горы великолепная заброшенная вилла… Чем-то давно знакомым повеяло от этих старых мраморных лестниц, зацветших плесенью и исчервленных временем, от этих темных аллей, дорожки которых заросли мохом, фонтанов, обросших зеленью, струйки которых весело поют и переливаются на солнце, этих сырых полуобвалившихся гротов, в которых теперь сидят одни большие серые жабы. Все это было когда-то так знакомо по тем наивным прекрасным сказкам о старых замках и очаровательных принцессах, которые так легко гибнут от малейшего дуновения мысли и могут расцветать, как нежные тропические растения, только на благодатной почве детской фантазии».
М. Волошин с друзьями покинул Рим 25 июля 1900 г. Из итальянского порта Бриндизи они переправились в Грецию, где посетили Коринф и Афины, а затем отправились в Константинополь.
В 1902 г. М. Волошин совершил свое третье итальянское путешествие, посетив вместе с драматургом А. И. Косоротовым как уже виденные им места (Милан, Венецию, Неаполь, Рим, Пизу, Геную), так и новые для себя (Корсику, Сардинию, о. Капри).
О римских впечатлениях Волошину всю жизнь напоминала старая записная книжка – «истрепанная, измятая, в черном клеенчатом переплете, покрытая какими-то желтыми пятнами и подтеками… Между ее страницами лежат… кипарисовая ветвь с виллы Адриана, лавровая веточка с могилы Шелли, сорная травка, выросшая между мраморных плит театра Диониса, веточка какого-то вьющегося растения, с очень тонкими вырезанными листочками, которым был обвит старый фонтан на вилле д' Эсте…»
Тема Вечного города навсегда осталась в душе Волошина. В январе 1918 г. в Коктебеле он написал одно из лучших своих стихотворений – «Преосуществление», где сравнил гибель Древнего Рима и старой России. Он верил в возрождение («преосуществление») великой России по аналогии с тем, как на развалинах Древнего Рима сформировалась христианская цивилизация.
- В глухую ночь шестого века,
- Когда был мир и Рим простерт
- Перед лицом германских орд,
- И гот теснил и грабил грека,
- И грудь земли и мрамор плит
- Гудели топотом копыт,
- И лишь монах, писавший «Акты
- Остготских королей», следил
- С высот оснеженной Соракты,
- Как на равнине средь могил
- Бродил огонь и клубы дыма,
- И конницы взметали прах
- На желтых тибрских берегах, —
- В те дни все населенье Рима
- Тотила приказал изгнать.
- И сорок дней был Рим безлюден.
- Лишь зверь бродил средь улиц. Чуден
- Был Вечный Град: ни огнь сглодать,
- Ни варвар стены разобрать
- Его чертогов не успели.
- Он был велик, и пуст, и дик,
- Как первозданный материк.
- В молчанье вещем цепенели,
- Столпившись, как безумный бред,
- Его камней нагроможденья —
- Все вековые отложенья
- Завоеваний и побед:
- Трофеи и обломки тронов,
- Священный Путь, где камень стерт
- Стопами медных легионов
- И торжествующих когорт,
- Водопроводы и аркады,
- Неимоверные громады
- Дворцов и ярусы колонн,
- Сжимая и тесня друг друга,
- Загромождая небосклон
- И горизонт земного круга.
- И в этот безысходный час,
- Когда последний свет погас
- На дне молчанья и забвенья
- И древний Рим исчез во мгле,
- Свершалось преосуществленье
- Всемирной власти на земле:
- Орлиная разжалась лапа,
- И выпал мир. И принял папа
- Державу и престол воздвиг.
- И новый Рим процвел – велик
- И необъятен, как стихия.
- Так семя, дабы прорасти,
- Должно истлеть…
- Истлей, Россия,
- И царством духа расцвети!
Вячеслав Иванович Иванов
Вячеслав Иванович Иванов (28.02.1866, Москва – 16.07.1949, Рим) – поэт, философ, переводчик. Еще во время учебы в Берлинском университете В. И. Иванов попал в близкое окружение профессора Теодора Моммзена – автора знаменитой «Истории Рима» и трудов по римскому праву. После окончания университета (1891) приступил к докторской диссертации об истории римских пошлин и откупов на латинском языке, работая главным образом в библиотеках Парижа и Лондона и долгое время не решаясь ехать в Рим. В 1891 г. в Парижской национальной библиотеке встретил молодого историка Ивана Михайловича Гревса, с которым вскоре подружился. Позднее Иванов написал в своем «Автобиографическом письме» (1917), что именно Гревс «властно указал» ему ехать в Рим, к которому сам Иванов считал себя недостаточно подготовленным:
«Я по сей день благодарен ему ‹Гревсу› за то, что он победил мое упорное сопротивление, проистекавшее от избытка благоговейных чувств к Вечному городу со всем тем, что должно было там открыться. Ни с чем не сравнимы были впечатления этой весенней поездки в Италию через долину разлившейся Роны, через Арль, Ним, Оранж с их древними развалинами, через Марсель, Ментону и Геную. После краткого предварительного пребывания в Риме мы пустились в путь дальше, на Неаполь, и объездили Сицилию, после чего надолго сели в Риме…»
В ту первую поездку 1892 г. в Рим Иванов поселился с женой Дарьей Михайловной Дмитриевской и маленькой дочерью Сашей на Via Castelfidardo недалеко от Porta Pia. Много позже сын В. И. Иванова от третьего брака, Дмитрий Вячеславович Иванов, написал, как он по рассказам отца представлял себе Рим 1892 года (хотя сам увидал его только в 1924-м):
«По городу ездили на дилижансах… Отец жил на виа Кастельфидардо, одной из относительно новых улиц в районе вокзала Термини. Тогда вокзал выглядел не так, как сейчас. Это было еще скромное, маленькое здание. Поблизости – руины, Форум. Не только отец, но и я еще застал стада овец, которые паслись вдоль загородных акведуков и преспокойно входили в город. За стадом обычно тащилась двуколка, влекомая ленивой лошадью. Между колес бежала собачка, а на самой повозке сладко дремал пастух, покуривая время от времени „тосканскую“ сигару. Я прекрасно представляю себе Рим, в котором жил отец в то время…»
Сам Вячеслав Иванов так описал свои первые римские впечатления:
«В новой оболочке, покрывшей старый Рим, многое болезненно неприятно меня поразило. Глаз открывал повсюду много прозы, много безвкусицы. Неожиданно и часто поражал, после Парижа, известный отпечаток провинциальности. И рядом с этим вокруг так много поэтически-своеобразного, неожиданно-живописного… В общем Рим произвел на меня первое впечатление, подобное впечатлению от очень хорошей и очень трудной, серьезной музыки. Еще не успел понять ее и не заметил даже большую часть ее красот, но уже успел полюбить ее, уже угадываешь ее великий смысл и почувствовал в душе еще неопределенное и темное, но уже глубокое и необыкновенное содрогание».
О своем пребывании в Риме 1892–1893 гг. В. И. Иванов писал и в более позднем «Автобиографическом письме»:
«Я посещал германский Археологический институт, участвовал вместе с его питомцами („ragazzi Capitolini“) в обходах древностей, думал только о филологии и археологии и медленно перерабатывал заново, углублял и расширял свою диссертацию, но подолгу обессилевал вследствие изнурявшей меня малярии. Жизнь в Риме привела с собою немало новых знакомств сучеными (вспоминаю, какими они были в ту пору, профессоров Айналова, Крашенинникова, М. Н Сперанского, М. И. Ростовцева, покойных Кирпичникова, Модестова, Редина, Крумбахера, славного Дж. Б. де Росси) и с художниками (братья Сведомские, Риццони, Нестеров, подвижник катакомб – Рейман)…»
Летом 1893 г. в Риме (опять-таки по инициативе Гревса) Иванов познакомился с Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал (в замужестве Шварсалон). Биограф Иванова – О. А. Шор (литературный псевдоним – Ольга Дешарт) пишет:
«Первое свидание состоялось в полдень жаркого июльского дня. Они решили позавтракать вместе. Вячеслав и Лидия выбрали почему-то ресторан на другом конце города и почему-то пошли туда пешком под палящими лучами солнца по расплавленным тротуарам воспаленного Рима. Было радостно. С первых же незначительных слов – какое-то особенное проникновенное понимание, небывалое для обоих. Лишь только Вячеслав и Лидия приблизились друг к другу, между ними пробежала искра, и вспыхнул пожар…»
По-видимому, именно к этому времени относятся некоторые итальянские стихи Иванова, точная датировка которых неизвестна.
Byron
- Great is their love, who love
- In sin and fear.
Байрон
- Велика любовь тех, кто любит
- во грехе и страхе.
- День влажнокудрый досиял,
- Меж туч огонь вечерний сея.
- Вкруг помрачался, вкруг зиял
- Недвижный хаос Колизея.
- Глядели из стихийной тьмы
- Судеб безвременные очи…
- День бурь истомных к праху ночи,
- День алчный провожали мы —
- Меж глыб, чья вечность роковая
- В грехе святилась и крови,
- Дух безнадежный предавая
- Преступным терниям любви,
- Стеснясь, как два листа, что мчит,
- Безвольных, жадный плен свободы,
- Доколь их слившей непогоды
- Вновь легкий вздох не разлучит…
Из-за проблем с разводом В. Иванов и Л. Зиновьева-Аннибал смогли обвенчаться лишь в 1899 г. (в греческой православной церкви в Ливорно; позже там же Иванов сочетается с Верой Шварсалон). После многолетних переездов (Англия, Палестина, Египет, Швейцария, Франция) Ивановы с маленькой дочерью Лидией, родившейся в апреле 1896 г. в Париже, вернулись в 1905 г. в Россию. Их петербургская квартира в угловом выступе-«фонаре» последнего этажа дома по Таврической, № 25, сделалась местом встреч литературно-художественной богемы – знаменитых «ивановских сред на Башне».
Осенью 1907 г. внезапно скончалась Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал. Но, как написал впоследствии Дмитрий Вячеславович,
«внутренняя связь Вячеслава и Лидии не прекращается. Вячеслав часто ходит на могилу и постоянно видит Лидию во сне. Его сны удивительно похожи на видения Данте, которого он переводил и очень любил… Опыт общения с усопшими сопровождал отца всю жизнь, и до, и после смерти Лидии. Он считал, что контакт не прерывается и что мертвые находятся рядом, следят за нами, дают советы, если только мы умеем слышать их голоса… И вот, по мере того как проходят годы, Вячеславу начинает казаться, – потом это перейдет в уверенность, – что Лидия ему каким-то образом вручает Веру ‹дочь от первого брака›, просит, чтобы он женился на ней и продолжил с ее дочерью тот любовный диалог, который начал с ней самой. Лидия, как новая Деметра, – если говорить языком, обычным для Вячеслава, – посылает на землю свою дочь Персефону. Он испуган, взволнован. Лидия, являясь ему во сне, настаивает; Вячеслав и Вера решают соединить свои жизни…»
Летом 1910 г., когда Иванов снова жил в Риме, Вера Шварсалон приехала к нему из Греции, где участвовала в археологических раскопках под руководством известного антиковеда (и многолетнего друга Иванова) профессора Ф. Ф. Зелинского.
О. Шор-Дешарт: «Как и с ее матерью, все решилось в Риме. Вечный Город вернул В. И. его прошлому… В. И. был спокоен: он твердо знал, что его решение соединить свою судьбу с Верою есть не измена Лидии, а верность…»
В июле 1912 г. в г. Невселе (Франция) у Вячеслава и Веры родился сын Дмитрий (ныне – один из патриархов французской журналистики Жан Невсель).
Новое посещение Рима состоялось осенью 1912 г. Вячеслав, Вера, маленький Дмитрий с кормилицей-немкой и дочь Лидия поселились на Piazza del Popolo, № 18, в английском пансионе на углу площади и Via del Babuino. Часть окон выходила на саму площадь Народа (возможно, именно оттуда граф Монте-Кристо наблюдал за сценой казни на площади в романе А. Дюма), другие – в парк Monte Pincio. Co слов родителей Дмитрий писал:
«От нас были видны растущие там сосны, кипарисы, каменные дубы, напоминающие отцу полотна Клода Лоррена, одного из его любимых художников».
Именно в 1912 г. в Риме В. Иванов написал многие разделы своего фундаментального труда о культе Диониса. В те же римские месяцы окрепла дружба Иванова с известным философом Владимиром Францевичем Эрном, продолжавшаяся до смерти Эрна в 1917 г.
Л. В. Иванова: «В Риме каждый день аккуратно после завтрака, часа в два являлся к нам Эрн, и начинались между ним и Вячеславом интереснейшие дискуссии, длившиеся до вечера. Главной темой римских разговоров была апология католичества со стороны моего отца, апология православия со стороны Эрна».
Большим другом и частым гостем семьи Ивановых стал и писатель Павел Павлович Муратов, уже выпустивший к тому времени первое двухтомное издание своих знаменитых «Образов Италии», многие главы которых посвящены Риму. Осенью 1913 г. семья Ивановых переехала в Москву.
В Рим Иванов вернулся уже после революции – в 1924 г. За четыре года до этого в возрасте тридцати лет умерла от туберкулеза Вера Константиновна Иванова-Шварсалон. Летом 1924 г. Иванову (преподававшему в начале 20-х годов в Бакинском университете) удалось получить разрешение на выезд в Италию. Формально – на международную выставку в Венеции, фактически – на бессрочную эмиграцию. Иванов не скрывал своего намерения поселиться в Италии окончательно. «Я еду умирать в Рим», – говорил он близким друзьям.
Д. В. Иванов: «Путешествие было не без сюрреалистических деталей. С нами в купе ехала грациозная карлица, которую мой отец на ночь аккуратно поднимал и укладывал в сетку для багажа. Жил с нами в поезде и громадный, к счастью благодушный, сенбернар. Мой отец, несмотря на принадлежность собак к миру загробному, с ним, однако, дружил. Карлица и сенбернар были членами цирковой труппы, ехавшей на гастроли».
После нескольких дней, проведенных в Венеции, Ивановы в сентябре 1924 г. поселились в Риме, в пансионе Рубенс на Via Belsiana, где в то время жили некоторые сотрудники советского посольства. В своих мемуарах Лидия Иванова рассказывает курьезную историю:
«Как-то к одному из них ‹советских служащих› приехала после короткой побывки в России жена. „Ну как там?“ – „Озоном подышала, душу отвела“. Вот как устроен свет! Ей там озон. А нам кажется, что озон в Риме!»
Вскоре Ивановы переселились на Via delle Quattro Fontane, № 172 (в нескольких минутах ходьбы от знаменитого дома Гоголя на соседней Via Sistina). Дом с небольшими балкончиками на верхних этажах, где поселились Ивановы (он сохранился), находился совсем рядом со старым палаццо сенатора Т. Титтони – известным в Риме особняком на Via Rasella, № 115 (построенным семейством Гримани в XVII в.), где в те годы дуче Бенито Муссолини снимал для себя и своей семьи квартиру.
Д. Иванов: «У нашего дома и дома, где жил Муссолини, был общий внутренний двор. На него выходили окна наших меблированных комнат, а с противоположной стороны окна кухни Муссолини. Со двора мы могли взглянуть только на кухарку, но, выходя на улицу случалось видеть и его самого. Машина его везла через ту же виа Систина в парк виллы Боргезе. Туда, удалив простых посетителей, привозили специального коня для дуче, и там он ранним утром занимался спортом. Потом возвращался домой и, переодевшись, ехал в Палаццо Киджи, в центре Рима, где в ту эпоху находился кабинет».
Квартира на улице Четырех Фонтанов станет первым знаменитым адресом Вяч. Иванова в Риме (здесь, в частности, будет написан цикл «Римские сонеты»).
Л. Иванова: «Два шага от пьяцца Барберини с ее поросшим мохом и тиною Тритоном… Дом был старый, со стенами, украшенными орнаментальными фресками, черными на белом. Внизу следила за входящими швейцариха-ябедница. (Позже она обвиняла Мейерхольда в аморальности за то, что он целовался на лестнице со своей супругой Зинаидой Райх.) Лестница была благообразная, хотя скромная. Подниматься нужно было пешком на пятый этаж и звонить в дверь с медной дощечкой, где значилось: Maria Placidi… Она впускала нас в крошечную переднюю, затем в коридорчик, заставленный по обеим сторонам сундуками, корзинами, всяким скарбом, потом в маленькую крохотную комнату, которая служила ей и ее сыну столовой и где внутри буфета, среди стаканов и графинчиков, сидел большой белый и злой кот. Наконец она доводила нас до нашего жилища. Оно состояло из трех комнат. Первая, проходная, была вся занята большим обеденным столом. Сбоку были втиснуты: с одной стороны – выцветший красный бархатный диванчик, а с другой – трюмо с большим зеркалом. Окно выходило во дворик дома шотландских семинаристов… Из этой комнаты можно было пройти налево – к Вячеславу, направо – к нам с Димой. У нас, кроме двух кроватей, помещался большой и чрезвычайно старый рояль, взятый мною напрокат… Стряпала г-жа Плачиди вкусно. Обед, по требованию Вячеслава, был всегда тот же самый: fettuccine (плоские макароны) со сливочным маслом и пармезаном, бифштекс с салатом и картошкой, кофе. Кофе у нее не был блестящий: она его оставляла в кофейнике в горячей золе и предоставляла ему тихо кипеть часами со всей гущей. Стряпала она на деревянных углях, которые раздувала посредством веера из петушиных перьев…»
Эту маленькую комнату на Via delle Quattro Fontane описал и сам Вяч. Иванов в римском дневнике 1924 г.:
«Мне хорошо и уютно в моей комнатке, которая представляется мне порою то каютой, то отдельным купе вагона – и тогда чувство Bien-tre'a ‹благости – фр.› еще острее. В Баку я четыре года не имел такой милой scrivania ‹письменный стол – итал.›, располагающей к писанию. Забываю, что окно – дверь в пространство, огражденное балконной решеткой…»
(Стоит добавить, что прямо напротив дома Ивановых на улице Четырех Фонтанов находится дом № 9а, в котором в 1846 г. жил в Риме Якоб Буркхардт, автор фундаментального труда «Культура Италии в эпоху Возрождения».)
В те месяцы в Риме Иванов много занимался в Национальной библиотеке, с радостью ходил по знакомым местам. «Нагулял себе, – пишет он в „Дневнике“ от 5 декабря 1924 г., – запас римского счастья». Так осенью – зимой 1924 г. родились знаменитые «Римские сонеты» – приветствие Вечному городу от лица «нового Энея», спасшегося из сгоревшей и разрушенной Трои-России:
- Вновь, арок древних верный пилигрим,
- В мой оздний час вечерним «Ave, Roma»
- Приветствую, как свод родного дома,
- Тебя, скитаний пристань, вечный Рим.
- Мы Трою предков пламени дарим;
- Дробятся оси колесниц меж грома
- И фурий мирового ипподрома:
- Ты, царь путей, глядишь, как мы горим.
- И ты пылал и восставал из пепла,
- И памятливая голубизна
- Твоих небес глубоких не ослепла.
- И помнит, в ласке золотого сна,
- Твой вратарь кипарис, как Троя крепла,
- Когда лежала Троя сожжена.
- Окаменев под чарами журчанья
- Бегущих струй за полные края,
- Лежит полузатоплена ладья;
- К ней девушек с цветами шлет Кампанья.
- И лестница, переступая зданья,
- Широкий путь узорами двоя,
- Несет в лазурь двух башен острия
- И обелиск над площадью ди Спанья.
- Люблю домов оранжевый загар,
- И людные меж старых стен теснины,
- И шорох пальм на ней в полдневный жар;
- А ночью темной вздохи каватины
- И под аккорды бархатных гитар
- Бродячей стрекотанье мандолины.
- Двустворку на хвостах клубок дельфиний
- Разверстой вынес; в ней растет Тритон,
- Трубит в улиту; но не зычный тон —
- Струя лучом пронзает воздух синий.
- Средь зноя плит, зовущих облак пиний,
- Как зелен мха на демоне хитон!
- С природой схож резца старинный сон
- Стихийною причудливостью линий.
- Бернини, – снова наш, твоей игрой
- Я веселюсь, от Четырех Фонтанов
- Бредя на Пинчьо памятной горой,
- Где в келью Гоголя входил Иванов,
- Где Пиранези огненной иглой
- Пел Рима грусть и зодчество Титанов.
- Через плечо слагая черепах,
- Горбатых пленниц, на мель плоской вазы,
- Где брызжутся на воле водолазы,
- Забыв, неповоротливые, страх, —
- Танцуют отроки на головах
- Курносых чудищ. Дивны их проказы:
- Под их пятой уроды пучеглазы
- Из круглой пасти прыщут водный прах.
- Их четверо резвятся на дельфинах.
- На бронзовых то голенях, то спинах
- Лоснится дня зелено-зыбкий смех.
- И в этой неге лени и приволий
- Твоих ловлю я праздничных утех,
- Твоих, Лоренцо, эхо меланхолий.
- Весть мощных вод и в веянье прохлады
- Послышится, и в их растущем реве.
- Иди на гул: раздвинутся громады,
- Сверкнет царица водометов, Треви.
- Сребром с палат посыплются каскады;
- Морские корни прянут в светлом гневе;
- Из скал богини выйдут, гостье рады,
- И сам Нептун навстречу Влаге-Деве.
- О, сколько раз, беглец невольный Рима,
- С молитвой о возврате в час потребный
- Я за плечо бросал в тебя монеты!
- Свершались договорные обеты:
- Счастливого, как днесь, фонтан волшебный,
- Ты возвращал святыням пилигрима.
В начале своей римской жизни Ивановы посещали православную церковь, находившуюся тогда в помещении посольства (бывшего русского, потом – советского) в палаццо Менотти на Piazza Cavour. Это был в то время центр всех православных в Риме – церковь посещала, в частности, греческая королева Ольга Константиновна из дома Романовых (скончалась в Риме в 1926 г.). Русская православная колония в Риме, состоявшая тогда в основном из старых аристократов-монархистов, встретила пришельцев из Советской России, формально сохраняющих советское гражданство, неприязненно.
Л. Иванова: «Когда мы втроем в первый раз старались пробраться через маленькую толпу прихожан, мы слышали шепот – явно достаточно громкий, однако, чтобы донестись до наших ушей: „Сколько теперь советской сволочи понабралось!“»
Однако очень скоро у Ивановых установились самые добрые отношения с настоятелем римского прихода архимандритом Симеоном (в миру Сергеем Григорьевичем Нарбековым; умер в 1969 г. и похоронен на римском кладбище Тестаччо).
В Риме Лидия Иванова, уже окончившая курс Московской консерватории по фортепьяно у А. Б. Гольденвейзера, продолжила занятия музыкальной композицией в консерватории «Санта Чечилия»; в 1926 г. она получила диплом по композиции, в 1927 г. – по органу и после приобретения итальянского подданства стала преподавателем музыки и хорового пения, успешно занималась композицией. Дмитрий учился во французском «Лицее Шатобриана» у Porta Pia (куда он добирался двадцать минут пешком или на трамвае), а затем в Швейцарии и Франции.
В августе 1925 г. римскую квартиру Ивановых на Via delle Quattro Fontane посетили официально выехавшие в Европу для знакомства с зарубежными театрами Всеволод Мейерхольд и Зинаида Райх. Д. Иванов вспоминал о совместных прогулках по муссолиниевскому Риму:
«По вечерам юноши в черных фесках заседали в маленьких тратториях, закусывали пиццей и пели патриотические песни. Их живописно-опереточный вид пугал навестившего нас в Риме Мейерхольда. Мы вместе с ним и Зинаидой Райх, его женой, направлялись в какой-нибудь скромный ресторанчик. Но если, приоткрывая дверь, Мейерхольд вдруг замечал черные фески и слышал горланящего тенора, он спешно уводил нас и, хватая отца за плечи, говорил драматическим шепотом, долго замирая на „и“ и на „ы“: „Вячеслав, фашисты!“»
В 1926 г. Вяч. Иванов принял католичество (восточного обряда).
О. Шор-Дешарт: «В День Св. Вячеслава в России (4/17 марта) – В. И. пред алтарем Св. Вячеслава в римском соборе Св. Петра прочел формулу присоединения к католической Церкви (не обычную, а особую, составленную Владимиром Соловьевым) и затем в капелле над могилою Апостола, отстояв церковно-славянскую обедню, причастился по-православному под двумя видами. На душе было спокойно и радостно: он „в первый раз почувствовал себя православным в полном смысле этого слова“, в первый раз задышал полною грудью, обоими легкими; ему уже давно, задолго до той поры казалось, что он лишен одного и задыхается. Соединяя в своем лице православие с католичеством, он не сомневался, что исполняет не только свой личный долг, но и долг своей родины, послушествуя назревшей, хотя и неосознанной тайной воле народа своего к Единению».
Осенью 1926 г., по приглашению Леопольда Рибольди, ректора Collegio Borromeo в Павии, В. И. Иванов стал профессором новых языков и литератур в местном университетском колледже. После отъезда отца в Павию Лидия и Дмитрий сняли две комнаты по новому адресу – Via Bocca di Leone, № 50 (на углу Via della Сгосе). Здесь потом подолгу жил и Вяч. Иванов, когда на каникулярные летние месяцы приезжал в Рим.
Л. Иванова: «Самый дорогой для памяти адрес был на Бокка ди Леоне у синьоры Сантарелли. Она была замечательно добрая женщина, сестра милосердия по профессии. И сдавала меблированные комнаты на крыше пятиэтажного дома. Комнаты представляли собой легкую надстройку (зимой – мороз, летом – жара) и выходили на обширнейшую террасу, господствовавшую над всем кварталом. Вокруг лес черепичных крыш. Эта квартира памятна тем, что в ней Вячеслав начал писать повесть о Светомире-царевиче…»
(Дом на перекрестке виа Бокка ди Леоне и виа делла Кроче сохранился, но надстройка на крыше, где жили Ивановы, была позднее снесена.)
В 1927 г. в Рим приехала верный друг семьи Ивановых, Ольга Александровна Шор (семейное прозвище – Фламинго).
«Страстью, которая ее не покинула до конца жизни, – писала об О. Шор Лидия Иванова, – был Микель-Анджело. Интерес, любовь к нему появилась с ранних лет… Позже тема Микель-Анджело у Ольги Александровны вошла в общие философские размышления о проблемах творчества. Но, помимо чисто философского подхода к этой теме, она все время изучала и жизнь, и создания Микель-Анджело. Она, например, основательно изучила процесс построения Капитолийской площади и пришла к чрезвычайно интересным выводам… Но просто человеческая нежность к своему „Мишеньке“ у Ольги Александровны никогда не прекращалась…»
В конце 20-х – начале 30-х годов Вячеславу Иванову, Лидии, Дмитрию и Фламинго пришлось переменить много адресов в Риме. Когда в 1935 г. Ивановы принимали итальянское гражданство, среди прочих формальностей они должны были перечислить все римские адреса, где они прожили в течение десяти лет, – их оказалось более пятнадцати!
Л. Иванова: «Сколько пансионов и меблированных комнат!.. Как-то раз приезжаю в Рим из Швейцарии. Вячеслав и Фламинго меня встречают радостно и сообщают: „Мы нашли замечательный пансион на Корсо. Пятый этаж. Вид на Рим, Сан-Пьетро, атмосфера очень изысканная, щепетильная. Его клиенты почти все „подеста“ (городничие) разных южных городов. Там особенно соблюдают тонкие, немного церемонные манеры, и при этом пансион стоит очень дешево“. Мы там поселились. Выяснилась очень быстро вся наивность Вячеслава и Фламинги. Клиенты изысканного пансиона были действительно подеста из провинции, но они только наезжали на известный срок в Рим, а комнаты были заняты их подружками… Одно время мы поселились в пансионе на самой площади Колонна, в Палаццо Мариньоли. Нас пленил блеск этого адреса. Чтобы слышать голос или, вернее, крик собеседника, там нужно было летом наглухо закрывать окна; а в Риме летом закрытые окна – ад. Хозяева пансиона были тихие, кроткие, старенькие супруги, типа старосветских помещиков. Ранним вечером они в опрятных ночных туалетах ложились рядышком в свою постель и спали с открытой настежь дверью, освещенные мягкими лучами ночной лампочки. Их видели, но зато они были спокойны, что наблюдали за движениями клиентов в доме…»
Среди других адресов Ивановых в Риме известны: пансион на Via Condotti («Из окна нашей спальни не видно было ничего, кроме раскаленных ступеней бесконечной лестницы, поднимающейся от пьяцца ди Спанья к Тринита деи Монти»); дешевая комната на Via Julia («Там, поднявшись по остро вонючей лестнице, человек попадал в райскую комнату с окнами на Тибр, около Понте Систо»); меблированные комнаты на Via Avrora, № 39, и Via Gregoriana («Это была последняя наша резиденция в меблированных комнатах»)…
Наконец, в начале 1936 г. Вяч. Иванов, Лидия и О. Шор поселяются в отдельной квартире по еще одному ставшему знаменитым адресу – на Via Monte Тагрео на Капитолийском холме рядом с Palazzo Conservatori.
О. Шор-Дешарт: «От скитания по чужим комнатам и маленьким пансионам В. И. начал заметно уставать. Он решил снять квартиру и, наконец, начать жить семейно, своим домом. Нашлось, точно по волшебству, жилище на самом Капитолии, с видом, даже и для Рима совершенно исключительным по красоте и грандиозности…»
Л. Иванова: «Во время поиска квартиры, очутившись как-то на вершине Капитолийского холма, мы увидели с Фламингой на улице Монте Тарпео открытый настежь подъезд четырехэтажного старого, очень неказистого дома. За подъездом, через очень длинный и узкий проход, издали напоминающий подзорную трубу, виднелся прорыв в изумительную панораму древнего Рима… Из подъезда тесный внутренний проход провел нас к открытой входной двери квартиры. Мы прошли в главную комнату, мимо кухни (налево), крошечной комнатки с решетчатым окном, увитым хмелем (направо). В главной комнате направо и налево двери двух боковых комнат. А прямо перед нами распахнутая оконная дверь. Вид из нее: прямо и справа – Палатин, слева – Форум, открытый до самого Колизея. Причем, так как дом Монте Тарпео находится на возвышении Капитолийского холма, между ним и древним Римом не виднеется ни одной новой постройки. Оконная дверь выходит на длинную железную лестницу; она спускается в садик. Волшебный садик! Маленький бассейн с красными рыбками, деревья с золотыми шарами, всевозможные фрукты. Под лесенкой в стене огромный бюст Моисея, частичный гипсовый слепок со знаменитой статуи Микель-Анджело. Сбоку восьмидесятилетняя глициния, с годами превратившаяся в целое дерево; ее душистые цветущие ветви обвивают доверху всю стену четырехэтажного дома. Садик обрывается высокой городской стеной, обрамляющей Капитолий… Излишне говорить, что мы с Фламингой сразу в квартиру влюбились…»
Итак, левая боковая комната с видом на Форум была занята Вячеславом; правая («с видом на густую глицинию») – Лидией; Фламинго поместилась в маленькой комнате с решетчатым окном. Главная, центральная комната сделалась столовой и гостиной одновременно; в ней стоял большой диван (на котором сидели многие мировые знаменитости), в углу – чугунная печка, а остальное пространство занимал большой обеденный стол. В хорошую погоду стеклянная дверь на балкон была открыта, и прямо перед глазами возвышался Палатин…
- Журчливый садик, и за ним
- Твои нагие мощи, Рим!
- В нем лавр, смоковница и розы,
- И в гроздиях тяжелых лозы.
- Над ним, меж книг, единый сон
- Двух сливших за рекой времен
- Две памяти молитв созвучных, —
- Двух спутников, двух неразлучных…
- Сквозь сон эфирный лицезрим
- Твои нагие мощи, Рим!
- А струйки, в зарослях играя,
- Поют свой сон земного рая.
Гостями квартиры на Тарпейской скале (в которой Иванов прожил до осени 1939 г. и которая напоминала ему его петербургскую «Башню» на Таврической) были Иван Бунин, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Фаддей Зелинский и др. З. Гиппиус в парижском очерке «Поэт и Тарпейская скала» вспоминала о своем (вместе с Д. Мережковским) визите к Вяч. Иванову в 1937 г.:
«В Риме, по сравнению с Парижем, все „рукой подать“. Далеко ли от нас, от виллы Боргезе, до Тарпейской скалы? Мы идем пешком… С крутой улочки в дом, где живет В. И., нет ни одной ступени. Но старые дома на Тарпейской скале – с неожиданностями. Если, через переднюю и крошечную столовую, пройти в стеклянную дверь на балкончик, там – провал; и длиннейшая, по наружной стене, лестница: шаткая, коленчатая, со сквозными ступенями, похожая на пожарную. Она ведет в темный густой садик… Много ль в Париже людей, хорошо помнящих знаменитую петербургскую „башню“ на Таврической и ее хозяина? Теперь все изменилось. Вместо „башни“ – Тарпейская скала и „нагие мощи“ Рима. Вместо шумной толпы новейших поэтов – за круглым чайным столом сидит какой-нибудь молодой семинарист в черной рясе или итальянский ученый. Иные удостаиваются „а партэ“ в узком, заставленном книгами, кабинете хозяина… Все изменилось вокруг – а он сам? Так ли уж изменился? Правда, он теперь католик; но эта перемена в нем мало чувствуется. Правда, золотых кудрей уже нет; но, седовласый, он стал больше походить на греческого мудреца (или на старого немецкого философа). У него те же мягкие, чрезвычайно мягкие любезные манеры, такие же внимательные, живые глаза. И – обстоятельный отклик на всё…»
В середине 30-х годов Вяч. Иванов начал преподавать церковно-славянский язык и русскую литературу в Папском восточном институте, профессором которого он оставался до конца жизни, и в русской семинарии восточного обряда – Руссикуме. Ему, в частности, было поручен перевод на русский язык и составление комментариев к ряду канонических церковных текстов для католиков восточного обряда. Большим событием в жизни Иванова в Риме была аудиенция у Папы Римского Пия XI, которую он получил в мае 1938 г.
В конце 1939 г. Муссолини решил возвратить Капитолийскому холму его старинный вид – времен Микеланджело – и снести весь квартал вместе с домами по Via Monte Тагрео. Найти новую квартиру помогла Татьяна Львовна Толстая, дочь Льва Николаевича. В эту квартиру на Via Leon Battista Alberti, № 5 (сегодня – № 25) семья Ивановых переселилась в начале января 1940 г.
Л. Иванова: «Улица наша находится в районе так называемого Малого Авентина. Его называют также районом Святого Саввы, по имени базилики Сан-Саба – его приходской церкви. Снаружи квартал огорожен высокой древнеримской, Аврелиановских времен, стеной. Окраска стены багряно-розовая. На другую сторону можно проникнуть через монументальные, а в средние века и укрепленные ворота. Эти стены были границей древнего города. Теперь за ними бесконечные новые построения. Малый Авентин, когда мы въехали в него, только начинал заселяться. Почти все новые строения вырастали вокруг древней базилики. Наш дом выходил передним фасадом на улицу Альберти, а задним на пустыри. Оттуда невероятный по красоте и широте обзора вид: на первом плане виноградники, за ними кипарисы, пинии и древняя церковь, также по форме базилика, – Санта Бальбина, направо – грандиозные развалины Терм Каракаллы; далее через парк виллы Челимонтана, кружевной мрамор базилики Сан-Джиованни с взлетающим вверх обелиском (Вячеслав его называет иглой Тутмеса). Все это кончается широкой полосой римской Кампаньи, окаймленной далекими голубыми горами. Там возвышается Сан-Дженнаро, по облику которого люди стараются предугадывать перемены погоды… На пустыре перед домом растут подсолнухи и тростник, посередине – колодец… Балкончик комнаты Вячеслава был обращен на запад. Взгляд с него падал вдоль улицы Леона Баттисты Альберти на ряд новых невысоких домов, где итальянские хозяйки развешивали для сушки свое пестрое белье. Через крыши этих домов виднелся купол Святого Петра».
Здесь, на Авентинском холме, Вяч. И. Иванов прожил последние плодотворные десять лет своей жизни.
О. Шор-Дешарт: «Сидя за своим письменным столом, перед стеклянной дверью балкончика, В. И. видел на фоне бесконечного неба пальмы садов, окружавших небольшие виллы, террасы, увешанные вымытым бельем, милые черепичные крыши, а за ними, вдали – то серебристый, то синий купол Св. Петра, венчающий город. А из окон других комнат открывались просторы: за монументальными и живописными развалинами терм и за древнейшим египетским обелиском – в одну сторону подымалась красавица вершина Св. Дженнара, а в другую расстилалась вся цепь Альбанских гор…»
- Сквозит из рощ Челимонтана.
- За Каракалловой стеной
- Ковчег белеет Латерана
- С иглой Тутмеса выписной…
- Пусть на закат простор застроен, —
- Все ж из-за кровель и белья
- Я видеть Купол удостоен…
В квартире на Малом Авентине Вяч. Иванов прожил и драматические годы второй мировой войны. 1944 год, особенно трагический для Италии – с немецкой оккупацией, бомбежками (бомба разрушила, например, любимую и почитаемую Ивановым базилику Сан-Лоренцо), последующим захватом Рима союзными войсками и т. д., стал, однако, для него самым плодотворным в поэтическом отношении. Сто четырнадцать (!) стихотворений, во многом носящих дневниково-биографический характер, составили знаменитый «Римский дневник 1944 года»:
- Опушилися мимозы,
- Вспухли почки миндалей,
- Провожая Водолей.
- А свирепых жорл угрозы
- Громогласней и наглей.
- За грядой олив грохочет
- Дальнобойная пальба.
- Вся земля воскреснуть хочет;
- Силе жизни гробы прочит
- Мертвой силы похвальба,
- Когда б не развязались чресла,
- Колено не изнемогло,
- Отдохновительные кресла
- Я променял бы на седло.
- Когда бы взбалмошную старость
- Хранительный не прятал кров,
- Мой вольный бег делил бы ярость
- Голубоглазую ветров.
- Теперь же мне одно осталось:
- Невидимым, как дух иль тать,
- Скитаньем обманув усталость,
- С вожатой-Музою – мечтать.
- Европа – утра хмурый холод,
- И хмурь содвинутых бровей,
- И в серой мгле Циклопов молот,
- И тень готических церквей.
- Россия – рельсовый широкий
- По снегу путь, мешки, узлы;
- На странничьей тропе далекой
- Вериги или кандалы.
- Земля – седые океаны
- Игорных белизна костей,
- И – как расползшиеся раны
- По телу – города людей.
- Вечный город! Снова танки,
- Хоть и дружеские ныне,
- У дверей твоей святыни,
- И на стогнах древних янки
- Пьянствуют, и полнит рынки
- Клект гортанный мусульмана,
- И шотландские волынки
- Под столпом дудят Траяна.
- Волей неба сокровенной
- Так, на клич мирской тревоги,
- Все ведут в тебя дороги,
- Средоточие вселенной!
После войны квартиру Вячеслава Иванова на Via Leon Battista Alberti посещали такие мировые знаменитости, как писатель Торнтон Уайлдер, философы Жак Маритен, Габриель Марсель, Исайя Берлин. За несколько недель до смерти Иванова к нему на Авентин приезжал из Франции русский писатель и большой знаток Рима Борис Константинович Зайцев (они с женой были тогда в Риме всего один день).
Зайцев: «Да, это был всего один день! Мы успели побывать в Ватикане, а после завтрака в кабачке у берниниевской колоннады поехали к Вячеславу Иванову на Авентин.
Авентин моей молодости был еще таинственно-поэтическим местом Рима… Тут жили некогда родители Алексея Человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность, и сюда вернулся неузнанным. Теперь известный поэт, столп русского символизма, доживал дни свои на этом холме. И вот в Страстную Пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что повстречались в Ватикане, мы поднялись в четвертый этаж современного безличного дома и позвонили в квартиру Вячеслава Иванова. Время есть время. Но и Вячеслав Иванов есть Вячеслав Иванов. Да, он изменился, конечно, оба мы не такие, как были некогда на Арбате или в Петербурге на „башне“; все же в этом слабом, но „значительном“ старце в ермолочке, с трудом поднявшемся с кресла, был и настоящий Вячеслав Иванов, пусть с добавлением позднего Тютчева…»
Лидия Вячеславовна Иванова вспоминала о последних годах отца в Риме:
«В последние годы Вячеслав становился все светлее, гармоничнее, проще. Он радовался всякому проявлению жизни: солнцу, Риму, ласковому движению, веселью и юмору… Вячеслав неизменно любил Рим и наслаждался им. Ничто его не пугало. Летом, когда жители только и мечтают выехать из раскаленного города, он предпочитал морю крошечную терраску свою, откуда в начале нашего пребывания видел купол Святого Петра и куда можно было с трудом вдвинуть два стула…»
Начиная с 1928 г. и до последних дней Вяч. Иванов работал в Риме над объемным философским романом «Повесть о Светомире-царевиче», в котором он в религиозно-мистической форме говорил о христианском спасении России и человечества (этот роман впоследствии – после пятнадцати лет труда – завершила О. А. Шор).
Вяч. И. Иванов скончался в Риме 16 июля 1949 г. в возрасте восьмидесяти трех лет. Отпевание состоялось в церкви Святого Антония – католической церкви восточного обряда недалеко от Восточного института и Руссикума, где Иванов преподавал. Гроб провезли на запряженном лошадью катафалке по маршруту, по которому Иванов многие годы ходил или ездил на фиакре: мимо Терм Каракаллы, Колизея, по Колле Оппио, до базилики Санта Мария Маджоре и церкви Святого Антония, прихожанином которой Иванов являлся. Похороны состоялись на римском кладбище Верано в склепе для профессоров Восточного института.
В той же квартире на Авентине жила до своей смерти в 1978 г. О. А. Шор. Лидия Вячеславовна Иванова скончалась здесь же 6 июля 1985 г. Она была похоронена в семейной могиле Зиновьевых на так называемом «акатолическом» кладбище Тестаччо. Здесь в 1931 г. был похоронен умерший в Риме брат ее матери, Лидии Зиновьевой-Аннибал, Александр Дмитриевич Зиновьев – в свое время Санкт-Петербургский губернатор и шталмейстер Императорского двора. Тогда же, в 1985 г., в усыпальницу Зиновьевых на кладбище Тестаччо был перенесен и прах Вячеслава Ивановича Иванова. (Могила Зиновьевых-Ивановых находится во «втором квадрате» самой дальней от входа – «третьей зоны» кладбища.) В конце 1985 г. дом на Via Leon Battista Alberti был перепродан и жильцы выселены (за два года до этого римский муниципалитет установил на доме мемориальную доску). Дмитрий Вячеславович Иванов нашел на соседней улице – Via Ercole Rosa, № 8 – квартиру, похожую на отцовскую, с тем же видом из окна. В этой квартире восстановлен кабинет Вяч. И. Иванова, находится его библиотека и часть архива.
Вячеслав Иванов не первый мыслитель и не первый поэт, для которого вечный Рим стал пристанью скитаний; их было много. Но не для многих из них духовный возврат в Рим был одновременно и восходом на вершину их творчества. Тайну нового расцвета поэтического дара Иванова под сводами «родного дома» сейчас еще не время разгадывать. Тем не менее невольно задумываешься над тем, что в «Cor ardens» поэт с благодарностью вспоминает о римском Колизее, впервые напоившем его диким хмелем свободы и благословившем этот хмель.
Дионисийская тема ранних стихов Иванова, тема предвечного хаоса в лоне природы и в глубине человеческого сердца, вакхическая тема «размыкающих душу подземных флейт», явно связана с Римом. Быть может, в этом двойном значении Рима для поэта Иванова, в изначальной раздвоенности души поэта между Римом Колизея и Римом купола Святого Петра надо искать объяснение тому, почему «Римские сонеты», воспевающие успокоение поэта в Риме, волнуют нас юношеской силой таланта и совершеннейшей красотой. Как знать, если бы место отрешения, в гетевском смысле этого слова, не было бы одновременно и местом поклонения прошлому, возникли бы тогда из искуса длительного ивановского молчания столь совершенные стихи, какими являются «Римские сонеты».
Ф. А. Степун. Вячеслав Иванов // Современные записки. Париж, 1936, кн. LXII.
Михаил Андреевич Осоргин
Михаил Андреевич Осоргин (настоящая фамилия – Ильин; 19.10.1878, Пермь – 27.11.1942, Шабри, Франция) – прозаик, эссеист, журналист, переводчик. После учебы на юридическом факультете Московского университета, которую совмещал с работой репортером в либеральных «Московских новостях», занимался адвокатской практикой. Вступил в партию эсеров, примыкал к ее максималистскому крылу, был арестован. Выпущенный под залог, бежал в Италию, где в декабре 1906 г. поселился в местечке Сори, недалеко от Генуи. В 1908 г. переехал в Рим, где стал корреспондентом «Русских ведомостей», «Вестника Европы» и других либерально-демократических русских изданий. За несколько лет приобрел большую популярность у читателя в России; из более чем четырехсот итальянских корреспонденций наиболее значительными он считал серии статей о громких судебных процессах в Риме, об итало-турецкой войне, Балканской войне 1912 г., о современной итальянской литературе, искусстве, театре.
В 1908 г. поселился в Риме в чиновно-мещанском квартале в районе Prati di Castello, недалеко от Ватикана и замка Св. Ангела. Жил, как он сам писал, «на студенческом положении, в одной комнате, имея при себе лишь два-три десятка книг, связку рукописей и газетных вырезок, любимую старую чернильницу, пишущую машинку». В мемуарных эссе об Италии под названием «Там, где был счастлив» (1916) подробно описал свое первое римское жилище в итальянской семье, где прожил пять лет:
«Сто двадцать пять ступеней ведут на пятый, а по-нашему – шестой этаж доходного дома в новой части Рима. Когда-то эта местность представляла собою ряд огородов; я застал еще половину ее незастроенной и, можно сказать, из своего окна видел, как умирали огороды, сменяясь сначала площадками для игры в „бочче“ (шары), затем (или вместе с тем) уличными брадобрейнями об одну бритву и одну гребенку и наконец уступив место огромным многоэтажным однообразным кубам, строенным наскоро, в два кирпича, без всяких архитектурных вычур, с одним расчетом – возможно сэкономить место, накроив побольше квартир и украв у будущих квартирантов побольше воздуха и солнечного света… В то время гиганты-дома еще не закрывали от меня вида на Яникульский холм, на Ватикан и на Монте Марио с Вилла Мадама и со станцией беспроволочного телеграфа. Небо отсюда казалось близким, пыль долетала в терпимой дозе, шум трамваев позволял не уноситься мыслям слишком далеко от земли. Впрочем, ночью шум смолкал, и тогда мысль вновь получала свободу полета. Но она мало пользовалась своей свободой; она добровольно замыкала себя в круг, обрисованный на столе светом керосиновой лампы; в те дни хотелось и умелось работать… Из России и из книжных магазинов плыли книги, на стенах появились большие фотографии полюбившейся античной скульптуры и эскизы знакомых художников, гардероб, из уважения к столице, пришлось пополнить, старая чернильница перестала нравиться, для машинки потребовался специальный столик. Опасное обрастание инвентарем, так часто ведущее к гибельной оседлости, неумолимо шло вперед и скоро сору Карло пришлось лишиться маленькой комнаты, где он после обеда читал газеты; эта комната стала моей спальней. Позже отошла ко мне еще одна комната, обычно отдававшаяся понедельно ватиканским пилигримам, – благо жили мы на расстоянии одной площади от папского государства, так что Лев XIII, а позже Пий X могли при желании видеть из окон Ватикана в простой театральный бинокль, что готовит сегодня к обеду сор Серафино. Правда, можно было и без этого заранее сказать, что готовит он пасташюту с помидорной подливкой».
В течение многих лет Осоргин обедал в одном и том же кабачке «Piccolo Uomo» («Маленький Человек») у набережной Тибра, на углу Via Monte Brianzo и Vicolo del Cancello, рядом с церковью Santa Lucia della Tinta и старинной гостиницей «Медведь» («Osteria dell'Orso»), где останавливались Данте, Рабле и Монтень.
Осоргин: «Весной и летом во дворике, под виноградным навесом, а зимой – от хозяйской стойки налево второй стол. Там без прочных традиций нельзя, не вкусно; фашизма еще не было. Многого тогда еще не было. Войны были маленькими, революции кончались впустую. Жизнь без особых катастроф, но все-таки любопытная. Очень старательно накапливалась духовная культура, сейчас повсюду пускаемая по ветру (как паутина в бабье лето). Крику меньше было, героем почитался тот, кто боролся за отечество, а не против своих сограждан. Еще в почете были имена Маццини и Гарибальди, а Муссолини был только социалистом и редактором плохонького „Аванти“… Жить было, в общем, покойно, и на два сольди покупался десяток папирос „пополяри“… По-русски „кабачок“ звучит далеко не поэтически. Чуется в этом слове пивной, сивушный или махорочный дух, грязь лохмотьев и висящая в воздухе брань… Римский кабачок – нечто совсем особенное, нам незнакомое. Добрый хозяин любовно содержит его в чистоте, не жалея скатертей, пусть заплатанных, но все же чистых, и украшая его чем Бог послал – антиком ли, выкопанным из земли, или собственным семейным портретом, а то аквариумом, фонтанчиком, – благо великие воды бегут в Риме по старым акведукам с окружных гор. В кабачке днем обедает средний чиновник, вечером он же приходит сюда с семьей или с приятелями. Обязателен столик, накрытый куском сукна, для игры в tresete, или в scopa, no одному сольдо партия. Острить и говорить о политике полагается громко, на все помещение, но ни один добрый падроне не позволяет посетителю грубого слова или пьяных выкриков – да и посетитель сам понимает это прекрасно. Чем стариннее кабачок, тем в большем он почете; чем строже наблюдает хозяин, чтобы только избранные виноградники доставляли дары свои в подвал кабачка, – тем больше ценителей заглядывает в уют кабачка после захода солнца. Но всегда доступными остаются цены, и синеблузник-рабочий не переплачивает из-за того, что кабачок полюбился и господину в манжетах. В осенний сезон, когда Рим заполнен иностранцами, кабачки прихорашиваются и, конечно, теряют часть колорита. Настоящие habitus ‹завсегдатаи – фр.› забиваются в угол и скучают, закрывшись листом „Messagero“ или „Giornale d'ltalia“. Они ждут, когда волна иностранцев сбудет и снова станут они первыми людьми земного рая. Разве немец или англичанин, забредшие сюда ради курьеза, понимают разницу между искристым Фраскати и степенным Гроттаферрата? И можно ли серьезно спрашивать в будний день Асти Спуманте, обращая волшебный кабачок в шаблонный ресторан?» Ужинал Осоргин обычно с хозяевами квартиры – мелкими римскими чиновниками:
«Ели мы суп с тестом и фасолью, немного вареного мяса с введенной ради меня в употребление горчицей, иногда блюдо земноводных слизняков в пикантном соусе, а то сладкие почки, и в заключение острый козий сыр (дар кузины из Абруцц) и по апельсину…»
В конце 1908 г. Осоргин подружился в Риме (как оказалось – на всю жизнь) с писателем Борисом Константиновичем Зайцевым.
Осоргин: «Мы познакомились в Риме у меня, на шестом этаже, где из окна виден был Ватикан, купол Петра и пустырь Прати-ди-Кастелло, теперь сплошь застроенный высоченными домами…»
Годы спустя, в своей мемуарной книге «Мои современники» Борис Зайцев обрисовал свое впечатление от Осоргина в Риме 1908 г.:
«Изящный, худощавый блондин. Нервный, много курил, элегантно разваливаясь на диване, и потом вдруг взъерошит волосы на голове, станут они у него дыбом, и он делает страшное лицо… Очень русский человек, очень интеллигент русский – в хорошем смысле, очень с устремлениями влево, но без малейшей грубости, жестокости, позднейшей левизны русской. Человек мягкой и тонкой души. Нас он в Риме опекал, как ласковый старожил приезжих. Быстро устроил комнату, указал ресторанчик, где и сам столовался и который оба мы потом „воспели“ (не в стихах, конечно): „Piccolo Uomo“ назывался он – „Маленький Человек“. Хозяин был низенький толстячок, держал дешевый ресторанчик на Via Monte Brianzo, около Тибра – пристанище международной литературно-художественной богемы. По ранне-осеннему времени завтракали в садике, под божественной синевы римским небом. Плющ, виноград, обломки „антиков“… и, конечно, наши русские типы в больших шляпах, с бородками, с видом карбонариев – среди них и sor Michele, тоже в артистической шляпе, с летящим галстуком, приветливым похлопыванием по плечу, дружеское рукопожатие с хозяином… Волна молодости, света и красоты несла тогда и его и нашу жизнь. Во многом sor Michele в эту волну вводил, и в самом Риме, и позже в Cavi, где устроил нас в чудесной рыбацкой деревушке на побережье генуэзском. Там тоже русские эмигранты жили – и это самое Cavi тоже мы с ним в писаниях своих не раз добром помянули».
Осоргин вспоминал, что в Риме он любил сочинять свои статьи и корреспонденции в домике Цезаря на Форуме («еще были целы в домике шесть дубков…»). Совершая многочисленные прогулки по Риму, став его блестящим знатоком, Осоргин много размышлял о вечности, о судьбе – эти темы позднее найдут отражение в его книгах, сделавших его одним из самых читаемых писателей во всей межвоенной Европе:
«Заглядывая иногда на кладбище у черепичной горы Тестаччо, где под сенью пирамиды Кая Цестия врастает в землю надмогильная плита Шелли, где у дверей склепа сидит мраморная девушка, изваянная Антокольским, где плакучее деревцо склонилось над именем Пашкова и где спит много, много маленьких, никому не ведомых людей, – я бродил глазами меж черных кипарисов, отыскивая незанятый клочок земли, который можно откупить заранее. Мне казалось – и посейчас кажется – покойным и гордым лежать здесь, далеко от родины кровной, в центре родины великой культуры. Здесь заезжий сородич прочтет на мраморной плите имя – прочтет вслух и, может быть, вспомнит или запомнит; после, вместе с именем кладбища, пирамиды и странной, голой горы из античных черепков, – мелькнет в его памяти и надпись на русском, навеки оставшаяся в Вечном Городе, поскольку, конечно, сама вечность – не условна. Быть связанным с Римом – хотя бы узами смерти – мне всегда казалось честью. Низко склоняю голову и прошу мою судьбу оказать мне эту честь, хотя бы за те мучительные годы, которые выпали и выпадут на долю наших поколений!»
Осоргин много путешествовал по Италии. В своем мемуарном эссе «Времена. Автобиографическое повествование», написанном во Франции в 1942 г. незадолго до смерти, он вспоминал:
«Когда мне делалось тоскливо в Риме, я садился в вагон прямого поезда и ехал в один из знакомых или еще незнакомых городов, иногда выходя, чтобы переночевать в живописном местечке. Я только в первые годы нуждался и покупал на завтрак пиццу, на обед тыквенное семя; дальше работа в крупных русских издательствах сделала мою жизнь легкой… Я так привык к Риму и своей новой оседлости, что даже в недолгих отлучках скучал по Палатину, по обрубкам Пасквино и Марфорио, по звучной речи и знакомому кабачку, где много лет кормил меня макаронами и горячим zabaione ‹заварным кремом› толстый падроне сор Анджело и так свежа была вода лучшего акведука…»
С 1909 г. Осоргин работал итальянским представителем организованного в России графиней В. А. Бобринской Фонда по организации экскурсий русских земских учителей в Европу. Уже летом 1909 г. более 400 русских экскурсантов-учителей несколькими группами посетили Италию.
Зайцев: «Лучшего водителя по Риму, да и другим городам Италии, чем Осоргин, нельзя было и выдумать: он очаровывал юных приезжих вниманием, добротой, неутомимостью. Живописно ерошил волосы свои. Несомненно, некие курсистки влюблялись в него на неделю, учителя почтительно слушали».
Об одной из таких групп (итальянцы называли их в шутку «caravano russo») сам М. Осоргин написал в новелле, вошедшей в сборник «Там, где был счастлив»:
«В страну апельсинную, все же чужую, страна еловая, все же нашенская, вторгалась периодически, больше – летом, когда по улицам Рима бегали, высунув язык, собаки и иностранцы… Я подсел к ним ‹к русским›, научил, как подвертывать макароны на вилку и отправлять куда полагается, объяснил, что любой предмет называется в Италии „куэсто“, если показывать на него пальцем. И что русских рубашек носить навыпуск нельзя: подумают, что рубашка выполла нечаянно. Что итальянцы на улице щиплются – ничего не поделаешь, это они любя. Что на Форуме Траяна кошки – кому они мешают? Под купол Петра Иван Великий, действительно, умещается. Огурцы здесь большие, но невкусные. К Папе ходят в черном, а девушки могут и в белом. Каши гречневой нет; ну что же делать, потерпите. Аполлон Бельведерский здесь, а Венеры Милосской, право же, нет, она переехала давно в Париж. Пизанская башня в Пизе. Везувия отсюда не видно, он под Неаполем. Что? Ну полноте, зачем вам в Италии калоши?…»
Вечером, вспоминал Осоргин, он вместе со своими новыми русскими знакомыми долго бродил по Риму, а ночью пели в Колизее «Вниз по матушке по Волге»…
К 1914 г. общее число «экскурсантов» из России превысило 3 тысячи человек. Драматична была история возвращения в Россию последних групп, застрявших в Италии после объявления войны и лишенных возможности проехать в Россию обычным железнодорожным маршрутом через Австро-Венгрию и Германию. Только при непосредственной помощи Осоргина, проявившего, как свидетельствовали очевидцы, недюжинную волю и характер, русские экскурсанты смогли наконец попасть на пароход, отплывающий через Константинополь в Одессу.
В 1916 г. Осоргин полулегально, кружным путем через Скандинавию, возвратился в Петроград. Февральская революция застала его в Москве. Твердо решив не связывать себя официальной государственной или партийной службой, он отклонил почетное предложение Временного правительства занять пост посла демократической России в Италии. После Октябрьской революции Осоргин не пошел и на активное сотрудничество с большевиками. (Известный русский писатель-эмигрант Марк Алданов сказал однажды, что «Михаил Осоргин был, вероятно, единственным русским публицистом, который политику и презирал, и терпеть не мог…».)
Тем не менее после революции Осоргин продолжает активно печататься в ряде пока еще свободных периодических изданий и, имея высокий авторитет в литературной среде, избирается первым председателем Всероссийского союза журналистов и товарищем (заместителем) председателя Союза писателей. Активно участвует он и в работе «Studio Italiano» – независимого италофильского кружка (вместе с П. Муратовым, Б. Зайцевым, А. Дживелеговым, Б. Грифцовым, М. Хусидом и др.). Он был и одним из организаторов писательской кооперативной книжной лавки, чтобы, по его собственным словам, «быть около книги и, не закабаляя себя службой, иметь лишний шанс не погибнуть от голода». Осоргин вспоминал те месяцы:
«Пайковая селедка, дымящаяся печурка, валенки, очередь за прилавком, работа на нашем маленьком книжном складе – и вдруг счастливо украденное время для заседания в италофильском нашем кружке „Студио итальяно“, где холод не мешал возрождать любимые образы и делиться тем, что дала нам близость общей любовницы Италии. Все в сборе – Муратов, Грифцов, Дживелегов, покойный ныне Миша Хусид, в публике – толпа итальянских воздыхателей. Дорогим визитером приехал А. Блок прочесть свои итальянские стихи – лишь за несколько месяцев до смерти. Так в дни холода и голода мы грелись солнцем воспоминаний о стране солнца».
В те же месяцы в голодной Москве М. Осоргин и Б. Зайцев дали друг другу обещание, несмотря ни на что, обязательно приехать еще раз в Рим и вместе выпить чашку кофе в любимом ими обоими римском политическом кафе «Aragno» на углу Via del Corso и Via delle Convertite… Вскоре, однако, оба они были арестованы «за антисоветскую деятельность», а М. Осоргин, как редактор печатного органа Комитета помощи голодающим, был приговорен к расстрелу, замененному потом ссылкой в Казань. О поведении Осоргина в чекистском застенке, известном всей Москве как «Корабль смерти», Б. Зайцев вспоминал в своих мемуарах:
«На Лубянке, в камере, где мы сидели, его избрали старостой, или старшиной, чем-то в этом роде, и он был превосходен: весел, услужлив, ерошил волосы ежеминутно на голове, представительствовал за нас перед властями…»
В 1922 г. постановлением коллегии ГПУ М. Осоргин (вместе с семьюдесятью другими известными писателями, философами, общественными деятелями) был выслан за границу. Однако, в отличие от большинства других эмигрантов, он, продолжая отождествлять себя только с Россией, не отказался от своего «красного паспорта» – пусть даже с отметкой о высылке. Со свойственной ему иронией он описал в одном из очерков «двойственность» этого документа, где, «с одной стороны, сказано, что обладатель этой книжки изгнан из пределов советской России, с другой же стороны, предлагается казенной формулировкой пролетариям всех стран соединяться».
Осоргин: «Было бы поистине малодушным менять такой интересный паспорт на „белый“ и настаивать на своей безотечественности и своем бесподданстве! Нет, я русский, сын России и ее гражданин! Я желаю нести ответ за нее, за ее „чудачества“, за природные качества ее народа и выходки ее правителей, которых я допустил, я терпел, я не сверг. О нет, этой ответственности я с себя слагать и права не имею, и по совести не хочу!»
В Берлине Осоргин долго добивался визы в Италию для того, чтобы принять участие в знаменитых «русских лекциях» осенью 1923 г., организованных итальянским русистом Этторе Ло Гатто. В составе русской делегации в Риме были тогда такие корифеи русской мысли (в те годы – уже эмигранты), как Николай Бердяев, Борис Вышеславцев, Павел Муратов, Семен Франк. В числе приехавших в Рим был и старый друг Осоргина – Борис Зайцев. В очерке «Свиданье», вошедшем в книгу «Там, где был счастлив», Осоргин написал об их долгожданной встрече в Риме:
«Вчера с поездом приехал тот, с кем мы назначили здесь свидание. Мы назначили его еще два года назад, в Москве, в Большом Чернышевском, в самое безнадежное время… Был холод, зима, день уходил на добывание пищи, ночь – на невеселые раздумья и тревожные ожиданья стука в дверь (звонки в Москве тогда еще не действовали). И вот тогда, в минуты полной безнадежности, мы серьезно обещали друг другу встретиться в Риме и выпить кофе у Араньо. С той же вероятностью можно было назначить встречу на северном полюсе, в чистилище Данте, на скрещенье двух каналов Марса. Вскоре встретились… в тюрьме Особого отдела. Спустя месяцы я ехал в ссылку в голодную губернию. Все это мало походило на исполнение общего нашего желания! И все же оно исполнилось. Пипистрелло ‹летучая мышь› кружит под потолком, а мы с улыбкой помешиваем ложечкой в чашке мокко…»
В те же дни Осоргин в последний раз обошел вместе с Зайцевым свои любимые места в Риме – Форум, Палатин…
Осоргин: «Днем бродим по Форуму. Необходимо отыскать домик Цезаря, где меж стен росло шесть дубов, а у окна лежал камень, удобный, как мягкое кресло. Раньше я находил его по кудрявым деревьям и сидел в нем часами, особенно весной, когда всюду на Форуме – глицинии и красные маки. Ищем вместе. Должно быть, эти самые стены. Где же молодые дубы? Только шесть низко спиленных пней! Сторож припоминает: „да, спилили их года четыре тому назад!“ Еще – утрата! Кому помешали дубы? Кто осмелился спилить их? Погибла краса и уют дома Цезаря! И только красные розы и бассейны дома весталок помогают утешиться в новой невознаградимой потере. Палатин стал садом, цветущим и благоуханным. Это его очень красит и совсем не лишает развалины их исторического величья. Говорить не о чем. Мы отдыхаем в тени старых деревьев на холме, где возвышался когда-то храм богине, имени которой мне не вспомнить. Мы – на Палатине. Мы – в Риме! Те самые „мы“, которые мечтали об этом, как о недостижимом более счастье! На минуту я погружаюсь в мир былых ощущений. Если бы иметь силу продлить эти минуты!»
В самом конце 1923 г. М. Осоргин, резко отрицательно воспринявший приход к власти фашистов в Италии, окончательно обосновался во Франции. В 20-40-е годы он стал одним из самых значительных писателей русского зарубежья (например, его роман «Сивцев Вражек» был издан беспрецедентным для эмиграции тиражом в 40 тысяч экземпляров и переведен на все основные европейские языки). Мечта Осоргина быть похороненным в Вечном городе, среди кипарисов на римском кладбище Тестаччо не сбылась. В ноябре 1942 г. Михаил Андреевич Осоргин скончался в местечке Шабри на юге Франции и был похоронен на местном кладбище.
Борис Константинович Зайцев
Борис Константинович Зайцев (10. 02.1881, Орел – 21.01.1972, Париж) – писатель, мемуарист, переводчик, общественный деятель. Осенью 1908 г., будучи уже известным писателем, отправился в путешествие в Рим благодаря авансу, который был получен от И. Бунина за рассказы для его альманаха «Земля». Путешествовал с женой Верой Алексеевной Смирновой (из старинного итальянского рода, среди ее предков – известный художник Ф. А. Бруни). Вспоминая об этой первой римской поездке, Зайцев писал, что они с женой сначала поселились в «тихом и чинном пансионе у Виллы Боргезе», а затем (по рекомендации М. Осоргина) сняли большую, окнами на юг, комнату в квартире на Via Belsiana близ Испанской площади:
«Наши окна выходят на „Бани Бернини“. С подоконников наружу вывешены ковры. С улицы долетает пение и болтовня прачек, и на полу лежат два прямоугольника света, медленно переползающего по креслам, гигантским кроватям на стену Солнце растопило утренних барашков и над краснеющей террасой бань Бернини засинел угол такого неба, как в Риме полагается – в Риме осеннем, солнечном и еще теплом».
О домашнем быте на улице Бельсиана Зайцев потом вспоминал в одном из своих «римских очерков»:
«Вот какова наша обстановка: квартира огромная. Ее хозяин – итальянский врач, не то акушер, не то гинеколог, а не то просто шарлатан. Его почти и не бывает дома. Квартира малообитаема. Длиннейший коридор ее пронизывает; тут дверь и в ванную, и в хирургическую, и в приемную, и в кабинет, в гостиную – везде полутемно, спущены жалюзи, и целый день сквозняк… Может быть, это вовсе и не доктор, а торговец какими-нибудь контрабандными товарами или тайный процентщик. Все возможно в старом Риме с просырелыми домами – видавшем виды всякие, ничему не удивляющемся… К вечеру в римской квартире, осенью, холодновато. Окна запотели. Мы закрываем ставни, разводим на спиртовке чай, пьем, читаем, а ноги мерзнут, и на плечи не грех накинуть что-нибудь… Началась ночь. И скоро мы укладываемся на гигантские латинские постели, под мягкими перинами, нагружая на себя пальто, платки, что можно, чтобы было потеплее…»
В Риме Зайцевы познакомились с русским журналистом (бывшим эсером, бежавшим из России в 1906 г.) Михаилом Андреевичем Осоргиным, который жил за Тибром недалеко от замка Св. Ангела и, по словам Зайцева, «опекал новичков, как ласковый старожил приезжих». Сам Осоргин в своем мемуарном очерке «О Зайцеве» вспоминал:
«В 1908 г. мы познакомились в Риме у меня, на шестом этаже, где из окна виден был Ватикан, купол Петра и пустыри Прати ди Кастелло, теперь сплошь застроенные высоченными доходными домами. Борис Константинович был тогда уже видным молодым писателем. Италию он смотрел впервые и, конечно, был в нее влюблен. Любовь оказалась такой крепкой и прочной, что он, который в римской аптеке вместо „пургативо“ (очистительное) просил дать ему „пургаторио“ (чистилище), тремя годами позже уже переводил Дантов „Ад“ прекрасными строками».
Вместе они посещали известный среди художников и журналистов ресторанчик на углу Via Monte Brianza и Vicolo del Cancello рядом с набережной Тибра и церковью Santa Lucia della Tinta. Этот кабачок (ни он, ни дом не сохранились) завсегдатаи в шутку называли «Piccolo Uomo» («Маленький Человек») из-за солидных габаритов хозяина – Зайцев позднее описал его в своем романе «Дальний Свет». О совместных завтраках в «Малыше» (в те годы этот кабачок стал благодаря Осоргину одним из центров «русского Рима») Зайцев написал в своей книге «Мои современники»:
«Завтракали в садике, под божественной синевы римским небом. Плющ, виноград, обломки „антиков“… и, конечно, наши русские типы в больших шляпах, с бородками, с видом карбонариев… Поэзии и простоты этой жизни нельзя забыть…»
Дружили Зайцевы в Риме и с писателем Павлом Павловичем Муратовым, чья книга «Образы Италии» зарождалась во время их совместных путешествий и, впервые изданная в 1911–1912 гг., была посвящена автором Б. Зайцеву.
По вечерам Зайцевы с друзьями любили сидеть и пить кофе либо в кафе «Faraglia» на Piazza Venezia, либо в «Aragno» (на углу Via del Corso и Via delle Convertite), либо в «Caffe Greco» на Via Condotti рядом с Испанской площадью. В своих римских очерках Б. Зайцев оставил описания этих знаменитых еще с прошлого века кафе:
«Если „Aragno“ шикарно и многолюдно, если оно „современно“, то кафе „Greco“ скромно и просто до предела, но гордо славою своей полуторавековой. Это кафе художников, артистов и писателей. Гете пил здесь кофе, наш Гоголь философствовал с Ивановым, и бесчисленные малые художники украшали кафе картинами, бюстами, скульптурами. Здесь невзрачно; днем темновато; все обсижено, обкурено и закоптело. Нет претензий. Но нечто покойное, чинно-старинное живет, вызывая почтение. Вечером зажгутся рожки газовые, они горят зеленовато-золотисто; посетители тихо расселись по углам, читают газеты, играют в домино, в шахматы. Благородная эта игра прочно тут процветает. В „Caff Greco“ тепло, слегка пахнет кухней; на скромном диванчике в дальнем закоулке долго можно сидеть, слушая гудение газа, у надписи под портретом: „Николай Васильевич Гоголь“. Вежливый камерьере принесет чашку кофе и за скромные чентезимы нальет рюмку вермута. Можно сидеть, курить, мечтать – никто не помешает. Разве шахматисты загремят фигурками, соберут их, расставят боевой порядок и начнут плести сеть молчаливых хитросплетений. „Caff Greco“ имеет простоту и тишину, нужные Риму».
Осенью 1911 г. Зайцевы снова приехали в Италию и, после посещения Флоренции и Кави, поселились в Риме в пансионе Франчини на Via Veneto, № 146 (дом сохранился). О том времени Зайцев позже писал К. Паустовскому:
«В Риме мы жили с Верой молодыми и счастливыми. Зиму 1911–1912 гг. провели в пансионе на Via Veneto, наверху, где он упирается почти в стену Аврелиана. Окна комнаты нашей выходили на эту стену, за ней – Ваша (и наша) вилла Боргезе. Все это мне очень близкое и почти родное».
Хотя в своих работах Б. Зайцев никогда не скрывал, что он всю жизнь оставался по преимуществу поклонником Флоренции (считая именно ее своей «второй родиной»), он с «великим почтением» относился и к Риму:
«Опьянения и восторга Флоренции здесь не было. Серьезнее, строже, отчасти грустнее, всегда на пороге Вечности… Один день под темно-сияющим небом Рима, при прохладе, ясности и той великой тишине, которая была тогда в Римской Кампанье, – такой день стоит года жизни обыденной».
В апреле 1918 г. в Москве был создан Институт итальянской культуры – «Studio Italiano», основателями которого были итальянец Одоардо Кампо (живший с 1913 г. в Москве и работавший в библиотеке Румянцевского музея) и Павел Муратов. Зайцев с первых же дней стал активным участником институтских сессий и неоднократно выступал там с докладами на итальянские темы.
В 1921 г. Б. Зайцев избирается председателем московского отделения Всероссийского союза писателей. Летом того же года он входит в Комиссию помощ голодающим (Помгол), через несколько недель его арестовывают по обвинению в «антисоветской деятельности», но вскоре выпускают на свободу. В 1922 г. он с женой Верой Алексеевной и дочерью Натальей навсегда уезжает за границу. Официально – «для поправки здоровья» (Зайцев тяжело переболел сыпным тифом); в получении виз помогли Каменев и Луначарский, с которыми Зайцев еще до революции встречался в Италии.
Осенью 1923 г. Б. Зайцев по приглашению своего итальянского друга Этторе Ло Гатто, генерального секретаря Института Восточной Европы в Риме, провел три месяца в Италии для чтения лекций. Лекции в Риме начинались в ноябре, но Зайцевы приехали в Италию уже в сентябре, посетили Верону, Венецию, Флоренцию и наконец поселились на Лигурийском побережье, в известном им по прошлым путешествиям местечке Кави-ди-Лаванья.
Оттуда Зайцев и ездил в Рим – другими русскими лекторами были к тому времени также ставшие эмигрантами П. Муратов, М. Осоргин, Н. Бердяев, Б. Вышеславцев, С. Франк. В очерке «Латинское небо» (конец 50-х годов) Зайцев вспоминал:
«Мы были пришельцами из загадочной страны. Наша жизнь в революцию для них фантастична. Голод и холод, чтения в шубах об Италии (Studio Italiano Муратова), торговля наша в лавках писателей, книжки, от руки писанные за отсутствием (для нас) книгопечатания, наши пайки, салазки, на которых мы возили муку, сахар, баранину академического пайка, – все это воспринималось здесь как быт осады Рима при Велизарии…»
Тогда же состоялась и знаменитая встреча со старым другом Михаилом Осоргиным в римском кафе «Араньо» на Via del Corso, № 183, о которой они договорились в голодной Москве 1921-го, незадолго до ареста обоих.
30 декабря 1923 г. Зайцев покинул муссолиниевскую Италию:
«На родине мы навидались товарищей. Эти – тоже товарищи, только навыворот».
Первое время Зайцев считал итальянский фашизм явлением преходящим и, уезжая в Париж, очень надеялся вернуться. «Итальянская тема» и во Франции осталась для него важной: она нашла отражение в романе «Золотой узор», над которым Зайцев работал в Париже в 1923–1926 гг.; затем в изданных в Париже беллетризованных биографиях «Жизнь Тургенева» (где, в частности, описывается пребывание И. С. Тургенева в Риме в 1840 и 1857 гг.) и «Жуковский» (где ярко описаны встречи Жуковского с Гоголем в Риме).
Б. Зайцеву удалось снова посетить Рим лишь в шестидесятивосьмилетнем возрасте при весьма необычных обстоятельствах.
Б. Зайцев: «В 1949 году наш приятель – ныне покойный А. П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, конквистадор и по жизни своей „Казанова“ – неожиданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию: „У меня там двести пятьдесят тысяч лир, выиграл в рулетку. Но вывезти не могу – проживем их вместе…“ Началось наше блиц-турне. Оно – смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции… Во Флоренции оказалось, что денег в обрез…»
Тем не менее Рогнедов настаивал, что, как и обещал, довезет Зайцевых до Рима («Я возил труппу лилипутов на Формозу, неужели не смогу довезти вас с Верой до Рима? Но, увы, можно будет остаться всего день…»). Остановившись на одну ночь в отеле «Exelsior» на Via Veneto, Зайцевы успели утром побывать в Ватикане («была Страстная Пятница, день смерти Рафаэля»), а после завтрака в ресторанчике у колоннады Бернини поехали к Вячеславу Ивановичу Иванову, который тогда жил на Via Leon Battista Alberti на Авентинском холме. Зайцевы оказались одними из последних гостей поэта-философа и слушателями его последнего труда – религиозно-мистической «Повести о Светомире-Царевиче», над которой тот работал последние годы. (Через несколько недель, в июле 1949 г., В. И. Иванов скончался в Риме.)
В 1957 г. супругу Зайцева, Веру Алексеевну, разбил паралич – духовной опорой их в те годы во Франции были воспоминания о совместных поездках в Италию. В. А. Зайцева (Смирнова) скончалась в Париже в 1965 г. Там же, 28 января 1972 г., в возрасте 90 лет скончался Борис Константинович Зайцев, в течение последних двадцати пяти лет бывший бессменным председателем Союза русских писателей за рубежом. Его отпевали в парижском соборе св. Александра Невского и похоронили на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Одним из главных творческих итогов своей жизни Б. К. Зайцев считал «раскрытие историософского смысла русского чувства Италии».
Павел Павлович Муратов
Павел Павлович Муратов (март 1881, Бобров Воронежской губ. – 5. 02.1950, Уотерфорд, Ирландия) – писатель, искусствовед, переводчик. Будучи по образованию военным инженером и закончив до этого кадетский корпус, П. Муратов во время русско-японской войны писал военные репортажи. Потом много путешествовал по Европе, регулярно печатался как художественный критик в «Зорях», «Перевале», «Утре России», «Русских ведомостях», «Старых годах», «Золотом руне», «Аполлоне». Служил библиотекарем Московского университета, затем хранителем отдела изящных искусств и классических древностей Румянцевского музея.
Друг Муратова, писатель Борис Константинович Зайцев, с которым они были знакомы с 1903 г. (именно Зайцеву впоследствии будут посвящены знаменитые муратовские «Образы Италии»), в своих мемуарах писал о Муратове:
«Павел Павлович (мы тогда звали его дружески „Патя“ – так до старости и осталось)… – с мягкими рыжеватыми усиками, боковым пробором на голове, карими, очень умными глазами. Держался скромно… Нечто весьма располагающее и своеобразно-милое сразу в нем чувствовалось. При такой тихой внешности обладал способностью постоянно увлекаться – в чем, собственно, и прошла вся его жизнь. При его одаренности это давало иногда плоды замечательные… С этим умнейшим человеком, которому ничего не надо было объяснять, можно было соглашаться или не соглашаться, но никогда не приходилось его упрекать за „середину“, „золотую“: он всегда видел вещи с особенной, своей точки. Один из оригинальнейших, интереснейших собеседников, каких доводилось знать».
Первые искусствоведческие работы Муратова явились результатом его поездки в Европу, где он серьезно занимался изучением французского постимпрессионизма.
Зайцев: «Помню весну 1906 года, московский журнальчик „Зори“ – Муратов присылал нам из Парижа статьи о новейших художниках. В то время Италии еще не знал и к тому азарту, с каким мы с женой восхищались Италией на всех перекрестках Москвы, относился довольно равнодушно. Его занимали Матиссы, Гогены. Однако же вскоре и он попал в Италию и так же, как мы, навсегда попался. Это была роковая встреча: внесла его имя в нашу культуру и литературу – в высокой и благородной форме».
Муратов впервые приехал в Италию в 1908 г. вместе с первой женой Евгенией Владимировной и тогда же побывал в Риме. Много размышляя о загадке Рима, он пришел к парадоксальному выводу: неповторимый содержательный смысл понятию «Вечный город» придает не столько сам город, сколько окружающая его «вечная Римская Кампанья»:
«Вечность Рима не вымысел, – его окружает страна, над которой время остановило полет и сложило крылья… Истинный дух Рима не умрет до тех пор, пока вокруг него будет простираться эта легендарная страна».