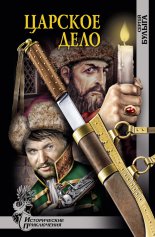Аэроплан для победителя Плещеева Дарья

– Ну и норов у вас. Так вот, по бумагам Дитрихс десять лет, как приказал долго жить. Но вот вопрос – кому он приказал долго жить? Видите ли, брат Аякс, на Стрельского в лесу напал не я. На кой мне его пустой кошелек и две карточки, если я могу те же самые карточки получить у фотографа или даже купить у билетерши в зале? Значит, карточки срочно понадобились кому-то другому, а для чего? И этот человек даже не знал о существовании карточек, он следил за Стрельским в надежде, что тот приведет к фрау Хаберманн. И мерзавец вывел старика из игры, когда понял, к какому хутору он идет через лес. Итак? Что произошло? Думайте, Аякс, думайте! Догадались? Я вот догадался! Подсказываю – фрау Хаберманн очень милая домашняя старушка. Она выходит из дому только в церковь да в кондитерскую. Она боится пьяных орманов, брехливых собак, сварливых лавочников… ну?..
– Ей показали карточку, чтобы она могла вас опознать! – воскликнул Лабрюйер. – Ее запугали и принудили, но… но это значит…
– Это значит – кто-то знал, что вы идете по следу убийцы фрау фон Сальтерн, что вы заподозрили меня, что вы хотите в самое ближайшее время устроить нам очную ставку – фрау Хаберманн и мне. Значит, нужно, чтобы вы окончательно в этом убедились, сдали меня Линдеру и приняли лавровый веночек из рук госпожи Селецкой! А настоящий убийца вздохнет с облегчением и займется своими делами, не боясь, что вы откуда-то спрыгнете ему на голову с револьвером.
– Если вы не врете…
– Предположите на пару минут, что не вру.
– …то Водолеев подкуплен и докладывает о моих разговорах со Стрельским. Кто же знал, что его нужно опасаться? – Лабрюйер замолчал. – Но ведь и вы могли прекрасно все слышать, узнавать мои планы! Отчего я должен вам верить, Енисеев? Кто вы такой?
– Тьфу ты, сказка про белого бычка… Прежде всего – я такой же Енисеев, как вы – Лабрюйер. Оба мы – порождение лихой фантазии господина Кокшарова!
– Перестаньте паясничать.
– Простите, не могу. Когда Кокшаров наконец пинками выгонит меня из труппы, я с горя пойду и наймусь «августом» в цирк Саламонского. Там мои смехотворческие таланты оценят по достоинству.
Лабрюйер встал.
– Ступайте в цирк Саламонского, карьера «августа» вам обеспечена. Считайте, что я вам поверил. А я как-нибудь уж постараюсь распутать это дело без вас.
– А вы мне нравитесь, брат Аякс. У вас есть характер. Добротный, тяжеловесный, каменный немецкий характер. Папенькино наследство, так? Да сядьте же! – крикнул Енисеев.
Слушать такие комплименты и выполнять такие приказы Лабрюйер не мог. Он, вскочив, боком вывалился в дверь и чуть не сверзился с лестницы.
В палисаднике он фыркнул – кажись, злость накатила вовремя, а вот теперь начнется настоящая игра. Енисеев вряд ли останется ночевать в пансионе – номер, скорее всего, был снят только для беседы с собратом Аяксом. Значит, изругав упрямого собрата, он пойдет прочь – туда, где имеет тайное местожительство. А за ним – парочка велосипедистов-молодоженов…
Нужно было спокойно обдумать все, что сказал Енисеев, и еще раз прочитать письмо Кошко.
Лабрюйер вышел на пляж.
Справа и слева от каменного спуска стояли скамейки со спинками – для созерцателей заката и морского пейзажа. На одной сидел высокий крупный человек. Он, ссутулившись, уперся правым локтем в колено. Лабрюйер подошел и сел рядом.
– Больно скоро отпустила вас прелестница, – сказал Стрельский.
– У прелестницы во-от такие усищи, – ответил Лабрюйер и сделал забавный жест, придуманный Водолеевым для характеристики Енисеева: приложив обе руки к щекам, выставил вперед полусогнутые пальцы и пошевелил ими. Получилось похоже на знатные енисеевские усы.
– Он?
– Он…
– Что-то вы, мой юный друг, нерадостны.
– Пытаюсь вспомнить, о чем мы толковали в присутствии Водолеева.
– Понятно…
– Вы ведь сразу поняли, что он подкуплен.
– Не сразу.
– Отчего вы хоть не намекнули? Отчего позволили мне считать себя победителем? – уныло спросил Лабрюйер. – Я не мальчик, в таких конфетках не нуждаюсь… И мне однажды был дан хороший урок – не лезь в победители, не лезь, сперва досконально все исследуй! И что же – опять?
– Я не хотел говорить вам о своих домыслах, видя, как вы взбудоражены, – объяснил Стрельский. – Вы бы сразу притащили на дачи Линдера и натворили с ним дел. А в этой истории, как я понимаю, под ударом Тамарочка. Если бы вы с Линдером торжественно арестовали нашего иудушку, неизвестно, что бы учинили его наниматели. Но как вы-то поняли, что Савелий наш – предатель? Вам Енисеев объяснил?
– Я не ему поверил, а вам, – строптиво ответил Лабрюйер.
– Значит, убийца все еще не найден?
– Выходит, так. Чертов Водолеев! Ему было очень удобно сообщать все, что у нас на дачах происходит, – достаточно в потемках подойти к забору! А истинный убийца лишь посмеивался! Но почему? Я думал, ваша актерская братия более дружна. Вспомните, как собирали средства на адвоката…
– У Савушки та же беда, что у Ларисочки, – Стрельский вздохнул. – Годы идут, а денег нет. И на горизонте мрачным призраком встает огромная серая тяжелая дверь с выщербленным порогом и липкой от грязи ручкой. Знаете, что это за дверь? В богадельню. Очень легко купить старого артиста, мой друг, очень легко. Он – самое беззащитное в свете существо…
– Но вас-то так просто не купишь.
– Почем я знаю? Может, через десять лет и я охотно продам первородство за чечевичную похлебку.
– Нет, вы из другого теста.
– Тесто имеет свойство прокисать. Вам знаком шекспировский Фальстаф? Нет? Я так и думал. Он очень вовремя помер – когда перестал быть нужным принцу Гарри. И, умирая, тосковал о зеленых лугах. Дай Бог всем нам вовремя помереть.
– Аминь, – сказал Енисеев. Он беззвучно подошел по холодному и рыхлому песку и сел рядом со Стрельским. – Давайте я хоть вам объясню, что не убивал фрау фон Сальтерн. Поскольку этот господин меня и слушать не желает.
– Ну, объясняйте, – Стрельский усмехнулся.
– Одно то, что меня грубыми способами пытались выдать за убийцу, говорит в мою пользу. Я знаю, вы догадались, что Водолеев – осведомитель. Но он же плохо сыграл роль! Он хотел взять глоткой! Вы же это видели и поняли, Стрельский!
– Савушка – плохой актер, юные друзья мои. Передразнить может, сыграть нутром – нет. Если ему покажут– он отлично повторит. А тут ему не показали. И он сделал все что мог, в меру своего скромного таланта. Но я, видно, хотел его оправдать… Я думал об этом – и искал оправдания… мы же лет восемь колесим вместе – из Вологды в Керчь, из Керчи в Вологду…
– А фрау Хаберманн?
– Вот она-то как раз неплохая актриса. Ей можно было поверить. Но это, наверно, ее последняя роль.
– А что, старушка опасно заболела?
– Старушка пропала, – наконец заговорил Лабрюйер.
– Как – пропала? Разве вы не оставили ее у себя?
– Оставили, но сильно за нее беспокоились. В конце концов господин Лабрюйер договорился с полицейским инспектором, и тот обещал ее приютить – где, Лабрюйер?
– У полиции есть квартиры для особых надобностей. Там она была бы в полной безопасности. Я думал, это ваша работа.
– Лиссабонское землетрясение – тоже моя работа? И гибель «Титаника» – тоже? Господи, как я устал… Каким образом пропала фрау Хаберманн?
– Возле ипподрома вдруг выскочила из автомобиля и удрала, – скупо объяснил Лабрюйер.
– Никто ничего не понял, – добавил Стрельский. – Наш шофер чуть умом не тронулся.
– А для чего вы ездили на ипподром?
– Искали автомобиль, в котором вывезли из Майоренхофа тело Водолеева. По крайней мере, я так считаю. Похоже, Тамарочка Оленина как раз тогда видела возле наших дач этот чертов «катафалк» и что-то еще, чему сама не придала значения, вот ее и пытаются убрать. Думаю, в этом же автомобиле привезли той ночью тело фрау фон Сальтерн. Мадмуазель Оленина опознала марку этого автомобиля и даже умудрилась его пометить. Сейчас полицейские агенты ищут его по всей Риге и окрестностям.
– Мы хотели передать фрау Хаберманн агенту, который отвез бы ее на квартиру, как раз у задних ворот ипподрома и назначили встречу, – добавил Стрельский. – И как-то так вышло, что Тамарочка с Алешей первыми побежали на ипподром, мы с Лабрюйером пошли следом, фрау осталась в автомобиле – и вдруг оттуда пропала. Шофер погнался за ней и проворонил.
– Когда это было?
– Сегодня утром.
– И что вы предположили, господин Стрельский?
– Мы с господином Лабрюйером предположили, что она могла встретить кого-то из сообщников Алоиза Дитрихса.
– Черт! – воскликнул Енисеев. – Вы так подумали, потому что еще утром считали преступником меня! И моей скромной персоны в окрестностях ипподрома не заметили. Но теперь-то что вы можете предположить? Кого она могла до такой степени испугаться?
– Она увидела подлинного Алоиза Дитрихса?
– Правильно, господин Стрельский. Слышите, собрат Аякс?
Лабрюйер отвернулся. Ему следовало первым делом подумать о фрау Хаберманн, когда стало ясно, что Енисеев не врет. А он из-за склоки с собратом Аяксом совсем забыл о старушке.
– Послушайте, Енисеев, а вам-то какое дело до Дитрихса? Вы хотит его изловить, чтобы окончательно снять с себя все подозрения? – спросил Стрельский.
– Все гораздо сложнее. Хотя и это тоже. Я телефонировал осведомленным людям в столицу. Мне два дня собирали сведения об этом проклятом Алоизе Дитрихсе! Оказалось, его родителям сообщили, что он погиб в перестрелке! Три недели спустя! Написали, где похоронен этот блудный сын, – и только. Но никто – никто! – не видел его трупа! А что это значит – понимаете?
– Кому-то нужно было, чтобы его считали мертвым, – сделал вывод Стрельский. – Говорите, говорите, это так любопытно! Словно я гимназист, за пять копеек купивший новый выпуск похождений Пинкертона! А кстати – нет ли еще пьесы о Пинкертоне?
Лабрюйер громко расхохотался. Это был дурной смех, ответ организма на перевозбуждение, попытка души выплеснуть обиду и злость – хоть таким странным способом.
– Про пьесу, извините, не слыхал. Так вот, кому-то не просто нужно было, чтобы Дитрихс умер, а чтобы на свет появился другой человек, с другими документами, с другим прошлым, готовый выполнять опасные поручения. Кому-то, кто в состоянии обеспечить воскресшего покойника безупречными документами и деньгами… вполне материальными деньгами…
Лабрюйер вспомнил про пятьсот рублей. Это что же получается – он тратил деньги Енисеева? А с чего бы Енисеев вдруг отвалил ему столь солидную сумму?
– Итак, реинкарнация Дитрихса…
– Что? – хором спросили Лабрюйер и Стрельский.
– Его посмертное воплощение, господа. Эта пакостная реинкарнация угнездилась на солитюдском ипподроме. Там множество людей бывает – конюхи, механики, авиаторы, их ученики, коновалы, плотники, рабочие с завода «Мотор», служители, что за летным полем смотрят, наездники, наконец, которые там днюют и ночуют. Вообще любопытные дела творятся на этом ипподроме. Я не только убийство фрау фон Сальтерн имею в виду. Одно то, что Дитрихс под чужим именем обретается там, где господин Калеп при помощи госпожи Зверевой работает над усовершенствованием аэроплана, в котором заинтересовано наше военное ведомство, уже о многом говорит. Не так ли, брат Аякс? Гоняясь за убийцей фрау Хаберманн, вы одновременно ловите очень опасную сволочь…
– Вам-то что за дело до этой сволочи? – сердито полюбопытствовал Лабрюйер.
– Есть мне до нее дело. Господин Стрельский, опишите мне, пожалуйста, эту мизансцену – кто и где находился, когда сбежала фрау Хаберманн…
Глава тридцатая
Лабрюйер пошел искать Танюшу и Николева, чтобы отпустить молодоженов домой. Он предвидел, что Стрельский, обрадовавшись случаю, изобразит перед Енисеевым в лицах все, что происходило на ипподроме, и особенно талантливо исполнит роль «катафалка», несущегося на молодоженов.
Парочка была поблизости. Танюша с Алешей честно крались за Енисеевым и очень удивились тому, что он вступил в переговоры со Стрельским и Лабрюйером.
– Тревога отменяется, – сказал им Лабрюйер. – Поезжайте домой.
– Но почему?! – возмутилась Танюша.
– Потому что случилась ошибка. Енисеев не убивал фрау фон Сальтерн.
– Как не убивал? Значит он – не Дитрихс? А как же тогда попал к нему портсигар?
– Подбросили.
На душе было пасмурно. Ощущение он мог бы выразить лаконично: «не сбылось». Его погоня была погоней не за убийцей, а за Енисеевым, который сделал из него ширму для своих загадочных дел и выставил на общее посмешище. «Два Аякса исполняют качучу на крыше цветочного киоска!» «Два Аякса сломали трубу коптильни!» «Два Аякса похитили купальную машину!»
Лабрюйеру не раз приходилось разоблачать мнимые алиби, а теперь он сам сделался ходячим алиби этого усатого черта.
– Но тогда убийца – Таубе! – воскликнула Танюша. – Он ведь не тот, за кого себя выдает! Он где-то стянул визитные карточки настоящего Таубе! Значит, он – Дитрихс!
– Погодите, Тамарочка, погодите!..
Лабрюйер вспомнил – Таубе был на ипподроме в тот день, когда там познакомились Сальтерн и Селецкая. Именно тогда Танюша получила от него визитную карточку. И девушка была очень недовольна тем, что этот человек крутится вокруг Зверевой. Так, значит, Таубе?
Он ведь был на ипподроме, когда пропала фрау Хаберманн. Когда он приехал? Могло ли у него быть дело возле ворот? Ворота распахнули, чтобы вползли две телеги с сеном, но, может быть, явилось еще что-то, связанное с Таубе?
Лабрюйер не хотел разгадывать эту загадку, с него было довольно, что Селецкую отпустили. К фрау фон Сальтерн он был равнодушен, сам Сальтерн навеки утратил его уважение. Но мысль жила сама по себе, помимо его воли; мысль суетилась, выдергивала из воспоминаний слова и картинки, лепила какую-то новую сущность.
– Какого черта?.. – пробормотал он.
Ему это вовсе не требовалось. Енисееву зачем-то понадобился Алоиз Дитрихс – ну так сам пусть за ним и гоняется.
Но следовало поступить достойно. Передать в енисеевские руки все сведения – и послать его ловить ветра в поле. И пропади пропадом «Прекрасная Елена»! Лучше уж до скончания дней петь в церковном хоре!
– Тамарочка, пойдем, сами ему все скажите про Таубе, – попросил Лабрюйер. И он подвел девушку к скамье, где совещались Стрельский и Енисеев.
– Вот, расскажите этим господам все, что знаете, и как злодеи дважды покушались на вашу жизнь, и как вы пометили автомобиль, и как его теперь ищут. А я все, что мог, сделал… Про поезд, застрявший у переезда, доложили? – строго спросил он Стрельского. – Про вонючую банку доложили? Что еще? Про парнишку с цидулкой доложили? Значит, я могу перекреститься с облегчением и уходить к чертовой бабушке!
– Какая цидулка? – удивился Стрельский.
– Та, которую парнишка по ошибке Мюллеру отдал.
– Точно, была бумажка с каким-то немецким названием, – согласился Стрельский. – «Гросс…» Что-то большое?
– Гросс-Дамменхоф.
– Что это? – спросил Енисеев.
– Имение по ту сторону железной дороги. Если ехать из Риги, то слева будет ипподром, а справа несколько старинных имений – Анненхоф, Кляйн-Дамменхоф, Гросс-Дамменхоф и еще дальше – Эссенхоф, а за лесом – Клейстенхоф. Ну, я… Нет. Это еще не все.
Лабрюйер достал бумажник и стал вынимать банкноты.
– Это еще зачем? – спросил Енисеев.
– Из пятисот рублей я часть потратил на поиски убийцы. Остальное возвращаю. И устраняюсь от этого дела.
– Любопытная цидулка, – заметил Енисеев. – А вы не заметили – не околачивалась ли в это время поблизости компания наездников на дорогих лошадях? Не собиралась ли она на прогулку?
– Даму-амазонку я заметил! – сообщил Стрельский. – Такая, знаете ли, королева! Царица фей Титания!
– Гадкая гадина! – сразу охарактеризовала ее Танюша.
– И то, и другое сразу, – усмехнулся Енисеев. – Это с дамами случается. Говорите, Гросс-Дамменхоф? Простите, вынужден покинуть ваше приятное общество. Не хочу обременять вас просьбами, собрат Аякс, но у вас в записной книжке наверняка есть расписание поездов.
– Вы собрались в Гросс-Дамменхоф? – догадалась Танюша. – Алешенька, мы едем с господином Енисеевым!
– Но почему? – удивился Николев.
– Потому что, если он туда едет, там будет что-то любопытное!
– До кеммернского поезда примерно полчаса, – сообщил Лабрюйер. – Вы прекрасно на него успеваете. Но это сегодня уже последний.
– По-вашему, записочку прислала фрау Хаберманн? – спросил Стрельский. – Ах, проказница…
– Очень может быть, – туманно ответил Енисеев. – Во всяком случае, я уверен, что искать ее следов нужно в Гросс-Дамменхофе. Если только…
– Если что?
– Если ее там не нашли еще до нас. Тогда я не дам за ее жизнь ломаного гроша. И поверьте – труп не станут никуда подбрасывать.
– Почему? – хором спросили Танюша и Николев.
– Потому что убийцам уже не до спектаклей, дети мои. Вокруг них мой брат Аякс развел столько суеты, что они вынуждены торопиться. И это прекрасно! Милая Тамарочка и вы, господин Николев. Там, конечно же, будет любопытно. Но я вас с собой не возьму. Простите!
Енисеев потешно развел руками.
Все, что он ни делал, было для Лабрюйера отвратительно. И даже этот роскошный жест – явно перенятый у Стрельского или Водолеева. Сам он, не будучи актером ни в какой мере, очень остро ощущал актерские приемы и замашки у других людей, иногда они его развлекали, но сейчас – раздражали.
– Нет, господин Енисеев, мы тоже поедем. Все, что творится на ипподроме, – мое личное дело, если угодно, – строгим ледяным голосом, почти как Терская в гневе, ответила Танюша. – Какие-то гнусные людишки плетут интриги вокруг госпожи Зверевой, а она мой кумир, мой идеал, я мечтаю учиться у нее летать! И мой муж мечтает!
– Да! – выпалил Николев, совсем ошалев от восторга: она впервые прилюдно назвала его мужем, и именно так, как положено замужней даме.
Стрельский, оценив ловкость дамы, зааплодировал.
– А если придется стрелять – так я умею не хуже вас!
– Ого… – прошептал Енисеев.
И тут Танюша выхватила из-за спины револьвер.
Не успели спросить, кто ее выучил такому опасному способу ношения оружия за поясом юбки, под пелеринкой, как она выстрелила, – и флажок, украшавший маленькую детскую карусель, рухнул. Пуля удачно попала в шар, из которого он торчал.
– Бежим! – воскликнул Енисеев. – Сейчас сторожа выскочат! Садитесь на велосипеды, и по пляжу – аллюром три креста!
– Есть, ваше благородие! – лихо отрапортовала Танюша. – За мной, душенька!
Молодожены укатили.
– Слава те господи, – с чувством сказал Енисеев. – Скорее на станцию, пока они не повисли у нас на плечах. Вот ведь парочка…
– Вы приглашаете меня с собой? – осведомился Стрельский. – Со всеми моими ревматизмами, куриной слепотой и старческим недержанием всего на свете?
– Я бы не осмелился, но в вашем взоре вижу снисходительность…
– В моем взоре вы видите безумие, – поправил старый артист. – Но я не хочу отпускать вас одного. В случае… в неприятном случае я хоть подниму тревогу… Но билеты за ваш счет.
– Тогда – идем на станцию, – сказал Енисеев. – Прощайте, брат Аякс. Я вам за все благодарен, даже искренне благодарен, но вы твердо решили, что нам не по пути. Пусть так.
– Деньги возьмите, – буркнул Лабрюйер.
– Это – в оплату за ваши труды.
Тут по каменному спуску прибежал старик-сторож и на дурном немецком осведомился насчет стрельбы.
– Это там, дальше, – сказал ему Енисеев, махнув рукой куда-то в сторону острова Эзель.
– У нас и ружьишка-то нет, – по-русски добавил Стрельский.
Они пошли вслед за успокоенным сторожем.
Лабрюйер остался у скамьи.
– Ну и черт с вами, – проворчал он. То, что оставалось от вечера, следовало употребить с большей пользой для себя – забравшись в дальний угол двора, смазать конским снадобьем ногу, а потом спокойно в одиночестве выкурить пару папирос. А может, и побольше – чтобы забить скверный запах. Мало надежды, что он выветрится, но хоть ослабнет.
Он вышел на полосу влажного песка, решив, что неторопливая прогулка вдоль гладкого мелководья на сон грядущий – именно то, что требуется господину средних лет, у которого побаливает нога, а на душе – кавардак. Но побрел он почему-то не в сторону Майоренхофа, а в сторону Дуббельна: «Мариенбад» формально относился к Дуббельну, хотя был выстроен почти посередке между этими двумя станциями.
Возле дуббельнского вокзала он мог взять извозчика и доехать до артистических дач.
Орман имел хорошую лошадь и довез Лабрюйера довольно быстро. Поблизости от майоренхофской станции он спросил, по какой улице ехать – Йоменской или Морской. Лабрюйер понимал, что короче – по Морской, но хотел продлить удовольствие от поездки, не так уж много у него в жизни было за последнее время удовольствий.
Он чувствовал, что как-то неправильно расстался с Енисеевым, но бросать деньги в наглую морду, именно в эту наглую морду, было нелепо – Енисеев бы счел ниже достоинства нагнуться за ними.
– Где поворачивать? – спросил орман, и Лабрюейр от задумчивости не сразу указал нужный перекресток.
Он никогда не знал названий узких улочек, что вели к морю. Даже в Майоренхофе эти улочки были простенькие, не мощеные, без тротуаров, с бурьяном вдоль дощатых заборов, а кое-где – с белым шиповником; совсем скромные улочки, не променады, как Йоменская или Морская, и с колдобинами, на которых колыхалась замедлившая ход бричка. Лабрюйер, покачиваясь на сиденье, уже предвкушал обещанные себе папиросы, орман опять спросил, где поворачивать, услышал «налево», и четверть минуты спустя бричка остановилась. Лабрюйер встал, желая спуститься по двум ступенькам, и увидел, как из калитки мужской дачи выскакивает приземистая фигурка с большим саквояжем.
Все бы ничего, но человек этот быстро и пугливо огляделся – как будто в такое время кто-то мог его видеть. Если бы не повадка воришки, покидающего ограбленный дом с добычей, Лабрюйер бы не обратил внимания – мало ли кто забрел к господам артистам в гости, особенно если взял с собой побольше пива. Но он вгляделся – и узнал Савелия Водолеева.
Водолеев быстро перешел Морскую по диагонали, и Лабрюйер увидел, что спешит он к какой-то черной глыбе, которой еще утром тут не было. Но у глыбы, когда он был совсем близко, зажглись фары – и оказалось, что это проклятый «катафалк». Савелий закинул саквояж в автомобиль, влез сам, и «катафалк» с места взял хорошую скорость, помчался в сторону Эдинбурга и Бильдерингсхофа.
Первая мысль у Лабрюйера была совсем глупая: чего Савелий в такое время собрался делать в Бильдерингсхофе, в зале Маркуса? А вот вторая была поумнее: «катафалк» пролетит эти станции стрелой и остановится лишь у ипподрома.
Была и третья мысль: не начхать ли, не наплевать ли на всю эту историю с высокой колокольни? Случайный заработок – к чему он обязывает? Ведь и бумаг-то с Кокшаровым подписано не было! Отчего человек, который уже давно не служит в сыскной полиции, должен до конца распутывать это дело? Удалось помочь Селецкой – и ладно.
И тут случилось чудо.
Дамы еще не угомонились, вышли на сон грядущий подышать свежим воздухом. А может, гуляли по пляжу, как положено настоящим дачницам. Настроение у них было романтическое, в небе висела прекрасная луна, благоухал шиповник – и Терская запела:
– Льет жемчужный свет луна, в лагуну смотрят звезды…
– …ночь дыханьем роз полна… – вовремя и в нужной тональности подхватила Эстергази.
– …мечтам любви верна… – это уже звоном хрустального колокольчика вплелся голос Генриэтты Эстергази. – Жизнь промчится, как волна…
– …вдыхай же этот воздух… – четвертый был голос Селецкой.
Она оживала, она уже могла петь о любви!
Четыре незримые женщины, немало испытавшие, пели «Баркаролу» и звали любовь: уже ни во что не верящая, разумная и практичная Зинаида Терская, смешная Лариса, нервная беглянка Генриэтта, печальная Валентина; четыре актерки, потрепанные жизнью и избалованные аплодисментами, и как же точно, как безупречно звучала стихийная и непредсказуемая «Баркарола»…
– К эдинбургской станции, – вдруг сказал орману Лабрюйер. – Может быть, поезд опоздает…
– Как угодно, – отвечал орман. Он был доволен – на станции больше надежды обрести припозднившегося седока.
И поезд действительно опоздал!
Это был уговор с судьбой – если удастся, предупредить треклятого Енисеева, что этой ночью в списке трупов прибавится еще один. Когда осведомитель больше не нужен – его уничтожают. А когда он не нужен? Если некое дело, в котором требовались поставляемые им сведения, завершено.
Лабрюйер забрался в последний вагон. И, глядя в темное окно, пообещал своему отражению, что это – последний эпизод его участия в путаных делах Енисеева. В конце концов, полученные деньги ему нужны – и их нужно хоть в какой-то мере отработать.
Когда поезд остановился в Солитюде, пассажиров на перрон вышло ровно пятеро, из них двое вытащили из вагона велосипеды. Поезд тронулся, пассажиры посмотрели друг на друга, и один из них так расхохотался, что едва ли не заглушил паровозный гудок.
– Я должен был догадаться, должен был! – сквозь смех выкрикивал он. – Ну, детки, ну, детки!..
Лабрюйер, пока Танюша и Николев возились с велосипедами, быстро подошел к Енисееву.
– Они увезли Водолеева, – тихо сказал он.
– Живого?
– Пока – да.
– Понимаете, что это значит?
– Да.
– Нужно этих голубков убрать.
Лабрюйер кивнул.
За годы службы в сыскной полиции ему приходилось иметь дело с разнообразными пропажами, и одна подходящая как раз пришла на ум.
Молодожены подошли, с виду – вроде бы смущаясь, но Лабрюйер помнил: перед ним – молодые артисты.
– Тамарочка, Алеша, вся надежда на вас, – сказал он. – Вы – на велосипедах, перемещаетесь быстро. Поезжайте в Кляйн-Дамменхоф, это – перейдя железную дорогу, прямо, пока не окажетесь на Анненхофской улице. Она, если повернуть налево, упирается в имение Анненхоф. Вы сперва заглянете туда, постучите в ворота. Имение большое, сторож наверняка есть. Скажете ему так: у вас пропала бабушка. Запоминайте, Николев! Старенькая бабушка, у которой совсем нет памяти. Ее не выпускают из дому, потому что она не найдет обратной дороги. Но она как-то убежала, и родня ищет ее по всему Зассенхофу. Кто-то сказал, что старушку вроде бы видели у переезда. Приметы фрау Хаберманн помните?
– Моего роста, волосы седые, носит черную кружевную наколку и поверх нее черную шляпку, а платье… платье темно-коричневое… воротничок связан тамбурным крючком, под горлышко… – стала вспоминать Танюша.
– Прекрасно. Сторож ее, скорее всего, не видел, но вы не уходите, пока не узнаете дорогу к Кляйн-Дамменхофу и Гросс-Дамменхофу. Сперва – Кляйн…
– Почему?
– Чтобы в окрестностях все знали – ночью по всем закоулкам искали пропавшую бабушку. Если вы сразу устремитесь в Гросс-Дамменхоф – это будет подозрительно. Дело очень серьезное, сами знаете.
– А когда найдем? – спросил Николев.
– Первым делом – успокойте ее. Скажите – господин Лабрюйер все понял и на нее не сердится. Скажите – она никогда в жизни больше не увидит Алоиза Дитрихса. И ступайте с ней на станцию Солитюд. Там есть телефонный аппарат, там круглосуточно кто-то дежурит. Сидите и ждите меня, а если случится что-то неожиданное – сразу звоните в Ригу, в сыскную полицию, и господину Линдеру. Сейчас я вам запишу телефонные номера.
В свете станционного фонаря Лабрюйер вырвал из записной книжицы лист и карандашом нацарапал все необходимое.
– Ищите, пока не найдете, – напутствовал Енисеев.
– Мы с женой найдем! – гордо пообещал Алеша. И молодожены, взяв за рули велосипеды, покатили их по деревянной дорожке через рельсы.
– Слава богу… – прошептал Стрельский и перекрестил их силуэты.
– Слава богу, – согласился Енисеев. – Мне сейчас только парочки любопытных младенцев, всюду сующих носы, недоставало. Тем более что один из младенцев вооружен и будет палить куда попало, визжа от восторга.
– Так они целее будут, – подтвердил Лабрюйер.
И тут возникла пауза – та, которую кто-то обязан прервать банальными словами «тихий ангел пролетел».
– Господин Лабрюйер, я вам благодарен за предупреждение, – церемонно произнес Енисеев, – но никак не смею обременять своими заботами. Предлагаю вам с господином Стрельским потихоньку двигаться к Зассенхофу, где есть шанс поймать ормана. Я же пойду на ипподром. Попрошу лишь о двух одолжениях. Если я до полудня завтрашнего дня не телефонирую на дачу, господину Кокшарову, то свяжитесь с господином Кошко и все ему объясните. И также оставьте в зале Маркуса у билетерши записку для господина Отса. Это мой помощник. Если бы я знал, как все обернется, я бы вызвал его сюда…
– Вы в своем уме? – спросил Стрельский. – Может быть, вы рехнулись? Или у вас, как говорит нынешняя циническая молодежь, в голове зонтиком помешали?
– Я должен знать, что происходит на ипподроме. Сволочи засуетились и будут делать решительные шаги. Уничтожение Водолеева – только первый. Опасность грозит нашим авиаторам и инженеру Калепу. Так что, вы уж извините, пойду я. Не поминайте лихом.
Глава тридцать первая
Но далеко Енисеев не ушел. Стрельский, мигом забыв про свои ревматизмы, нагнал его.
– Я, конечно, старый дурак, но я вас не пущу одного, – сказал он. – Вы, может быть, прекрасный стрелок, наездник, автомобиль водите и на яхтах в море выходите, но я артист! Артист, да! Я сыграю любую роль! Вы просто не видели меня на настоящей сцене! А я Отелло играл! Мавра! Я Несчастливцева играл! Я Иоанна Грозного играл!
Тут Стрельский дивно преобразился – сгорбился, выставил вперед и вверх правое плечо, лицо развернул профилем к двум изумленным зрителям и заговорил хрипло и жалостно:
- – Острупился мой ум;
- Изныло сердце; руки неспособны
- Держать бразды; уж за грехи мои
- Господь послал поганым одоленье,
- Мне ж указал престол мой уступить
- Другому; беззакония мои
- Песка морского паче: сыроядец —
- Мучитель – блудник – церкви оскорбитель —
- Долготерпенья Божьего пучину
- Последним я злодейством истощил!
Лабрюйер не был чересчур впечатлительным, но от Стрельского повеяло смертным хладом; Енисеев, видно, ощутил то же самое, потому что сказал:
– Бр-р-р!
– Каково? – спросил Стрельский.
– Великолепно. Только публика наша, боюсь, не оценит вашего дарования. Видите ли, там затевается что-то скверное, и мерзавцы, может статься, собрали всех своих клевретов, способных держать оружие. Я не постесняюсь ползти на брюхе по конскому навозу, а вас это смутит, я знаю. Вы артист, вы эстет, и вы даже не представляете себе, кто окопался на этом проклятом ипподроме…