Меч Вайу Гладкий Виталий
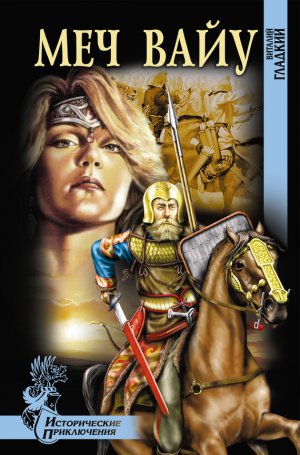
ГЛАВА 15
Дамас в полном боевом облачении стоял у края большой могилы, где на куче хвороста лежали трупы воинов, погибших во время ночного боя со сколотами. Их было много, в том числе несколько его телохранителей и дружинников из племенной знати. По случаю предстоящих сражений на военном совете было решено церемонию похорон провести как можно быстрее – сжечь погибших по-старинному обычаю воинственных предков. Хмурое лицо вождя языгов временами кривил нервный тик, и темные глаза вспыхивали огоньками едва сдерживаемой ярости. Свежая полоска шрама от еще не зажившей раны, полученной в схватке с Абарисом, перечеркивала левую щеку квадратного бородатого лица Дамаса, черные жесткие волосы были спутаны, жилистые короткопалые руки судорожно сжимали знак власти вождя племени – бронзовый топорик в виде оскаленной волчьей морды, священного тотема языгов.
Безмолвный Дамас наблюдал, как воины посыпали дно ямы мелом для очищения погибших, когда они предстанут перед солнцеликим божеством, как положили туда кусок серы и кремневое огниво (дань божеству домашних очагов), как поставили большое каменное блюдо-алтарь, натертое красной глиной – символ оживляющей крови и предстоящих жертвоприношений, как бросали в могилу передние ноги приготовленных к похоронной тризне баранов (даже не смогли положить, согласно обычаю, несколько обезглавленных туш из-за нехватки продовольствия), как ставили большие горшки с вином, забрасывали яму дровами и хворостом, как укладывали поверх сушняка тела погибших, а возле них оружие и уздечки их лошадей… Позади Дамаса в таком же безмолвии стояли спешенные воины отряда, знать. По другую сторону могилы, на широкой, тщательно расчищенной от травы площадке высились походные котлы; в них уже лежало приготовленное к варке мясо жертвенных животных – баранов и лошадей. Ждали знака главной жрицы.
Наконец со стороны лагерных кибиток послышалось громкое заунывное пение. Около десятка жриц медленным шагом приближались к могиле. Впереди шла главная жрица племени языгов, высокая костистая женщина с татуированным лицом и длинными распущенными волосами, окрашенными в священный красный цвет.
В руках она держала небольшое каменное изваяние солнцеликого божества, вымазанное кровью жертвенных животных. За нею, скорбно опустив головы, шли младшие жрицы, одетые в черные короткие плащи. Лица их были в ритуальной раскраске. Они несли небольшую зажженную курильницу и две бараньи головы. Скорбная мелодия бередила души воинов, низкие гортанные звуки витали над степью, поднимаясь к хмурому ненастному небу. Где-то вдалеке громыхал гром, над лагерем сармат кружило воронье.
У края могилы жрицы остановились. В полном безмолвии высыпала главная жрица часть горящих углей из курильницы на кучу хвороста, где лежали погибшие. Сухой ковыль задымился, вспыхнул, затем загорелся сушняк, и вскоре высокий огненный столб взметнулся над могилой. Бормоча заклинания, жрица швырнула в огонь бараньи головы; и только тогда задымили костры и под котлами.
Когда мясо сварилось, воины получили по небольшому куску. Запивая вином, торопливо проглатывали свою долю, не забывая при этом бросить в погребальный костер несколько крохотных кусочков мяса и брызнуть вина в жертву богам и покойникам. Затем, набрав полный шлем земли, каждый воин высыпал ее на могилу. Вскоре высокий холм прикрыл останки погибших. Громкие крики военачальников, звон оружия, лошадиное ржание наполнили лагерь сармат. Отряды строились в походные порядки и в клубах пыли уходили в степь. Дамас двинул войско на сколотов…
Тимн, придержав разгоряченного бегом коня, внимательно осмотрел горизонт. С небольшой возвышенности, на которой он находился, была видна сверкающая дуга мелководной речушки, притока Борисфена, редколесье по ее берегам и степь в ржаво-желтых солнечных подпалинах.
Пусто. Лишь вдалеке, у самого горизонта, Тимн заметил быстро передвигающиеся точки.
Присмотревшись, узнал диких лошадей-тарпанов. Что их напугало? Прикинул, откуда бежит табун, начал всматриваться в ту сторону. Вроде все спокойно, но почему там кружит воронье?
Тимн знал, что неподалеку находится один из тайных передовых дозоров. Тщательно укрытые в неглубокой балке лошади дозорных сколотов не были видны даже с холма, где находился Тимн. Там же была и большая куча хвороста для сигнального огня, хорошо замаскированная травой. Кузнец долго раздумывал – показаться или нет на глаза дозорным? – но переборол в себе чувство неуверенности и даже боязни перед будущим, неотвратимо приближавшимся с каждым шагом его скакуна в сторону Старого Города, и тронул поводья, направляя коня к балке. На худой конец, решил Тимн, передам весточку жене и детям, а также Марсагету и повременю с возвращением.
Дозорные его не выдадут – там такая же голытьба, как и он сам.
Неожиданно кузнец рывком натянул поводья – несколько хрупких березок прежде скрывали от его взгляда нечто такое, что теперь заставило бывалого следопыта насторожиться. Высокая, выгоревшая на солнце трава невдалеке от балки шевелилась как-то странно, не в такт с легкими порывами ветра. Стараясь понять причину этого явления, кузнец какое-то время пристально наблюдал за окрестностями балки. Затем, приняв решение, спешился, уложил коня возле березок, не забыв при этом привязать его, потому что чужой скакун еще не признавал Тимна за хозяина и мог просто-напросто сбежать, и нырнул в траву у подножия холма.
Кузнец торопился. Он ящерицей скользил среди травы, изредка останавливаясь, чтобы осмотреться и прислушаться. Озабоченно хмурясь, Тимн вглядывался в просветы между стеблями сухого ковыля, не решаясь окликнуть дозорных: смутные подозрения тяготили его и призывали к осторожности.
Приглушенные крики, звон акинаков, затем предсмертный вопль вдруг прозвучали в балке. «Эх, не успел!» – уткнулся кузнец в землю и едва не застонал от собственного бессилия и нерасторопности: нечто подобное он подозревал с самого начала.
– Эгей! Черный Лис! Ты живой? – негромко спросил чей-то хриплый голос.
– Живой… – ответил кто-то, не таясь и не понижая голоса.
– Уф-ф… – отдуваясь и с подозрением посматривая по сторонам, из балки вылез бородатый человек с серьгой в ухе.
– Что там, Кабан? – голос первого.
– Порядок. Чисто сработали, – ответил тот.
– Скачи к хозяину. Путь свободен, – снова хриплый голос.
– Почему я? – окрысился бородач с серьгой. – Отдохнуть не дают… Не поеду!
– Ладно. Как хочешь. Останетесь здесь вдвоем, – присоединился к нему еще один, одетый в звериные шкуры мехом наружу.
– Другое дело, Одинокий Волк, – осклабился Ка- бан. – Привезите вина.
– Хорошо…
Одинокий Волк вместе с остальными подручными пошел к перелеску.
Тимн лежал недолго: прислушиваясь к негромкой беседе в балке, он осторожно подполз поближе и, приподнявшись, посмотрел вниз. Мертвые дозорные лежали там, где их застали врасплох вражеские лазутчики. А те, посмеиваясь, собирали оружие убитых и делили между собой нехитрое имущество сколотов. Осмотревшись еще раз по сторонам, Тимн поднял лук, достал из колчана стрелу, прицелился. Загудела отпущенная тетива, и один из лазутчиков, вытаращив стекленеющие глаза, рухнул на землю. Второй, взвизгнув, как смертельно раненный заяц, огромными прыжками понесся по дну балки. Но убежать далеко не успел: следующая стрела воткнулась ему под левую лопатку…
Огонь охватил кучу сушняка в мгновение ока. Тимн, не оглядываясь, припустил бегом к своему скакуну. Приладив к седлу оружие соплеменников и бандитов, кузнец поскакал к лесу. Дымный столб поднялся к грозовому небу.
Остолбеневшие от суеверного ужаса лазутчики, возвращавшиеся во главе передового отряда сармат, даже не пытались молить о снисхождении, когда военачальник-аорс в ярости хлестал их боевой нагайкой со свинцовым наконечником. Замысел внезапного нападения на Атейополилс не удался. Но Дамаса это уже не могло остановить.
Первая стычка для сколотов закончилась удачно: военачальник одного из отрядов Дамаса позарился на небольшое стадо овец, в спешке потерянное пастухами, и попал в засаду. Спастись удалось немногим. Сколоты врагов не щадили и в плен не брали – лишние едоки им были ни к чему. Разъяренный Дамас, выслушав донесение военачальника, спасшегося только благодаря замечательной резвости скакуна, ни слова не говоря, проткнул неудачника мечом и, не оглядываясь, ускакал вперед, туда, где сотрясала земную твердь железная поступь тяжелой конницы сармат.
Войска встретились в двух днях пути от Старого Города. Это место было заранее облюбовано Марсагетом, на этот раз изменившего обычной тактике боя сколотов из-за малочисленности своих отрядов. Поле предстоящего боя бугрилось невысокими холмами, кое-где зеленели маленькие рощицы, темнели провалы оврагов. Марсагет надеялся, что тяжелая конница сармат на такой пересеченной местности потеряет свое преимущество.
Время уже было вечернее, когда обе противоборствующие стороны сблизились. Из-за позднего часа боевые действия были отложены до утра, и только самые нетерпеливые воины показывали свою удаль в коротких жарких поединках один на один. И с той и с другой стороны запылали костры, готовились в ночной дозор боевые охранения, воины приводили в порядок оружие и амуницию.
Абарис, сгорая от возбуждения, пожирал глазами сражающихся удальцов, с визгом и криками носившихся в степи. Меченый стоял рядом с юношей, посмеиваясь при виде порывов своего воспитанника вопреки запрету Марсагета принять участие в поединках. Но вскоре он начал хмуриться, горяча жеребца: широкоплечий языг в дорогом панцире праздновал уже вторую победу.
Вот он снова пустил коня в галоп, и тяжелое длинное копье воткнулось в грудь сколота с такой силой, что того словно ветром сдуло с седла, и он затих на земле, кровеня траву.
– И-и-еа-ах! – дикий вопль Меченого заставил вздыбиться жеребца Абариса; рванув поводья, ста- рый воин наметом поскакал вперед, где языг с хохотом показывал обозленным донельзя сколотам голову их товарища.
– Куда! Назад! Меченый, стой! – закричал Марсагет, в это время беседовавший неподалеку с Радамасевсом.
Но старый воин, видимо, уже ничего не слышал; да и возвратиться мешали гордость и ненависть к врагам, клокотавшие в груди.
Языг заметил Меченого и припустил ему навстречу. Три победы заставили его забыть об осторожности, хотя он и видел, что новый противник, не в пример первым, принадлежит к знати: боевой конь Меченого хороших кровей и дорогое оружие, которые не по карману простому воину, указывали на это.
На этот раз языг встретил достойного противника: копье пронзило пустоту, потому что Меченый молниеносно нырнул под брюхо жеребца, а затем, снова забравшись в седло, метнул дротик. Языга спасла надетая под панцирь кольчуга: дротик пробил панцирь и слегка оцарапал тело, разорвав несколько колец железной рубашки. Разозленный неудачей языг повернул коня и, поправив копье, из-за большой длины и приличного веса крепившееся ремнями к шее и крупу жеребца, снова поскакал навстречу Меченому. Тот снова увернулся от смертоносного острия, бросив коня в сторону, и с размаху рубанул мечом по древку копья. Отбросив обломки копья, языг выхватил меч и попытался достать Меченого, который кружил вокруг него, раз за разом поднимая коня на дыбы.
Мечи, сталкиваясь, роняли на землю россыпи ярко-желтых искр, и долго ни один из них не мог найти брешь в защите соперника.
Тем временем два сарматских воина, до этого безучастно наблюдавшие за поединком, начали не спеша приближаться к месту схватки, старательно маскируя свои намерения под видом полного безразличия к происходящему. Абарис первым заметил этот коварный маневр. Он пустил коня вскачь в тот момент, когда сарматы, уже не таясь, помчали к Меченому. Сын вождя правильно оценил создавшееся положение: помочь военачальнику сколотов, увлеченному поединком, мог только он, так как был ближе всех к месту схватки; его великолепный породистый жеребец мгновенно развивал очень высокую скорость в отличие от низкорослых лошадей простых воинов- сколотов, чрезвычайно выносливых в беге, но медленно набирающих ход.
Меченый увидел новых врагов, только когда аркан прижал его руки к туловищу. Но сдернуть его с коня сармат не успел: Абарис полоснул акинаком по аркану и словно ястреб налетел на опешивших от неожиданности воинов. Один из них попытался было достать его коротким копьем, но смертоносные молнии двух акинаков в руках Абариса заставили дрогнуть сармата, и в следующий миг холодное железо клинка до половины погрузилось ему в горло. Второй в испуге шарахнулся в сторону, и пока он разворачивал коня, Абарис метнул дротик, притороченный к седлу.
Тяжело раненный сармат хотел ускакать в свой лагерь, но теперь уже роли поменялись: искусно брошенный Абарисом аркан захлестнул его поперек туловища, и торжествующий юноша потащил поверженного по степи.
Меченый, добавивший к своим шрамам еще один, от языга, рубился с таким бешенством, что его противник начал помышлять о бегстве. Тем более, что на подмогу Меченому поспешил Абарис, налетевший на языга сбоку.
– Оставь! – захрипел Меченый, и Абарис отвернул коня в сторону; он понял: самолюбивый.
Меченый не желал делить победу даже со своим любимым учеником.
Неожиданно Меченый изменил тактику: на очередном развороте, перехватив меч левой рукой, правой он со страшной силой метнул боевой топор. Удар пришелся в голову языга; тот зашатался в седле, теряя сознание; и следующий удар, уже мечом, довершил начатое – мертвый противник.
Меченого завалился под копыта коня…
Сколоты ликовали. Сияющий Абарис и хмурый, но в душе довольный Меченый спешились и, не сговариваясь, по старинному обычаю, швырнули головы врагов под ноги Марсагету.
– В следующий раз накажу… – хмуря брови, сказал Марсагет, но, не удержавшись, обнял сына и прижал к груди.
Военный клич сколотов гремел над степью до полуночи – жрецы-гадальщики пророчествовали победу. Хмельной от счастья Абарис долго не мог уснуть, бродил по лагерю, а Меченый, тоже довольный сверх вся- кой меры, в противовес своему ученику, спал мертвым сном – что может позволить себе юность, то старости, увы, заказано…
С первыми лучами солнца начался бой. Вождь сколотов Марсагет торопил события, первым послав в атаку своих легкоконных лучников. Так как у сармат спешенных воинов не было, а тяжелая конница Дамаса еще не была построена в боевые порядки, сколоты с визгом и криками почти безнаказанно обрушили на врага тучи стрел. Искусные стрелки били из луков настолько прицельно и с такой быстротой, что первое время в рядах сармат возникло замешательство, едва не переросшее в панику. Сколоты волнами накатывались на лагерь Дамаса и, не входя в соприкосновение с боевыми порядками сармат, возвращались обратно, чтобы снова кружить нескончаемую смертноносную карусель. Казалось, вот-вот ряды сармат дрогнут и они обратятся в бегство. Но не растерявшийся вождь языгов бросил на сколотов несколько отрядов своей легкой конницы, и противники сошлись врукопашную. Ободренные первым успехом, сколоты вначале рубились на равных, но свежие отряды врага, ударившие с флангов, заставили их отступить. Сарматы, повинуясь окрикам военачальников, их не преследовали; пустив вдогонку по две-три стрелы, они возвратились обратно.
Марсагет, внимательно наблюдавший за боем, пока не отдавал приказ о наступлении своим главным силам. Он понимал, что основные события развернутся, когда придет в движение закованная в железо конница сармат. Военачальники роптали, дивясь несвойственной вождю сколотов нерешительности – только очень немногие знали замысел Марсагета, родившийся бессонными ночами. Удивление военачальников возрастало по мере того, как обнаружилось, что среди них отсутствовали Меченый со своим отрядом отборных воинов и сын вождя Абарис. Но привыкшие на войне повиноваться воле вождя беспрекословно, они осаживали наиболее нетерпеливых воинов, опьяненных видом крови и первых схваток с врагами.
Наконец двинулась главная ударная сила сармат. Плотно сомкнув ряды, сверкая на солнце начищенным железом панцирей, бронзовыми нагрудниками и налобниками могучих коней, ощетинившись лесом тяжелых копий, страшный пробивной силой боевой клин сармат начал разбег.
Загудела земля под тяжелой лошадиной поступью, многочисленные отрядные значки на длиных шестах, сшитые из разноцветных лоскутков прочной ткани в виде свирепых драконов, развевались и свистели на скаку, военный клич сармат волнами накатывался на боевые порядки сколотов.
Марсагет выжидал. Хищно сощурив глаза, до крови прикусив нижнюю губу, он внимательно следил за тяжелой конницей сармат. Вот клин, убыстряя бег, проскочил ровное пространство, затем пологие откосы оврага, перевалил через косогор – и наткнулся на холмистую гряду с обрывистыми склонами. Клин на глазах начал расползаться, утратив присущую ему строгость очертаний и плотность рядов. Время! Марсагет, не оборачиваясь, взмахнул акинаком, и яростный рев взметнулся над лагерем сколотов – горяча коней нагайками, несколько отрядов ринулись навстречу врагам.
Дамас, удивленный не менее военачальников Марсагета его странной медлительностью, что было вовсе не похоже на вождя сколотов, в последний момент, подозревая какую-то хитрость, придержал коня, передоверив командовать клином одному из военачальников, несмотря на то, что это было не в правилах вождей сармат, обычно идущих в центре боевых порядков. С тревогой и недоумением наблюдал вождь языгов, как выметнулись навстречу его воинам легкоконные отряды сколотов, как они, сближаясь, на полном скаку стреляли из луков.
На какой-то миг сколоты скрылись из глаз Дамаса за стеной боевых порядков сармат, и только дикие вопли, скрежет и звон мечей, ржание ошалевших лошадей указывало на то, что началась рукопашная. Затем случилось невероятное – железный клин, его надежда и гордость, рассыпался на куски! Дамас разразился проклятиями и встал во весь рост на круп жеребца, чтобы лучше видеть, что там стряслось.
И он увидел: спешенные сколоты, не обращая внимания на грозные мечи сармат, рискуя быть растоптанными, с отчаянием смертников ныряли под коней, вспарывая акинаками незащищенные металлом животы и сухожилия на ногах животных.
В мертвом ужасе лошади становились на дыбы, сбрасывая всадников, где их, неповоротливых из-за доспехов, тут же приканчивали сколоты. Сарматы, ошеломленные таким неожиданным поворотом событий, уже не помышляли о продвижении вперед; пытаясь выбраться из кровавого побоища, они еще больше усугубляли свое положение сумятицей и неразберихой. Многие военачальники были убиты в самом начале схватки, а команды оставшихся тонули в страшном гвалте, стоявшем над полем боя.
Боевой клич сколотов прогремел над степью – Марсагет и Радамасевс ударили с флангов.
Пошли в ход арканы: не зная, откуда ждать опасности, сарматы не успевали вовремя освободиться от волосяных петель, и сколоты с гиканьем и свистом волокли по истоптанной земле гремящие железом кули, чтобы затем прикончить заключенных в непробиваемую скорлупу обеспамятевших врагов. Кровавая сеча разгоралась…
Дамас, вне себя от ярости, с отчаянным воплем ринулся в самую гущу схватки, увлекая за собой легкую конницу и своих тяжеловооруженных телохранителей. Словно буря налетел он на сколотов, оставляя за собой кровавый коридор из трупов. На какое-то мгновение сколоты дрогнули, разлетелись в стороны, будто листья под порывом ветра. Но Марсагет, ни на миг не упускавший из виду вождя языгов, бросился к нему навстречу со своими отборными дружинниками.
И закружила рубка, какой еще не было в этом бою. Противники сошлись, достойные друг друга: умудренные боевым опытом, закованные в железо, подхлестываемые ненавистью. Словно яичные скорлупы раскалывались шлемы, в клочья изрубленные панцири обагрились кровью, щиты напоминали решето и часто выбрасывались из-за полной непригодности. Лошади, взбесившиеся от запаха крови и боли, с остервенением грызли друг друга, топтали раненых, калечили седоков, не успевавших вовремя соскочить на багровую от потоков крови землю, когда в предсмертном порыве кони становились на дыбы, валились на спину или на бок.
Дамас, неистовый, с пеной у рта, пробивался к Марсагету – его красный плащ был виден издалека. Наконец они схлестнулись: мечи со скрежетом ударились, высекая искры, звонким гулом откликнулись щиты, окованные железными пластинами, задребезжали панцири. Марсагет, спокойный и уравновешенный, с дедовским акинаком в руках, легко отражал наскоки разъяренного вождя языгов, не уступая тому ни в силе ударов, ни в быстроте. Рядом остервенело рубились их телохранители, тем не менее не посягая на право вождей свести кровавый счет друг с другом.
Бой между вождями шел на равных. У обоих было уже несколько ранений, но они, не обращая ни малейшего внимания на боль, снова и снова поднимали своих жеребцов на дыбы, чтобы в очередной раз обрушиться на соперника. Неизвестно, чем бы закончился поединок, но тут между ними вклинился свежий отряд сколотов, состоящий из конюхов Радамасевса, оставленных присматривать за запасными лошадьми – не теряющий головы вождь бросил их на левый фланг, где у сармат был значительный численный перевес. Этот водоворот закружил вождей, раскидал их в разные стороны, и напрасно Дамас рычал от злости, стараясь увидеть в тучах пыли красный плащ.
Марсагета – вождь сколотов был уже далеко от него, и пробиться сквозь свежие силы противника не было возможности.
– Эорпата![78] Эорпата! – прорвался сквозь неумолчный гул схватки крик сколотов с правого фланга, куда ударил новый отряд сармат.
Это была последняя надежда Дамаса изменить ход событий на поле битвы в свою пользу. Сколоты стояли твердо, дрались с воодушевлением, чего нельзя было сказать о его воинах, все еще находившихся под впечатлением кровавой бойни, учиненной воинами Марсагета в начале схватки. И это был отборный отряд сарматских девушек-амазонок, обычно в рукопашных схватках участия не принимавших, а воевавших только в качестве легкоконных стрелков. Но обстоятельства вынудили Дамаса пожертвовать и этим отрядом, чтобы добиться перелома в битве.
Амазонки, легкие и стремительные на своих низкорослых быстрых лошадках, вначале внесли сумятицу в ряды сколотов, засыпав их стрелами. Да и непривычно было сколотам Марсагета воевать против женщин, и не у одного юноши дрогнула рука с акинаком при виде отважных воительниц, о чьей красоте не раз были наслышаны от дедов-прадедов. Но тут подоспел со своим отрядом военачальник Санэвн и сколоты племени Радамасевса – в их памяти еще были свежи воспоминания о разрушенном сарматами родном поселении, об угнанных в рабство женах и сестрах, – и они со свирепой радостью врубились в ряды амазонок. Словно стройные камышинки под напором ураганного ветра гнулись, ломались девичьи тела, пусть облаченные в надежные кожаные панцири, но все же по силе уступавшие закаленным в боях воинам-мужчинам. И туманились глаза сарматских красавиц предсмертной слезой, которую уже не увидеть их суженым, и рубиновые капли крови затаптывались в грязное месиво копытами лошадей. Крови, которая никогда не будет струиться в жилах их детей, так и не увидевших свет, крови, поглощаемой взахлеб жестоким и равнодушным к человеческому горю Мечом Вайу…
Протяжный вопль отчаяния среди сколотов взметнулся над степью, чтобы тут же захлебнуться в громе боевого клича сармат. Марсагет, холодея от увиденного, оставил поле боя и вместе с неразлучными телохранителями мигом взлетел на пригорок. Из глубины степи на торжествующих в предчувствии близкой победы сколотов надвигался новый железный клин сармат! Воспрянувшие духом воины Дамаса собирались в боевые порядки, чтобы тут же атаковать ошеломленного противника.
Марсагет застонал от отчаяния, поникнув головой. Победа была так близка… Одного взгляда хватило опытному воину, чтобы понять – битва проиграна. Осталась только единственная возможность, последняя – отойти к Атейополису по возможности с малыми потерями. Он подозвал двух воинов и отдал приказ; пригнувшись к лошадиным шеям, они распластались в стремительном галопе и вскоре исчезли из виду в оврагах. Но кто, кто пришел на выручку Дамасу?!
Вождь языгов не верил своим глазам. Он протер их, бормоча молитвы, все еще не в состоянии осмыслить происходящее. И только когда рассмотрел боевые значки, которые реяли над головами воинов подоспевшего очень кстати отряда, едва не захлебнулся от радостного крика – Карзоазос!
Значит, все-таки решился военачальник аланов принять участие в походе на сколотов вопреки воле вождей. Впрочем, что побудило друга пойти на этот шаг, Дамаса не интересовало – вздыбив коня, он бросился в самую гущу схватки…
Меченый со своим отрядом был последней надеждой Марсагета. Ранним утром, под прикрытием темноты Меченый увел воинов по оврагам далеко в степь, затем сделал крюк и, возвратившись, стал в засаде неподалеку от поля битвы, расположившись в глубокой балке, поросшей кустарником. По замыслу Марсагета он должен был ударить неожиданно во фланг сарматам, чтобы окончательно решить исход боя в пользу сколотов. Самые опытные и хорошо вооруженные воины, в основном знать племени, были под его началом. Здесь же был и Абарис. Затаившись среди кустов, укрывшись в высокой траве, они внимательно наблюдали за битвой, с нетерпением ожидая приказа Марсагета.
Появление отряда аланов Карзоазоса не осталось незамеченным разведчиками сколотов, и горячий. Абарис хотел было ударить им навстречу. Но Меченый, значительно лучше разбирающийся в воинской науке, неожиданно резко осадил своего не в меру ретивого ученика. Что бой проигран, он понял еще раньше Марсагета. Понял он и то, что от его отряда зависит многое, если не все. Поэтому момент для удара по прибывшему отряду аланов нужно было выбрать самый подходящий, когда все воины Карзоазоса ввяжутся в схватку, забудут про осторожность, опьяненные первым успехом, когда сарматы покажут спину его воинам.
Посланные Марсагетом гонцы торопили Меченого выполнить приказ вождя – нанести спасительный удар, чтобы отвлечь часть сил врага и дать возможность вовремя отступить отрядам сколотов. Но тот хмуро отмалчивался, пристально наблюдая за боем. Наконец военачальник вскочил на коня, и сколоты выплеснулись из балки в степь. Загудели тетивы дальнобойных луков, и длинные стрелы, пробивающие даже панцири, внесли сумятицу в ряды врагов. Гориты опустели наполовину, когда воины отряда Меченого сошлись врукопашную с аланами Карзоазоса.
Расчет Марсагета оправдался: Дамас не рискнул преследовать основные силы сколотов, пока в тылу у него был такой опасный вражеский отряд, и те успели отойти к своему лагерю, где их ждали свежие лошади. Завидев это, хладнокровный Меченый подал команду к отступлению, и, огрызаясь на скаку смертоносными стрелами, сколоты припустили вслед своим товарищам. Бешеная скачка продолжалась до сумерек. Наконец погоня поотстала, а потом сарматы и вовсе возвратились в свой лагерь: догнать на своих изрядно подуставших во время боя лошадях сколотов, ведущих на поводу запасных коней, было невозможно, и сарматами, принявшими участие в погоне, больше руководило чувство азарта хищников, идущих по кровавому следу, чем здравый смысл.
Через трое суток сарматы осадили Атейополис.
ГЛАВА 16
Опии нездоровилось. Она лежала в опочивальне бледная, похудевшая, изредка постанывая.
Служанки-рабыни ходили на цыпочках, стараясь не потревожить покой госпожи. Разнообразные мази и притирания, готовившиеся тут же, у ее ложа, и старательно втираемые в кожу утром и вечером, не приносили желанного выздоровления. Отвратительные на вкус настои трав тоже не помогали, только вызывали изжогу, тошноту и обильный пот. Целительный сон уже давно не посещал Опию; ночью, забывшись в полудреме, она видела кошмары, и вспугнутые ее криком служанки зажигали светильники, так как госпожа стала бояться темноты.
Абарис навещал ее редко; посидев немного у изголовья больной, он снова мчался на валы, чтобы помочь отбить очередной приступ сармат. Опия не обижалась на сына, понимая, что ему теперь не до нее – Абарису поручили командовать одним из отрядов, начальник которого сложил голову в бою. Поэтому Абарис был обязан в первую очередь позаботиться о своих воинах, чтобы они были вовремя накормлены, чтобы оружие было в полном порядке, чтобы на порученном ему участке вала было в достатке камней для пращей, кипятка, бревен, дров, чтобы ночная стража случаем не задремала – да мало ли и других не менее важных забот выпало на его долю.
Марсагет заходил еще реже. Скупо роняя слова, он пытался ободрить жену, но это у него не очень получалось, и тогда, погладив ее по щеке огрубевшей от оружия ладонью, Марсагет почти бегом выходил из дома и, вскочив на коня, ехал по акрополю мрачнее грозовой тучи. Вождя начали одолевать сомнения: вдруг ложную клятву хранительнице очага принес Тимн, а он его освободил от наказания, тем самым вызвав справедливый гнев Священной Табити? Вдруг из-за этого сколоты потерпели поражение в первом бою?
Чтобы умилостивить богиню, Марсагет несколько раз устраивал торжественные жертвоприношения, но это не помогало: по-прежнему сарматы окружали Старый Город, и по- прежнему Опия таяла на глазах.
Осада затягивалась, что было не на руку Дамасу. Вождя сколотов такое положение тоже не устраивало, потому что запасы провианта в Атейополисе не безграничны, а надежды на урожай в этом году рассеялись, как дым от сожженных полей. Подсчитывая убытки, Марсагет ярился, но исправить что-либо был не в состоянии – сил на ответный удар явно не хватало. И тогда на воинском совете было принято решение просить помощи у царя Скилура и вождя племени траспиев, брата Опии. Если второе предложение – послать посольство к траспиям – ни у кого не вызвало возражений, то на первое вынудило пойти только отчаянное положение осажденных. И Марсагет, и знатные люди племени понимали, что теперь их вольностям, а значит, и доходам от торговли пришел конец: царь Скилур потребует в качестве платы за оказанную услугу беспрекословного подчинения и присоединения к его государству. Но выбирать не приходилось – жизнь дороже…
В одну из темных ночей сколоты предприняли отчаян-ную вылазку. Пока шел ночной бой, посольства сколотов проскользнули мимо вражеских сторожевых постов и незамеченными скрылись в степи. Во главе одного из них – к царю Скилуру – был Аттамос, брат Радамасевса, второе возглавил сын Марсагета Абарис, племянник вождя племени траспиев.
Потянулись долгие, томительные дни ожидания. Их однообразие нарушали лишь робкие попытки сармат взять Атейополис приступом. По всему чувствовалось, что сарматы готовятся к последнему, решающему штурму.
Светало. Марсагет, задумавшись, не спеша ехал в сопровождении двух телохранителей по Старому Городу. Мерная поступь коня убаюкивала, путая безрадостные мысли. Неожиданно конь всхрапнул и резко отпрянул в сторону; телохранители молниеносно взяли на изготовку тугие луки, целясь в человека, словно из-под земли выросшего на пути вождя. Это был высокий худой старик, одетый в рваный длинный плащ; сквозь прорехи торчали клочья шерсти звериной шкуры, заменявшей ему рубаху или кафтан. Замызганые кожаные шаровары, протертые на коленях до дыр, свободно ниспадали на какое-то подобие обуви, представляющее собой грубо сшитые заячьи шкурки мехом внутрь, туго подвязанные свежим лыком выше щиколоток. Длинные волосы старика падали на лицо, в седой бороде запуталось несколько сухих травинок, темное лицо в шрамах застыло каменной маской, настолько безжизненной, что вождю захотелось дотронуться до него рукой, чтобы убедиться, не сон ли это.
– Что тебе нужно, старик?
– Смерть ходит вокруг твоего дома… – глухой голос, казалось, раздался откуда-то со стороны, и Марсагет едва не обернулся, чтобы удостовериться в этом.
Присмотревшись к старику повнимательней, Марсагет заметил привязанные к поясу деревянные резные фигурки богов и небольшую кожаную сумку; из нее выглядывали пучки травы. Теперь он уже не сомневался, кто перед ним – один из отшельников, славившихся искусством врачевания. В былые времена они часто заходили в Атейополис, но жрецы воспротивились этому, потому что отшельники гораздо лучше их лечили сколотов, тем самым подрывая авторитет жрецов. После этого лесные врачеватели больше не появлялись в пределах Старого Города. Слабая надежда затеплилась в груди вождя, и он сказал, легким наклоном головы выразив свое почтение к старцу:
– Ты прав. Могу я надеяться на твою помощь?
– На все воля богов… Веди…
В опочивальне Опии царил полумрак, лишь крохотный светильник грустно подмигнул вошедшим. Отшельник подошел к постели, где в полудреме забылась жена вождя, и надолго застыл, уставившись на лицо Опии, словно высеченное из белого мрамора. Марсагет стоял позади старика не шевелясь, мысленно творя молитву Великой Табити.
– Пусть все уйдут из дома. Ты останься…
Его глухой голос разбудил Опию. Она приоткрыла глаза, испуганно посмотрела на него. Старик мгновенно отпрянул от постели, слегка прикрыв лицо рукой.
– Кто… это? – чуть слышно прошептала Опия.
– Успокойся, это твой исцелитель, – наклонился над женой вождь, поправляя одеяло из бобровых шкур, считавшихся у сколотов лечебным средством против многих простудных заболеваний.
– Хорошо… – Опия прикрыла глаза.
Марсагет обернулся к старику – и едва не отшатнулся под зловещим взглядом врачевателя, вперившего в него свой единственный глаз с таким выражением, что Марсагету захотелось проткнуть его мечом, чтобы потушить жгучий огонь, бушующий внутри зрачка. Но отшельник тут же опустил голову и забормотал заклинания.
– Что еще нужно? – пересилив в себе неожиданно вспыхнувшую неприязнь, спросил Марсагет.
– Стань в угол… Нет, в тот…
Марсагет хотел сказать старику, что если что-нибудь случится с Опией после его врачевания, то ему не сносить головы, как вдруг почувствовал, что не может пошевелить языком; ноги и туловище его закостенели, руки бессильно повисли, и он застыл совершенно неподвижно в углу опочивальни. Только глаза не потеряли способность видеть.
Тем временем отшельник зажег еще два светильника и поставил у изголовья больной. Беспрерывно бормоча заклинания, он сунул руку в сумку, вытащил горсть белого порошка и просыпал им узенькую дорожку от постели Опии к входной двери. Затем прикрыл ладонями светильники и резким движением поднял вверх руки. Пораженный вождь увидел, как крохотные светлячки вдруг затрепетали, взметнулись ввысь, превратившись в три огненных щупальца; переплетаясь, они осветили опочивальню ярким голубовато-белым светом. Какой-то странный неприятный запах, от которого запершило в горле и на глазах выступили слезы, наполнил комнату.
Сквозь слезную поволоку вождь увидел, как старик склонился над Опией, словно прислушиваясь к ее дыханию, затем стремительно отпрянул от постели и негромким, заунывным голосом запел.
Странные шорохи наполнили опочивальню. Чувствуя, как на голове зашевелились волосы, не в силах даже крикнуть от ужаса при виде картины, представшей перед ним, Марсагет безумными глазами следил за тем, как из-под ложа Опии сначала побежали черные большие тараканы, затем мыши, за ними, неуклюже подпрыгивая, толстая безобразная жаба… Вся живность направлялась строго по белой дорожке из порошка и исчезала за порогом двери. Наконец сверкнули тугие кольца, и совершенно переставший что-либо соображать вождь сколотов увидел длинное гибкое тело змеи – словно темный ручей, она заструилась к выходу.
Голос отшельника крепчал. Какие-то новые нотки – торжествующие – вклинились в заунывный речитатив мелодии; светильники начали медленно затухать, превращаясь в желтые трепещущие лепестки. Старик вытащил из-под рубахи маленький алабастр, вынул пробку и, приподняв голову Опии – она, совершенно безучастная ко всему, лежала, глядя в потолок – влил ей в рот какое-то снадобье. Тело жены вождя несколько раз судорожно дернулось, лицо искривила гримаса боли, потом она закрыла глаза и задышала ровно, глубоко, полной грудью…
Марсагет очнулся во дворе. Он с трудом вспомнил все происходившее в опочивальне Опии, а затем голос старика – он взял его под руку и вывел из комнаты, попросив не заходить, пока он не позовет. Тело постепенно наливалось прежней силой, сердце упругими толчками разгоняло кровь по жилам, и только ноги повиновались с трудом. Обеспокоенный долгим отсутствием отшельника, оставшегося у ложа Опии, он было направился туда, но тут же остановился, вспомнив мерзкие видения и предупреждения врачевателя не входить в комнату. Потоптавшись у порога в нерешительности, вождь прислонился к стене, прислушиваясь к тишине внутри дома.
Старик появился внезапно; стоя в черном провале входной двери, он кивком пригласил Марсагета следовать за собой.
Опия спала. Ее щеки порозовели, по-детски припухшие губы приоткрылись, обнажив сверкающие белым перламутром ровные зубы.
– Возьми, – отшельник протянул Марсагету алабастр. – По маленькому глотку перед сном…
Марсагет машинально взял крохотный сосудик, по-разившись внезапной перемене в облике старика: глубокая печаль затаилась в морщинах лица, голос дрожал, прерываясь; он стоял, сутулясь, словно тяжелый груз давил ему на плечи. Только теперь вождь заметил, что под рваным плащом старца топорщится горб. Не прощаясь, отшельник медленной походкой вышел из опочивальни…
Опия выздоравливала на удивление быстро. Уже к вечеру третьего дня она вышла во двор акрополя и некоторое время прогуливалась там, правда, не без помощи служанок, поддерживающих ее с обеих сторон. Марсагет не мог нарадоваться при виде здорового румянца на щеках и только изредка хмурился, вспоминая таинственного врачевателя – он исчез, словно сквозь землю провалился. Телохранители перевернули вверх дном весь Атейополис, но старика найти не удалось.
Никто его не знал и не видел, и вождь задавал себе не раз вопрос: каким образом таинственный врачеватель очутился в Старом Городе и как ему удалось незамеченным пройти мимо многочисленных дозорных? Но ответить на этот вопрос он так и не смог.
Опия часто и подолгу рассматривала алабастр. Она смутно припоминала косматую бороду старика, рваный плащ на его плечах, глухой голос, но вспомнить черты лица не могла. Жена вождя гладила черные лакированные бока алабастра, где рукой талантливого художника была тонко прорисована белой и красной красками сценка из жизни эллинов: мужчина-воин лежит обессилевший от ран, сжимая в руках меч, а юная грациозная девушка в исступлении протягивает вверх руки, творя молитву богам.
Однажды Опия уронила пробку, которой плотно закрывался алабастр, и, поднимая ее с пола, обратила внимание на странные закорючки, выдавленные в обожженной глине с внутренней стороны. Опия щупала их, словно слепая, все еще не осознавая, откуда ей знакомы эти замысловато переплетенные линии, заключенные в небольшой овал; и вдруг почувствовала, что теряет сознание. Слабый крик, похожий на стон, сорвался с ее губ, и подоспевшие вовремя служанки подхватили обеспамятевшую госпожу на руки…
Лик, серьезный и повзрослевший, вместе с другими подростками днями пропадал около валов: носил воду, хворост для костров, перетаскивал камни, тушил зажигательные стрелы – их бросали сарматы, чтобы поджечь близлежащие хижины и юрты переселенцев. Изредка он ухитрялся забраться на самую верхушку вала и, притаившись где-нибудь у кучи камней или бревен, наблюдал за вражеским лагерем, раскинувшимся по берегам озера и в степи. Возле юрт толпились воины, дымились многочисленные костры, изредка появлялся в окружении знати вождь языгов Дамас.
Сарматские наездники лихо гарцевали вблизи валов, вызывая защитников города на поединки, показывали с хохотом воинские трофеи – скальпы погибших в бою сколотов – и обзывали своих противников трусами, грозя сжечь Атейополис дотла. Сколоты только зубами скрипели от злости, глядя на безнаказанные выходки врагов, но в драки не ввязывались из-за запрета вождя племени. И только когда какой-нибудь наездник, увлекшись, приближался чересчур близко, сверху со свистом летели стрелы лучников, не знающие промахов. Сармат становился похожим на огромного ежа и на полном скаку вылетал из седла на жесткую земную твердь.
Иногда в каком-нибудь месте, чаще у северных, главных ворот, сарматы пытались забросать ров с водой вязанками хвороста и камнями, чтобы подступить поближе, но сколоты зло огрызались стрелами и дротиками, а если кому-то из врагов удавалось добежать до подножья вала, то и хорошей порцией кипятка. Правда, при этом и им доставалось: отряды прикрытия сармат густо сыпали на валы длинные стрелы из дальнобойных луков, и уже не один сколот сложил голову от смертоносных подарков врага. По ночам сарматы подползали к валам и, затаившись в кустарнике, терпеливо выжидали удобного случая, чтобы поразить стрелой какого-нибудь не очень осторожного воина из ночного дозора, если он появлялся на гребне вала. Сколоты тоже не оставались в долгу: уже несколько раз им удавались внезапные ночные вылазки, богатые на трофеи. А как-то брат Лика заарканил одного из военачальников аорсов и по этому случаю подарил Лику свой боевой лук, потому что теперь оружие знатного сармата принадлежало ему. И Лик настойчиво искал возможности испытать лук в настоящем деле. Поэтому он и старался всеми правдами и неправдами пробраться на валы, куда ребятне появляться было строго запрещено. Но Лику явно не везло: в тех местах, куда он забирался, сарматы не появлялись, а у северных ворот его драли за уши воины сторожевых постов и прогоняли, невзирая ни на какие уговоры.
Часто Лик навещал и осиротевший двор кузнеца Тимна, где стал желанным гостем и помощником. Так как для нужд обороняющихся требовалось много разнообразного воинского снаряжения, у наковальни теперь работал вместе с напарником Тимна и сын кузнеца – он был старше Лика на два года. Поэтому Лик нередко становился к деревянной раме кожаного меха и старательно раздувал пышущее жаром нутро старого, не раз и не два чиненого горна, чтобы помочь Ававос; теперь она, из-за отсутствия других мужчин в доме, занималась этой работой. К тому же в семье кузнеца и питались значительно лучше, чем домочадцы Лика, так как кузнечное ремесло высоко ценилось среди сколотов, а значит, и жили они побогаче, нежели скотоводы, имея возможность выменять за свои изделия вполне достаточное количество продуктов, чтобы удовлетворить насущные нужды. Обеды, которыми угощали Лика в семье кузнеца, были хорошим подспорьем в скудном пайке, ожидавшем его дома.
Лик помогал кузнецам отливать бронзовые наконечники стрел, потому что привозного железа было мало и его использовали только для ковки наконечников копий и дротиков, а также ножей и акинаков, очищал литейные формы от шлака и нагара, колол дрова, затачивал зубила. В скором времени он научился обмазывать огнеупорной глиной готовые акинаки перед тем, как сунуть их в печь, оставляя лишь узенькую полоску лезвия, чтобы железо приобрело необходимую прочность, научился по цвету раскаленной заготовки определять продолжительность ковки и даже как-то сварил обломанную ручку железных клещей.
Ававос, которую Лик подменял у кузнечного горна, тоже не теряла времени зря. С прошлого года под навесом лежала куча высушенной конопли, и Ававос связывала длинные стебли в пучки, окунала в воду, сушила, подвешивая корнями вверх, затем трепала ее на плоских камнях деревянным вальком – колотила подолгу, потому что силенок еще было маловато. Мать и Майосара, грустная и исхудавшая, занимались выделкой выменянных кож: прокуривали их дымом, дней шесть-восемь выдерживали в яме с золой, чтобы легче было удалить шерсть, счищали мездру, промывали, растягивали на плоских камнях и били по коже железными молотками, чтобы она стала мягче и тоньше. Потом, обрезав ненужное, долго выглаживали и лощили костяными ножами до полной готовности. Иногда Майосара закрывалась в хижине, где стоял небольшой ткацкий станок, и тогда мать, тяжело вздыхая, прислушивалась к стуку деревянных рамок, заглушающем негромкий плач.
Лик и Ававос, не сговариваясь, помалкивали о своих приключениях в лесном урочище у капища киммерийских богов: Ававос – из суеверного ужаса, внушаемого всемогущим сборщиком податей, а Лик – по причине чисто мальчишеского свойства: ему хотелось разгадать тайну пещеры, чтобы заслужить наконец похвалу взрослых, так несправедливо поступивших с ним после ночной вылазки за стрелами и копьями. И Лик с нетерпением ждал конца осадного положения и победы сколо-тов (в чем у него не было ни малейшего сомнения), чтобы снова навестить таинственное урочище каменных идолов.
ГЛАВА 17
Полуденная степь дышала жарко, словно хорошо протопленная печь. Голубой небесный купол, у горизонта размытый белесой дымкой, казалось, плавился и невидимыми глазу капельками стекал к ярко-желтому солнечному диску. Степное разнотравье – клевер, шалфей, синеголовик, полынь, лебеда – покорно склонилось к земле, вялое, измученное палящим зноем. Только злаки – ковыль, пырей, мятлик, тонконос, бородач, житняк – иссушенные до самых корневищ, щетинились ржавым листом навстречу солнечным лучам. Изредка робкий ветерок осторожно касался земли, но, напуганный шорохом сухостоя, тут же взлетал ввысь и растворялся над бескрайними степными просторами.
Серый суслик выглянул из норки, осмотрелся и быстро взбежал на пригорок. Что-то потревожило крохотную зверюшку: он тщетно пытался заглянуть за колючий травяной частокол, где рождалось нечто грозное и непонятное.
Неожиданно дробный перестук копыт нарушил знойное безмолвие, и большой табун куланов промчался неподалелку от суслика. Но обычно пугливый зверек даже не шелохнулся. Добрый десяток длинноногих тушканчиков во всю мочь последовали за куланами, подпрыгивая выше травы. Заяц, заложив уши за спину, бежал с такой скоростью, словно его по пятам преследовала лиса. Впрочем, и рыжая разбойница вскоре появилась; но странное дело – она даже не обратила внимания на маленького зайчонка, запутавшегося в высокой траве и угодившего прямо под лисьи лапы.
Степь словно проснулась: катились серыми комочками мыши-полевки, смешно переваливаясь, спешили куда-то толстые хомячки, стремительно скользили степные гадюки, желтобрюх обгонял юрких ящериц. Длинноногие дрофы, вытянув шеи, бежали вслед за выводками куропаток, порхали перепуганные перепелки – все живое стремилось убежать, уползти, улететь от надвигающейся опасности. Даже степной хорек, извечный и грозный враг суслика, проскочил мимо, не посмотрев в его сторону.
Но если земные обитатели в страхе перед грядущим забыли свои инстинкты, то пернатые хищники справляли кровавый пир. Вот пустельга упала в траву, и перья куропатки закружились над землей; степной орел камнем обрушился на выводок дрофы и принялся жадно глотать горячее мясо; степной лунь, бесшумный, как сама смерть, свалился на коростеля и вмиг разодрал его когтистыми лапами.
Степь горела. Грязно-серый дым полз вслед за оранжевыми языками пламени, поднимаясь все выше и выше. Огненный вал, с шипением и треском подминая сухо- стой, катился по степи, убыстряя бег – подул легкий ветерок. Едкий запах гари далеко опережал пожар. Горячий воздух вибрировал, гудел, словно в горне; земля стонала, покрываясь черной траурной накидкой из пепла…
Всадники неслись во весь опор. Каждый из них вел в поводу по две запасных лошади. Проскочив глубокую балку с пологими склонами, они едва не столкнулись с табуном куланов; притороченные к седлам дротики в мгновение ока оказались в руках, и три кулана с хрипом упали на землю.
Свежевание добычи не заняло много времени. Прикрепив сложенное в шкуры мясо на спины запасных лошадей, всадники снова помчались вперед…
– Стоп! – на полном скаку осадив коня, Абарис поднял руку.
Дымное облако выползало из-за горизонта стремительно и неудержимо. Звуки, напоминающие шум сильного дождя, наполняли окрестности. Огонь еще не был виден, скрытый дымной пеленой, но искры, словно пчелы во время роения, вычерчивали замысловатые зигзаги, падали в сухую траву и таились там до поры до времени, чтобы затем расползтись по степи багровыми ручейками.
– Горит степь! – воскликнул встревоженый Абарис, с трудом удерживая коня, пытавшегося повернуть назад.
Посольство Марсагета к траспиям было в пути уже четвертые сутки. Позади остались переправы через Борисфен, Парату[79], Гипанис и Тирас, не говоря уже о неподдающихся счету реках поменьше.
Но если через мелководные речушки переправиться не составляло труда, так как опытный проводник знал броды, то большие реки доставили им немало хлопот. Переправлялись сколоты вплавь, держась за конские хвосты и предусмотрительно захваченные в дорогу большие бурдюки – их надували воздухом. Хуже всего пришлось лошадям: из-за спешки взяли несколько неприученных к большой воде, и шесть запасных пошли ко дну: четыре – при переправе через Борисфен, одна – через Парату и еще одну поглотили изумрудно-зеленые волны Гипаниса. Пришлось купить недостающих у одного из вождей сколотов – его племя кочевало возле Гипаниса и подчинялось царю Скилуру. Обошлось это недешево, но Абарис не тор-говался: без запасных лошадей путь к траспиям удлинялся по меньшей мере на двое суток. И теперь посольство было в землях алазонов[80], примерно в тысяче стадий от берегов Истра, путь к которому преградила огненная завеса.
– Что будем делать? – обратился Абарис к проводнику.
– Нужно поворачивать коней к реке, сын вождя, – уверенно ответил тот, окинув взглядом дымный шлейф, опоясавший полнеба. – Огонь очень сильный, объехать не удастся.
– Нет! – гневно выкрикнул Абарис. – Мы не имеем права терять столько времени!
– Но что можно предпринять? – смиренно пробормотал проводник и вдруг оживился: – Разве…
– Ну-ну! – торопил его Абарис.
Проводнику долго объяснять не пришлось – его поняли с полуслова: прирожденные кочевники, пусть теперь и оседлые, но сохранившие в глубоких тайниках памяти многовековую мудрость и опыт поколений, вспомнили этот способ борьбы с огнем в степи. И, уже не мешкая, спешились и принялись с остервенением дергать неподатливые жесткие стебли сухостоя, расчищая площадку побольше, с расчетом, чтобы на ней свободно могли уместиться люди и кони.
Огонь приближался. Его жаркое дыхание коснулось лошадей, и перепуганные животные храпели, становились на дыбы, пытались убежать. Тогда сколоты порезали свежеснятые шкуры куланов на полосы, завязали ими глаза и прикрыли ноздри лошадям. Наконец площадка была расчищена, проводник торопливо зажег пучок сухой травы и швырнул горящий ком по ветру.
Посольство очутилось в огненном кольце. Но если огненный фронт со стороны Истра наступал, охватывая их дымной горечью, то огонь на подожженном участке степи, разгораясь, все быстрее и быстрее убегал на северо-восток. Наконец с этой стороны осталась голая почерневшая земля, кое- где дымившая и стрелявшая запоздалыми искрами. Обмотав копыта лошадей остатками изрезанных шкур куланов и тряпками, сколоты поторопились съехать поскорее со своей вынужденной стоянки на выжженый участок степи, потому что пламя уже подобралось к ним на расстояние не больше стадии, и жара стала нестерпимой, не говоря уже о клубах дыма, в которых они едва не задохнулись.
Вскоре огонь, миновав выжженный участок, устремился дальше, а путники, закопченные, пропахшие дымом, продолжили путь к Истру. Лошади без понуканий ускоряли бег, потому что от земли исходил жар, проникающий даже через тряпки, намотанные на копыта. Но только к исходу дня они наконец выбрались к речушке; за ней виднелась нетронутая пожаром степь. Напоив лошадей и искупавшись, приготовили скромный ужин. После небольшого отдыха, когда сумерки опустились на землю, сколоты снова двинулись на запад…
Полноводный Истр[81] бурлил и пенился; грязно-желтые воды вышли из берегов и затопили низменности – повидимому, где-то в верховьях шли проливные дожди. Одинокие островки среди разлива кишели лесным зверьем, не успевшим сбежать от разбушевавшейся стихии. На одной из таких спасительных возвышенностей приютилась волчья стая – около десятка промокших и оголодавших хищников, старый медведь, ворчливый и обозленный, полумертвая от страха лиса и огромный лось: фыркая и потряхивая рогами, он стоял чуть поодаль от основной группы хищников, на маленьком полуострове – узенькой полоске суши, которую нередко перехлестывали волны. По запавшим лосиным бокам можно было судить, что зверь кормился уже давно. Изредка он делал один-два шага в направлении возвышенности, не в силах совладать с муками голода – там росли деревья, кустарник и трава, которые вовсе не нужные были хищникам – но тут же останавливался и пятился назад при виде кровожадных взглядов обитателей центральной части островка.
Наконец вожак волчьей стаи не выдержал испытание голодом: короткий мощный прыжок – и массивные челюсти сомкнулись на спине лисы. Стая не заставила себя долго ждать, и через мгновение от рыжехвостой остались только клочки шерсти, да и те вскоре смыла набежавшая волна.
Медведь при виде кровавой расправы над лисой рыкнул – то ли от злости на кровожадных зверюг, то ли от страха – и отошел подальше, к самой воде. Тем временем стая собралась в кружок, как бы на совет, а затем, рассыпавшись цепью, медленно двинулась к медведю. Яростный рев хищника заставил волков ненадолго отступить; но неумолимый голод подхлестывал, и стая ринулась на лесного великана. Медведь грузно ворочался среди рычащих хищников; изредка от этой кучи отрывался какой-нибудь неудачник, и словно пущенный из катапульты, кубарем летел в сторону.
Неожиданно волки оставили медведя и в страхе заметались по островку. Некоторые даже отважились броситься в воду, но и это их не спасло – в азарте борьбы волки не заметили, как причалила лодка с людьми, и стрелы градом посыпались на хищников. Вскоре все было кончено; лося убили охотники со второй лодки, причалившей ниже. С громким смехом и шутками охотники принялись свежевать добычу. Затрещали сучья в костре, и аппетитный запах печеного мяса приятно защекотал ноздри удачливых добытчиков.
Один из них, кривоногий и низкорослый, накинув на плечи шкуру убитого медведя, принялся приплясывать под ритмичные хлопки своих товарищей. Он кружил вокруг костра, то и дело становясь на четвереньки и подражая рыку зверя, наступал на охотников, окруживших его с копьями наготове. Наконец старший из охотников, видимо, предводитель, в кожаном кафтане, подпоясанном узким поясом, украшенным серебряными чеканными бляшками с изображением зверей и птиц, надел на себя волчью шкуру, подбежал к кривоногому и легко ткнул его в бок копьем. Тот поворочался немного, словно раненый медведь, и упал на землю. Как по команде окружавшие его охотники опустились на колени. Только предводитель, сбросив волчью шкуру остался стоять; потом, склонившись над кривоногим, изображавшим медведя, заговорил нараспев:
– Ты шел к нам в гости, о могущественный властелин леса, но злые невры[82] поразили тебя копьем и стрелами. Прости нас за то, что мы не уберегли тебя. Но мы всегда будем помнить твою любовь к нам. Прими нашу жертву и смилуйся над нами, о повелитель лесного царства! Приходи к нам почаще, мы всегда рады видеть тебя…
С этими словами предводитель взял кусок лосиного мяса и, отрезав немного, бросил в огонь. Его примеру последовали остальные охотники. А затем вместе с одетым в медвежью шкуру кривоногим все несколько раз обошли вокруг костра, приплясывая и выкрикивая угрозы в адрес невров, мнимых убийц медведя.
После жертвоприношения охотники дружно набросились на свежатину. Первым насытился предводитель: вытерев жирные пальцы о медвежью шкуру, встал на ноги и медленной походкой направился к лодкам. Вдруг он замер, вглядываясь вдаль.
– Ойех! – его тревожный возглас вмиг разметал сытое благодушие охотников.
Они окружили предводителя; не говоря ни слова, он показал рукой на дальний перелесок. Там, еле видимый глазу, витал над деревьями прозрачный дымок. Озабоченно хмурясь, охотники некоторое время совещались; затем, торопливо сложив добычу в лодки, быстро заработали веслами, направляясь к берегу, туда, где горел костер…
Абарис был в отчаянии: перебраться на противоположный берег Истра, словно соломинками, игравшими огромными древесными стволами, вывороченными с корнями, без лодки было немыслимо. Его спутники, разложив костер в перелеске на поляне, тоже были не в лучшем настроении; мрачные и безмолвные, они готовили обед и приводили в порядок оружие. Абарису не сиделось. Он метался по поляне, словно затравленный волк. Наконец вскочил на коня и уже в какой раз поехал вдоль берега, пытаясь успокоиться и найти выход из положения. Но что можно было придумать, глядя на бешеные волны? И Абарис, проголодавшись, повернул коня обратно.
Невдалеке от поляны Абарис придержал скакуна и прислушался. Чьи-то громкие чужие голоса звучали требовательно и угрожающе. Молниеносно взяв лук на изготовку и перекинув щит наперед, юноша тронул поводья, и конь медленной поступью двинулся в направлении поляны.
Абарису хватило одного взгляда, чтобы понять: на посольство совершено нападение! Как издавна велось среди степных племен, посланники обычно втыкали в землю шест с прикрепленным сверху куском полотна с кистями по краям, где золотыми нитками был вышит священный тотэм[83] племени, в данном случае Марсагета – лошадиная голова – и личная тамга[84] вождя. Кто бы ни встретил посольство, друг или враг, он обязан был, воздав узаконенные старинными обычаями почести, пропустить его по назначению. Даже сарматы в мирное время придерживались этого правила. И несмотря на это, неизвестные нарушители древнего обычая, напав на посольство, двух сколотов убили, одного ранили, а остальных, крепко связав, о чем-то расспрашивали, для большей убедительности покалывая копьями. Гнев волной захлестнул юношу, но, вспомнив уроки Меченого, он немного выждал, пока уляжется нервное возбуждение, чтобы не дать промашки, а затем прицелился.
Стрелы нашли свою цель – неизвестные враги заметались в страхе, пытаясь укрыться в зарослях; но двое из них уже лежали на земле при последнем издыхании. Не давая им опомниться Абарис метнул дротик, навылет пробивший грудь уже знакомого нам предводителя охотников и, обнажив акинак, словно смерч налетел на остальных. Опомнившись, охотники пытались достать Абариса копьями, но в юношу словно вселился дух Вайу – почти каждый удар мечом достигал цели, тогда как только одно копье лишь слегка оцарапало плечо юного воина.
Вскоре все было кончено – ни один из врагов не остался в живых. Абарис быстро развязал товарищей и, захватив с собой троих, отправился к берегу, старательно осматривая кустарник: не притаились ли где-нибудь еще разбойники. Неожиданно проводник гикнул и пустил коня в галоп, завидев, что кто-то копошится возле двух лодок, вытащенных на берег.
– Оставь его в живых! – крикнул на скаку Абарис: обозленный нападением неизвестных проводник уже прицелился.
Кривоногий коротышка – его оставили сторожить лодки – почуяв недоброе, пытался удрать, но не успел столкнуть тяжелую лодку в воду. С диким визгом он бросился в заросли, но аркан проводника оказался проворнее…
– Это он… это… это все он! – ползал в ногах Абариса кривоногий, показывая на мертвого предводителя охотников.
– У-у, пес! – полоснул его нагайкой проводник.
– Перестань, – придержал проводника за руку Абарис. – Кто вы? – обратился он к пленнику.
– Мы… мы – алазоны… Лесные алазоны. Пощади- те! – опять возопил кривоногий.
– Разве вы не знали, что посольство неприкосновенно? – Абарис брезгливо оттолкнул пленника, пытавшегося целовать ему ноги.
– Было… Да! Было… Это он! Я предупреждал, я не хотел этого! Поверь мне!
– Ну, а если вы это знали, так чего же ты хочешь от меня? Посмотри! – гневно скривился Абарис, показывая на тела мертвых сколотов. – Мы шли с миром, а вы нас встретили копьем. Но Великая Табити не дала свершиться неправому делу. И ей будет неугодно, если такая мерзкая тварь, как ты, сохранит свой поганый скальп. Уберите его!
Похоронив мертвых товарищей и справив скромную тризну, Абарис, несмотря на приближение сумерек, решил переправляться немедленно: вдруг еще появятся лесные алазоны, эти презираемые всеми племенами воры и разбойники; для них не существовало иных законов, кроме их собственных. Да и неумолимое время не давало права на задержку.
Переправа прошла на удивление успешно. Правда, уже у противоположного берега одну из лодок протаранил древесный ствол – туманные сумерки покрыли речное русло непроглядной пеленой – и сколотам пришлось искупаться. Но это приключение закончилось довольно удачно: утонула только добыча алазонов и их оружие, а ценные подарки для вождя племени траспиев, находившиеся в лодке Абариса, остались в целости. Кроме того, пришлось обрезать поводья трем лошадям – они плыли позади лодок, привязанные арканами, – оглушенные плывущими бревнами, они пошли ко дну. Но эти потери уже не огорчали Абариса – до гор, где жили траспии, было рукой подать.
Горы поразили Абариса. Сын степных просторов, где встречались изредка только невысокие холмы, конечно же не идущие ни в какое сравнение даже с самой низкой горой в землях траспиев, был подавлен величием каменных громад. Посольство пробиралось глубокими ущельями, в основном, по берегам неглубоких, но бурных речушек, иногда вброд, цепочкой, с трудом втискиваясь в длинные узкие коридоры. Гулкое эхо дробилось на бесчисленное множество хаотических звуков; они, то замирая, то усиливаясь до громоподобных раскатов, вызывали в душе юноши невольный страх. Поросшие мхом, осклизлые от сырости огромные валуны нередко перегораживали речное русло, и тогда приходилось что называется на руках перетаскивать через них храпящих и брыкающихся лошадей. Однажды на пути попался свежий завал, и сколоты с большим трудом отыскали неподалеку еле приметную тропку, ведущую куда-то вверх, к голой безлесной вершине крутобокой горы. Отчаявшийся проводник, плохо знающий эти места, потому что из-за разлива Истра пришлось переправиться значительно выше по течению, поднявшись на вершину одним из первых, безнадежно махнул рукой: горы толпились со всех сторон, словно стадо баранов, кое-где щетинясь угрюмыми скалами.
Упрямый Абарис, хмурый и неразговорчивый, решительно двинулся по сильно заросшей тропинке, которая причудливыми петлями оплетала вершины гор, местами исчезая среди тощего кустарника или тонкоствольных деревьев…
Ночь застигла сколотов на перевале, где на их радость из расщелины вырывался холодный прозрачный ключ. Костер жгли не таясь, в надежде, что сторожевые посты племени траспиев заметят посольство и помогут отыскать более удобную дорогу. Глубокий сон вернул к рассвету подрастерянные за тяжелый дневной переход силы, и после завтрака приободренные сколоты спустились в широкую долину, где наконец тропа привела их к изрядно заросшей жесткой травой дороге. Посовещавшись, сколоты поскакали на запад, то и дело горяча нагайками коней.
ГЛАВА 18
Море лениво плескалось о скалы, шуршало песком на отмелях, на которых громоздились выброшенные на берег недавним штормом кучи водорослей. Тяжелый гнилостный запах витал над небольшим заливом; мошкара тучами кружила над отмелями, копошилась в хитросплетении водорослей, где запуталась дохлая рыбья мелюзга и маленькие крабы. По узкой песчаной полоске вдоль прибрежных скал бродили женщины с корзинами в руках.
Длинные платья из грубого серого полотна лоснились от жирных пятен, засохшая рыбья чешуя поблескивала на коротких кожаных фартуках; у многих на шее висели бусы из овальных перламутровых пластинок. То и дело нагибаясь к земле, женщины собирали выброшенные штормом крупные мидии и снулую рыбу.
Чуть поодаль, в глубине бухты, берега полнились звонкими детскими голосами: закончилось вынужденное двухдневное затворничество, вызванное штормовым ненастьем, и прозрачная вода залива бурлила, полнясь смуглыми сильными телами резвящихся подростков. В самом конце бухты, которая словно голубой клинок вонзилась в скалистую твердь берегов, возле полуразрушенного причала, покачивались на мелкой зыби три биремы и с десяток плоскодонок, привязанных канатами к каменным глыбам на суше. Около лодок суетились рыбаки, готовясь выйти в море на промысел, а на одной из бирем шли ремонтные работы: стучали топоры, дымили костры под котлами с плавящимся варом – им пропитывали деревянные борта и днища судов, чтобы предохранить их от гниения.
– А-а-и-иэй! – протяжный крик прокатился над бухтой, потревожив мирную суету раннего утра.
Подростки мигом выскочили из воды и устремились к причалу. За ними поспешили и женщины, с тревогой посматривая на вершину скалы у входа в бухту, где был сторожевой пост – дозорные прокричали тревогу.
Вскоре дети и женщины скрылись в одной из глубоких расщелин, которыми изобиловала бухта, а на биремах зашлепали веслами, подгоняя суда к выходу в открытое море…
Вдоль берега Таврики шла быстроходная бирема. Тугой белый парус ловил легкие порывы попутного ветра, кормчий неторопливо орудовал рулевым веслом, внимательно присматриваясь к очертаниям прибрежных скал. У борта стоял переводчик царя Фарнака I Понтийского тавр Тихон – бледный и задумчивый. Команда биремы и воины охраны разговаривали вполголоса, боясь потревожить покой знатного пассажира, гражданина Тиры купца Тисамена – так представил им Тихона главный жрец храма Аполлона Дельфиния в Ольвии мудрый Герогейтон, присовокупив, что за его жизнь они отвечают головой. Впрочем, для воинов охраны и команды подобные предупреждения не были новы: они нередко выполняли самые деликатные поручения Герогейтона, требующие незаурядной смелости и умения держать язык за зубами. Команду укомплектовали лучшими знатоками морского дела, воины охраны составляли цвет ольвийского гарнизона; они были очень хорошо вооружены и опытны, так что любая случайная встреча с сатархами могла окончиться для разбойников плачевно. А бирема, построеная год назад, воплотила в себе новейшие достижения судостроения тех времен и считалась самым быстроходным судном Понта Евксинского, что и доказала двое суток назад, проскочив под самым носом целого флота сатархов, состоящего из шести бирем, – после длительной погони пираты повернули обратно, обескураженные быстроходностью предполагаемой добычи.
Тихон мог, конечно, воспользоваться одной из триер царя Фарнака, тем более, что он выполнял секретные поручения властелина Понта, требующие быстроты и скрытности. Но именно соображения скрытности, по здравому размышлению, и не позволили опытному дипломату пойти на большой риск – появиться у берегов Таврики на судне царя Понта, так как это могло насторожить весьма искушенного в дипломатическом искусстве царя скифов Скилура. А если учесть, что наварх скифского флота Посидей, еще молодой, но талантливый флотоводец, уроженец Родоса, не отличался медлительностью в принятии решений и, обладая довольно внушительным числом судов с хорошо обученными командами, мог на свой страх и риск захватить подозрительное судно с посланником царя Фарнака, то действия Тихона были вполне оправданы.
И еще одно обстоятельство заставило переводчика отказаться от услуг синопского наварха, в чьем подчинении находился флот царя Фарнака: один из самых знатных царедворцев, близкий друг.
Асклеопиодора, как это было хорошо известно осторожному и проницательному Тихону через верных людей из числа слуг наварха, метил занять трон царя Понта и имел осведомителей на всех судах флота. Поэтому, убедив царя Фарнака в необходимости послать в Ольвию и Таврику именно его и, имея в мыслях, кроме выполнения поручений дипломатического характера, осуществить давно задуманную попытку освободить свою мать из рабства, Тихон наотрез отказался от льстивых предложений наварха обеспечить надлежащую охрану посланника, отчетливо сознавая, что каждый его шаг будет известен царедворцу, а значит, и царю Понта. И трудно было сказать, как отнесется к своеволию полуварвара хитроумный и жестокий владыка – любовь его к Тихону напоминала отношения между охотником и его любимым псом: пока пес служит верой и правдой, удачлив и безотказен в охоте – лучшая кость ему; как только пес посмеет в своей собачьей простоте огрызнуться или утратить нюх, оставив хозяина без добычи, вместо награды получит порцию палочных ударов.
Мысли Тихона неожиданно прервала громкая команда начальника судна; звякнули большие щиты, подвешенные вдоль бортов и предназначенные для защиты от неприятельских стрел и дротиков, – воины проверили надежность креплений – и загудели тетивы дальнобойных луков.
– Биремы! – поклонившись Тихону, выкрикнул начальник судна, показывая в сторону берега.
– Чьи? – спросил Тихон, ощупывая прочную двойную кольчугу под плащом.
– Пока не знаю…
– Здесь начинаются земли племени напеев… – задумчиво сказал переводчик царя Фарнака, всматриваясь в биремы, охватывавшие их судно привычным для пиратов приемом – с носа и кормы.
Встреча с басилевсом напеев, одного из племен тавров, и был конечной целью путешествия Тихона. Три племенных союза тавров владели землями горной Таврики – синхи, напеи и арихи. До прихода скифов в Таврику им принадлежали и предгорья, и обширная плодородная степь. Долгая, кровавая война закончилась поражением тавров, и они отступили в горы перед более многочисленными и лучше вооруженными племенами сколотов. Так и остались племена тавров владеть горной Таврикой, а часть поселилась на побережье Понта Евксинского, где стали заниматься, кроме скотоводства, земледелием, охотой и рыбной ловлей. И еще – пиратским промыслом, позаимствовав опыт соседей, сатархов, к тому же весьма успешно, так как храбрости таврам было не занимать, а искусством постройки и вождения судов они владели в совершенстве.
Басилевс Окит, сын эллинки, красавицы-наложницы из гарема отца, от которой он и получил свое эллинское имя (что, впрочем, не считалось чем-то из ряда вон выходящим – среди тавров немало было смешанных браков и не только с эллинами, но и со скифами, меотами и даже сарматами), взяв в руки священный жезл правителя племени, оказался на удивление энергичным и предприимчивым предводителем буйного союза напеев. За короткий срок железной рукой обуздав зарвавшихся вождей, переставших признавать верховную власть басилевса, Окит хитроумными маневрами добился главенства в союзе с басилевсами синхов и арихов – тоже его детищем. Создав сильную воинскую дружину из сыновей знатных семейств напеев и вспомогательное войско из синхов и арихов, Окит тем не менее не стал выяснять отношения с царем Скилуром, несмотря на то, что скифы с давних пор были основными врагами тавров. Не по годам мудрый басилевс смекнул, что лучше жить в мире с грозным соседом, и даже породнился с одним из военачальников царя скифов, выдав за него замуж свою сестру.
Но, конечно же, и Окит не остался в накладе из-за своей примиренческой политики. Обезопасив тылы устным договором с царем Скилуром и заручившись поддержкой Херсонеса, (с херсонеситами тавров связывала единая религия – поклонение Деве, праматери богов), а также пользуясь благосклонностью Боспора, где было много полноправных граждан, тавров по происхождению, и ольвиополитов, не принимавших всерьез возросшую мощь тавров и даже надеявшихся использовать их, столкнув со скифами, как некое противоядие захватническим устремлением царя Скилура, басилевс исподволь, не торопясь, создал сильный флот, рассеянный для маскировки по многочисленным бухтам Таврики, укрепил город Плакию, построил несколько крепостей на основных горных перевалах и основал в труднодоступном месте в горах свою столицу. Впрочем, она была мало похожа на престольный город в общепринятом смысле слова – просто около сотни одноэтажных зданий из нетесаного камня да мощные оборонительные стены, сложенные из огромных каменных глыб навалом, издали напоминали осыпь. Поэтому для непосвященного человека отыскать среди скал пристанище Окита было задачей многотрудной.
Кроме того, басилевс тавров через доверенных людей занялся весьма выгодными торговыми операциями, приносившими ему немалые барыши. На первых порах биремы тавров только сопровождали морские торговые караваны херсонеситов, защищая их от пиратов. Затем за помощью к басилевсу Окиту обратились и ольвиополиты – им составили протекцию купцы Херсонеса. Их предложение было заманчиво: составить компанию по тайной продаже зерна в метрополии припонтийских колоний эллинов, потому что из-за значительно возросшей мощи скифского флота они боялись предпринимать подобные мероприятия на свой страх и риск без соответствующей поддержки. Басилевс для виду поколебался, а затем заломил такую цену, что бывалые купцы- ольвиополиты за голову схватились – надеялись провести недалекого варвара, да сами попали впросак. Но выбирать не приходилось – по сравнению с крохами, перепадавшими им от царя.
Скилура, прибыль от сделок с Окитом, даже учитывая немалые отчисления в пользу басилевса, была куда весомей. Скрепя сердце и втихомолку призывая на хитроумного варвара гнев богов (но только не в ущерб торговле!), ольвийские купцы согласились на его условия.
Тем временем Окит, вовсе не удовлетворенный подчиненным положением в торговле хлебом, пусть и приносящим хороший доход, но все-таки значительно меньший, чем купцам-ольвиополитам, втайне от своих компаньонов стал и сам приторговывать. По проторенной эллинами дороге таврские купцы проникали на рынки припонтийских государств, где вскоре стали основными конкурентами не только Херсонесу и Ольвии, но и царю Скилуру. Конечно (Тихону это было хорошо известно), купцы-тавры никому не объясняли, куда идут доходы от продажи зерна, – частная предприимчивость, не более, говорили они на эмпориях[85]. Но обмануть переводчика царя.
Фарнака, как до сих пор удавалось басилевсу Окиту в отношении других дипломатов, менее искушенных в высокой политике и дебрях торговых взаимоотношений, было невозможно: за всем этим угадывалась – небездоказательно, благо в осведомителях и среди тавров у Тихона недостатка не было, – рука и железная воля басилевса-полуварвара.
И еще один источник дохода был у повелителя тавров, источник, скрытый даже от ближайшего окружения Окита, не говоря уже о всех остальных, – морское пиратство. Если раньше каждый вождь племени занимался морским разбоем на свой страх и риск, то теперь, при значительно возросшей силе флота тавров и полном подчинении племенных вождей басилевсу, подобные пиратские операции стали осуществляться планомерно, с большим успехом и малыми потерями и приносили огромную прибыль. Даже сатархи вынуждены были считаться с этим обстоятельством и уже не посягали на прибрежные морские воды у владений тавров. Поэтому нередко случалось так, что торговые караваны эллинских купцов, идущие в сопровождении боевых кораблей тавров, пропадали без вести даже в хорошую, не штормовую погоду. И плодились, как грибы после дождя, среди припонтийских эллинов-колонистов различные домыслы, которые затем, обрастая фантастическими подробностями, становились легендами. В них, вместо истинных виновников исчезновения торговых караванов, выступали и одноглазые циклопы, и огромные морские чудища, подданные бога морей Посейдона, разгневанного за какую-либо провинность на мореходов, и сладкоголосые сирены-искусительницы, и кровожадные многорукие великаны…
Но Тихон был склонен меньше всего верить в эти небылицы. Конечно, сведения такого рода тавр-пере-водчик держал при себе, надеясь в будущем извлечь из них немалый дипломатический капитал для своих нужд. И вот такой момент наступил, тем более, что басилевс Окит уже предпринимал попытки встретиться со своим знаменитым земляком. Интерес басилевса тавров к своей особе Тихон истолковал так: Окит, похоже, решил попытаться сыграть на чувстве патриотизма соотечественника, чтобы привлечь его на свою сторону и получить возможность расширить торговые операции тавров в Понте Евксинском, используя для этого обширные связи переводчика-дипломата. А также использовать Тихона в качестве осведомителя и тайного агента при царе Фарнаке, чтобы быть в курсе событий в припонтийских государствах, событий, которые не могли не интересовать тавров в силу их политики неприсоединения. Проще говоря, бесилевс тавров хотел держать нос по ветру, извлекая из этого немалые выгоды.
Конечно, на кое-какие уступки ему придется пойти – Тихон ясно отдавал себе в этом отчет, – чтобы Окит помог ему в освобождении матери. Но на какие именно – над этим стоило подумать основательно. И Тихон от самой Ольвии мысленно строил план будущих переговоров с басилевсом, заведомо зная, что они будут отнюдь не легкими, потому что Окит был вовсе не таким простаком, каким пытался выглядеть…
– К бою! – уже не обращая внимания на пассажира, застывшего в нерешительности и не знающего, что предпринять, скомандовал начальник судна: биремы приблизились на расстояние выстрела из лука, и малейшее промедление могло стоить жизни.
Искусным маневром судно выскользнуло из клещей бирем и, повернув круто по ветру, стало набирать ход, нацеливая таран в борт одной из них.






