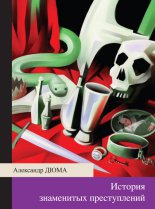Венеция. Прекрасный город Акройд Питер

При этом ведьмы были частью религиозной культуры Венеции. Они обращались к помощи Мадонны и святых. Одна известная в городе ведьма по имени Аполлония сказала инквизиции, что молилась «во имя Господа и Девы Марии, которая накладывала свои руки прежде меня». Чтобы остановить кровотечение из носа, нужно было прочесть заклинание: «Кровь, оставайся в силе, как оставался в силе Господь Иисус Христос в смертный час. Кровь, пребывай в вене, как пребывал Господь Иисус в своих страстях». Одно из первых воспоминаний Казановы связано с кровотечением из носа. Его бабка немедленно отвезла его на гондоле к колдунье, жившей на острове Мурано, где он был мгновенно излечен. Это одно из проявлений сохранившейся в Венеции народной католической культуры с очень древними корнями.
Однако ключ к пониманию венецианского колдовства лежит в получении денег. В этой культуре ученые использовали черную магию, чтобы отыскать спрятанные сокровища. Погоня за сокровищами была излюбленным венецианским занятием. В документах инквизиции вновь и вновь повторяются рассказы о попытках получить золото с помощью магии. Один патриций по секрету сообщил друзьям, что знает о большом количестве золота, которое духи хранят в глубокой пещере. Эта сказка соответствует венецианской изобретательности и доверчивости. Алхимиков в Венеции всегда встречали с распростертыми объятиями. Перед перспективой превратить простые металлы в золото трудно было устоять. В конце XVI века в Лондоне жил знаменитый венецианский алхимик Джамбаттиста Анджелло.
И, разумеется, в общении с потусторонними силами тоже присутствовал коммерческий дух. За услуги дьявола всегда приходилось расплачиваться, к примеру, солью или деньгами. Оба участника сделки должны были признать ее справедливой. Магия использовалась и в политических целях. Во многих случаях дьявола вызывали для того, чтобы узнать имена тех, кто победит на выборах в Большой совет. Игроки в карты прибегали к заклинаниям и магическим знакам. В венецианской культуре широко употреблялись любовные напитки. Одно из таких снадобий приготовлялось из шалфея, смешанного с менструальной кровью. Если женщина добавляла его в пищу или питье мужчины, того неудержимо к ней влекло. Там, где люди оказываются очень близко друг к другу, страсть разгорается быстро.
Венеция, как никакое другое место в Италии, была пристанищем привидений. В немногих итальянских городах истории о привидениях стали частью культурной традиции. Однако к XVIII веку Венеция превратилась в место обитания многих призраков и теней, а в 2004 году в свет вышла книга Альберто Тозо Феи «Венецианские легенды и рассказы о привидениях». Венеция буквально одержима прошлым. Ей хотелось бы его удержать. Это желание как нельзя лучше проявляется в том, что привидения видят на каждом углу. Говорили, что в канун Дня поминовения усопших мертвые оставляют свои могилы на кладбище острова Сан-Микеле, пересекают лагуну и возвращаются в город. Каждый из них приходит в свой дом и незримо сидит у кухонного очага. Кто способен увидеть привидение? Только те, у кого обряд крещения был прерван или проведен неверно. Для венецианцев притягательная сила денег не исчезала и в загробном мире. Чаще всего являлись призраки тех, кто перед смертью спрятал свои деньги.
Считалось, что в некоторых старинных домах обитают привидения. Следовало избегать некоторых каналов. Рассказывались истории о черепах, испускавших дикие вопли, об оживших статуях и диковинных подводных существах. Венецианцам всегда нравилось причудливое и фантастическое. Жизнь на воде открывает ум для сверхъестественных подсознательных ассоциаций. Из этого влажного утробного ландшафта выплывают странные очертания, олицетворяющие мечты или кошмары человечества. Отсюда острый страх перед колдовством.
Х
Тени истории
Глава 32
Угасание и закат?
Вначале XVII века город уже не строил достаточно кораблей. Его доля в торговле импортными товарами с Ближнего Востока сокращалась. Чтобы торговать с Индией, голландские и английские купцы пользовались недавно открытым путем вокруг Африки. Немецкий рынок резко сократился, отчасти вследствие Тридцатилетней войны. В Константинополе осталось только три венецианских купца. Налеты пиратов означали, что торговым маршрутам грозит постоянная опасность.
Перед лицом экономического соперничества с другими европейскими странами венецианское правительство сочло своим главным долгом сохранять высокие стандарты производства; следовательно, цены оставались высокими. В условиях конкуренции Венеция обратилась к присущему ей традиционализму. Она сохранила строгость построения существующих гильдий; практика изготовления товаров осталась неизменной. Были приняты законы, дававшие венецианским судам преимущества в венецианских портах. Товары, предназначавшиеся для Венеции, могли перевозиться только на принадлежавших венецианцам кораблях. Консерватизм и новый протекционизм привели к тому, что Венеция не смогла эффективно действовать в условиях быстро меняющегося торгового мира 1630-1640-х годов. Более дешевые изделия подорвали венецианские рынки в таких областях, как крашение и набивка тканей. Венеция сохранила позиции в торговле предметами роскоши; во всех остальных областях она оказалась позади. Анналы того времени пронизаны меланхолией, тоской, отголосками некогда великой экономической империи.
В первой декаде XVII века Папа торжественно отлучил Венецию от Церкви. Отлучение не возымело эффекта главным образом потому, что венецианцы равнодушно отнеслись к папскому неодобрению. Когда один из членов правительства сказал священнику высокого ранга, что на территории республики запрещается открывать и читать любые папские послания, тот ответил: «Я буду следовать велению Святого Духа». На что венецианский чиновник ответил: «Святой Дух уже повелел Совету десяти повесить всех ослушавшихся». Когда священник в соответствии с папским эдиктом закрыл свою церковь, на следующее утро перед папертью воздвигли виселицу. «Руководители вашего Сената, – сказал один Папа венецианскому послу пятьюдесятью годами ранее, – упрямые люди, с ними трудно вести переговоры».
Резкий отпор, полученный Папой, помешал ему распространить свои честолюбивые замыслы на остальную часть Италии, но угроза отлучения от Церкви укрепила венецианцев в мысли, что независимость города никогда не будет чем-то само собой разумеющимся.
Ощущение угрозы нашло драматическое выражение в открытии так называемого Испанского заговора и в последующей истерической реакции на него. В 1618 году некий нормандский наемник якобы предложил испанскому правительству и его представителям в Италии план по разрушению города в лагуне. В определенный день его агенты подожгут Арсенал, Монетный двор и Дворец дожей; одновременно все венецианские аристократы будут убиты, а испанский флот овладеет входами в город. Венеция падет перед Испанией.
Таков был план. Согласно сообщению, он был с энтузиазмом принят испанским послом в Венеции маркизом Бедмаром и французскими властями. Герцог де Осуна, испанский вице-король Неаполя, был также вовлечен в заговор.
Однако, как часто случается в Венеции, заговорщики были выданы тайными осведомителями. План заговора был представлен Совету десяти, который 17 мая 1618 года принял соответствующие меры. Этот день случайно совпал с днем выборов нового дожа. Поэтому город был полон заинтересованных наблюдателей и приезжих.
Проснувшись утром 18 мая, венецианцы увидели тела двух мужчин, болтавшихся на виселице под двумя колоннами на piazzetta. Следующие три дня шли празднования по случаю выборов нового дожа, во время которых тела казненных были выставлены на всеобщее обозрение. Власти ничего о них не сообщали, кроме того, что они французы. В некоторых гостиницах, населенных французами, обнаружились свободные номера. Было сказано, что ночью в каналах утопили пятьсот заговорщиков. Бедмар был вынужден бежать. Французский посол, также находившийся под подозрением, воспользовался возможностью совершить паломничество в Лорето.
Молчание властей можно истолковать как замешательство. Представляется вполне вероятным, что никакого заговора не было и что Совет десяти предпринял панические действия на основе ложной информации. Однако его реакция показывает, что власти города считали, что Венеция постоянно находится под угрозой уничтожения.
В исторической литературе Испанский заговор как символическое событие занял место рядом с Пороховым заговором и Варфоломеевской ночью. По словам сэра Генри Уоттона, это «самое глупое и самое страшное событие, о котором стало известно, со времени основания города». Ни одно из существующих объяснений заговора не представлялось полностью убедительным. К примеру, утверждалось, что венецианские власти заключили союз с герцогом Осуной, чтобы установить венецианское господство над Неаполем, но из страха раскрытия заговора убили всех эмиссаров Осуны в городе. Возможно, существовал какой-то заговор и заговор внутри заговора со всеми интригами сложного тайного союза, которые в высшей степени соответствовали театрализованному и подозрительному городу.
На тему заговора были написаны пьесы и памфлеты самого мелодраматического содержания. Он вдохновил Томаса Отвея написать свою лучшую пьесу «Спасенная Венеция, или Раскрытый заговор» (1682). Судьба всегда хранила Венецию. И будет хранить. Венецианская пословица хорошо передает суть дела: sempre crolla ma non cade (всегда рушится, но никогда не падает).
Через двенадцать лет гражданскую гармонию постиг еще один тяжкий удар. В 1630 году во время эпидемии чумы погибло почти пятьдесят тысяч жителей города. Правительство предприняло серьезные меры в области здравоохранения и санитарии; паники и гражданских беспорядков необходимо было избегать любой ценой. Однако население города сократилось до ста двух тысяч человек и в последующие века так и не стало прежним. В этом нет явной вины властей. Конечно, отрицательную роль сыграло сокращение налоговых поступлений, однако снижение численности населения означало, что оставшимся было легче найти работу и заработная плата значительно выросла. Доходы росли, а цены падали. В чрезвычайных обстоятельствах город мог доказать свою самодостаточность.
В любом случае, как можно говорить об угасании и закате города, который до сих пор остается невредимым? В конце XVII века государственное устройство Венеции продолжало действовать. Еще в 1612 году английский посол назвал сенаторов «капризными взрослыми, мстительными, безответственными и расточительными»; но они оставались сплоченными. В действительности на исходе века Венеция пережила коммерческое возрождение. Ему способствовала торговля с Германией и константинопольскими турками. За последние тридцать лет XVII века доходы от налогов на морские перевозки выросли на семьдесят процентов. Стандарты жизни в городе ничуть не снизились. Возможно, Венеция и перестала быть международным рынком, но она стала важным региональным портом, обслуживающим территорию долины По. Чтобы увеличить поток судов по реке Адидже, был предложен широкий план общественных работ. Вдоль побережья лагуны проложили новые дороги. Были разработаны проекты юридической, образовательной и технологической реформ. Функции города изменились. Он приспособился и выжил. Он стал в полном смысле слова не столько западной, сколько региональной державой.
К XVIII веку город потерял иллюзии относительно своего имперского статуса. Ему принадлежали только Далмация и несколько ионийских островов. Но не обязательно об этом сожалеть. В XX веке об Англии было сказано, что она потеряла империю, но не обрела новой роли. Это не относится к Венеции. Город стал центром транзитной торговли товарами, предназначавшимися для Западной Европы вообще и берегов Северного моря в частности. Каждый год порт посещали тридцать английских и пятнадцать голландских купцов. Торговля во второй половине XVIII века ничем не уступала торговле в XV веке. Старые каналы углубили, приспособив для более крупных судов, на суше проложили новые каналы, чтобы отвести воды рек, угрожающие уровню воды в лагуне. В вопросах региональной политики Венеция заняла позицию продуманного нейтралитета, осознав, что война и слухи о войне не благоприятствуют торговле на итальянской земле. Город привык к миру, и это в свете будущих событий, возможно, было опрометчиво. Однако его отход от военных дел создал ему репутацию мудрого арбитра и образца разумного правления. Конституция осталась неизменной.
В XVIII веке Венеция, как мы могли видеть, поставила перед собой задачу стать городом искусства и удовольствий, самым соблазнительным прибежищем для иностранных посетителей. Публичные здания были отремонтированы, церкви восстановлены. Построены новые больницы и новые театры. То была эпоха Каналетто, чьи городские пейзажи создали великолепный миф об изящном урбанизме. Но то был и век Джамбаттисты Тьеполо, рожденном в 1696 году и умершим в 1770-м. Он унаследовал все жизнелюбие и энергию своих венецианских предшественников и служит символом того, что дух величия города не угас. Венецианцы возродились и процветали в новых обстоятельствах. Первая половина XVIII века была свидетельницей музыки Вивальди. Разве в сочинении музыки не больше великолепия, чем в ведении войны? Венеция не умирала. Она была полна сил как никогда.
Счастье длится недолго. Блестящие яркие явления нередко кончаются крахом. К концу XVIII века Венеция потеряла свободу. Она не потеряла своих сооружений или своего наследия, но утеряла статус республики. За двадцать лет до катастрофы в воздухе уже витали дурные предчувствия. Обращаясь к Большому совету в 1779 году, Карло Контарини заявил: «Все в замешательстве и беспорядке. Продовольствие непомерно дорого. Наша торговля чахнет; это доказывают постоянные банкротства. Средств, которых хватало на поддержание наших семей и вдобавок на помощь государству, теперь недостаточно для того, чтобы выжить». На следующий год дож Паоло Реньер выразил почти те же чувства. «У нас нет сил, – сказал он Большому совету, – ни на суше, ни на море; у нас нет союзников. Мы живем благодаря удаче, благодаря случаю и зависим только от чужого представления о венецианском благоразумии». В 1784 году патриций Андреа Трон подытожил список жалоб: «Старые вечные принципы и законы, создавшие и все еще способные создать великое государство, забыты». Коммерция Венеции свелась к «комфорту, чрезмерной роскоши, бесполезным зрелищам, сомнительным развлечениям и пороку».
Три человека, каждый по-своему, интуитивно чувствовали то, чего нельзя было предвидеть иным путем. Кто мог в тогдашней Европе предсказать появление Наполеоновской империи и подчинение Венеции воле одного человека? Однако эти последствия, разумеется, не были делом рук одного человека. В «Войне и мире» Толстой пытается разобраться в феномене Наполеона. «Почему происходит война или революция? мы не знаем; мы знаем только, что для совершения того или другого действия люди складываются в известное соединение и участвуют все; и мы говорим, что это так есть, потому что немыслимо иначе, что это закон».
Падение Венеции было просто изменением ее исторической идентичности. Мы не можем сказать, что это было: бесчестье или триумф, потому что не знаем, кто в результате станет триумфатором, а кто покроет себя позором. Все моралистические интерпретации исторических событий грешат одним изъяном. Нам следует скептически отнестись к возможности увидеть цель человеческих начинаний, если только речь не идет о слепом инстинкте, стремящемся к удовлетворению, и мы должны признать, что любая конечная цель всегда находится за рамками нашего понимания. Почему пала Венеция? Чтобы понять, что ответ невозможен, снова обратимся к «Войне и миру». «Когда созрело яблоко и падает – отчего оно падает? Оттого ли, что тяготеет к земле, оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его?»
Развязка наступила быстро. В 1789 году дожем Венеции был избран Лудовико Манин. Это, несомненно, были самые дорогостоящие выборы в венецианской истории, они стоили в полтора раза больше, чем предыдущие выборы дожа в 1779 году. Деньги были потрачены зря. Манин, сто двадцатый дож, продолжающий непрерывную с 697 года линию правителей, оказался последним дожем в истории Венеции. Спустя восемь лет после его вступления в должность город патрицианского правления был повержен и взят завоевателем, все еще ехавшим верхом на народной революции.
Двадцатишестилетний Бонапарт был недоволен Венецией. Ему не нравилось, что кое-где на ее сухопутной территории возникли центры французской эмиграции и что венецианские власти позволили неприятельской австрийской армии пройти по их земле. Когда он прибыл в регион реки По, он послал своих агентов в город с предложением освобождения. Силы Наполеона воспринимались не как жаждущие крови плебеи-революционеры, но как дисциплинированная армия, готовая уничтожить несправедливость и бессилие старого прогнившего режима. Некоторые венецианцы наверняка должны были приветствовать его приход.
Когда Наполеон перешел реку По, конец Венеции был близок. Был назначен новый provveditore (хранитель венецианских территорий) с официальной целью «сохранить спокойствие республики и предоставить поддержку и утешение ее гражданам». Этот явно неуместный оборот предполагает наличие паники. Когда Наполеон оккупировал Верону, provveditore со своими людьми вступил с ним в переговоры. Наполеон был любезен и даже дружелюбен, но не пошел ни на какие уступки. В донесении говорилось, что он в самых дружеских выражениях грозил потребовать выкуп в шесть миллионов франков за то, что город не будет поврежден. У венецианцев не было армии, только остатки флота. Они были совершенно беззащитны. Тем временем Наполеон продолжал кампанию по оккупации венецианских территорий.
Государственная политика венецианского нейтралитета в отношениях с Францией и Австрией теперь обернулась против города. Французы обвиняли Сенат в помощи Австрии, а австрийское правительство, разумеется, упрекало венецианцев в помощи Бонапарту. Дож и Сенат бездействовали. От страха они словно лишились дара речи. Падуанский писатель Ипполито Ньево сказал об этом периоде: «Венецианская знать – это труп, который нельзя оживить».
Когда между Францией и Австрией был заключен мир, Бонапарт стал дожидаться момента, когда Венеция сама упадет к нему в руки. Он ждал ее реакции. 20 апреля 1797 года он послал корабль в бухту Лидо. Венецианский галеон его атаковал. Этого было достаточно для объявления войны.
Венецианский Сенат собрался на долговременное заседание.
Наполеон подстрекал жителей материковых городов поднять восстание против венецианского правления. 25 апреля к Бонапарту были посланы два венецианских аристократа. В напускном гневе он был великолепен. Он упрекал венецианцев за жестокость по отношению к его солдатам. «У меня не будет инквизиции и прочих проявлений варварства», – пообещал он. И закончил словами: «Я буду для венецианского государства Аттилой». Он кое-что знал о венецианской истории. За обедом он потребовал от венецианского казначейства репарацию в двадцать два миллиона франков.
29 апреля французские солдаты оккупировали венецианские границы. Когда на следующий день испуганные власти города собрались на заседание, залпы французской артиллерии были уже явственно слышны. Дож, ходивший взад-вперед по залу в своих личных апартаментах, где было решено собраться из соображений безопасности, сказал: «Сегодня мы не можем чувствовать себя в безопасности даже в собственных постелях». Затем поднялся прокуратор. «Я вижу, что таково положение по всей стране, – сказал он. – И здесь я ничем не могу помочь. Для честного человека любая страна – его отечество; он может найти для себя занятие и в Швейцарии». Его уговорили остаться, и он утешился понюшкой табаку. Аристократы в надежде избежать вторжения согласились ввести любые демократические изменения, которых потребует Бонапарт.
На следующий день, 1 мая, дож обратился к собравшемуся Большому совету. Он сказал, что необходимо любой ценой заключить мир с Наполеоном, и посоветовал молиться. Окончательное решение было отложено на несколько дней, в течение которых венецианские посланники курсировали между городом и лагерем Наполеона.
Они капитулировали по всем пунктам. Большой совет собрался 12 мая, чтобы ратифицировать протоколы переговоров. Необходимого кворума в шестьсот человек не набралось, но заседание решили начать. Едва перешли к обсуждению вопроса о принятии «предложенного временного репрезентативного правительства», французского правительства, как послышались выстрелы. В действительности это был салют корабля, покидавшего Лидо, однако патриции решили, что это канонада наступающей армии. Их охватила паника. «Ставьте вопрос на голосование!» – призвал дож, торопясь закрыть собрание. Большой совет подчинился и вскоре покинул зал, чтобы больше никогда туда не возвращаться.
Ипполито Ньево вспоминает: «Шестьдесят лет спустя у меня перед глазами все еще стояли эти испуганные, подавленные, встревоженные лица. Я мысленно вижу смертельную бледность одних, беспорядочные, словно у пьяных, жесты других, нервную торопливость большинства – казалось, они охотно повыпрыгивали бы из окон, чтобы избежать позорной сцены».
В воспоминаниях того времени рассказывалось, что дож, вернувшись в личные апартаменты, отдал свой герцогский берет слуге. «Возьми его себе, – сказал он. – Он мне больше не понадобится». Так перестала существовать Венецианская республика. Последний карнавал перед концом был задуман как самый роскошный и самый дорогой за всю историю города.
15 мая французская армия оккупировала город. В официальном отчете, предоставленном по этому поводу Бонапарту, сообщалось, что простые венецианцы «молча удалялись к себе в дома, восклицая со слезами: „Венеции больше нет! Святой Марк низвергнут!“» Лев Святого Марка действительно был снят с колонны, а на площади водружено Древо свободы. Знаки отличия дожа и Золотая книга патрициев подверглись ритуальному сожжению. Бывший дож и члены Большого совета присоединились к танцам вокруг Древа.
Таков был конец государства, просуществовавшего более тысячи лет. Самое древнее правительство в Европе оказалось еще одной косвенной жертвой Французской революции.
Наполеон разграбил произведения искусства и сокровища Венеции, как некогда она сама разграбила Константинополь и другие владения своей империи. Перенесение четырех бронзовых коней в Париж – совсем другая история; шестьсот лет назад они были похищены венецианцами из Константинополя. Они всегда были военными трофеями. Потом Наполеон обменял и саму Венецию. Осенью 1797 года он передал ее Австрии согласно договору campo Formio. Через восемь лет, разбив австрийцев, он взял ее назад. В 1805 году она вошла в объединенное Итальянское королевство. Это стало очередным унижением для Венеции, привыкшей держаться особняком от остальной Италии. Она никогда не участвовала в формировании национального самосознания итальянцев и неохотно согласилась с положением периферии государства. В 1814 году город снова оказался под властью Австрии. Он с достоинством принял эти изменения режима и склонил голову. Теперь он наблюдал за перипетиями своей судьбы.
В начале XIX века Наполеон занялся строительством общественных сооружений. На западном конце площади Сан-Марко был воздвигнут новый королевский дворец. Церкви и монастыри, расположенные прямо за Арсеналом, были снесены, на их месте разбили публичные сады. К ним была проложена новая дорога вдоль побережья, Виа Эуджения, теперь известная как Виа Гарибальди. Строительство общественных сооружений продолжалось и при австрийской оккупации. Лагуна была укреплена. В 1854 году был возведен мост Академии, второй мост через Большой канал. Однако самые радикальные изменения имели отношение к строительству железнодорожного моста, соединившего Венецию с материком. Город перестал быть островом и утерял веками освященный статус убежища от мира. Это означало и окончательную утрату основополагающего значения воды. Венеция стала городом не столько естественного, сколько механического времени. Возможно, сбылось древнее предсказание. В начале 1500-х годов дож Андреа Гритти обращался к дельфийскому оракулу. В то время ходили упорные слухи о неминуемой гибели Венеции. И в Дельфах, рядом со статуей Аполлона, ему привиделась панорама Венеции, окруженной не морем, а зелеными полями. Пророчество было истолковано так: когда Венеция станет частью суши, республика погибнет.
В этот период Венеция переживала тяжелый экономический спад, от которого она с трудом оправилась в XX веке. Класс патрициев ослаб, каждая третья семья просто вымерла. Некоторым из оставшихся аристократов австрийское правительство пожаловало почетные титулы. Но это была пустая формальность. Награды не обманывали никого, кроме их владельцев. Население города сократилось в результате эпидемий и миграции. В Венеции всегда были нищие, но к началу XIX века бедность и попрошайничество стали наиболее заметным аспектом городской жизни. По оценкам того времени, треть населения города зависела от милостыни и благотворительности. Именно тогда Венецией заинтересовались английские романтики. Их привлекали упадок и заброшенность.
В некотором смысле это был самый интересный период в истории города. campi заросли травой и сорняками, palazzo превратились в разоренные убежища для бедных. Каменные лестницы и мосты были покрыты водорослями, а деревянные причалы сгнили. Дома разваливались. «Кажется, Венеция на самом деле при последнем издыхании, – писал некий англичанин зимой 1816 года, – и если что-нибудь не будет предпринято для того, чтобы ее оживить и поддержать, она вскоре вновь погрузится в болота, из которых родилась. Остатки ее былого великолепия лишь подчеркивают ее нынешний упадок».
Однако поколение спустя благосостояние города было отчасти восстановлено. Он вернулся к прежней роли. И снова стал прибежищем для путешественников и туристов, для обслуживания которых было открыто одиннадцать больших отелей и бесконечное количество маленьких гостиниц. Чтобы усилить романтическое очарование ночного города, было устроено газовое освещение. Эту Венецию изобразил Тёрнер. Численность населения выросла. Торговцы, стеклодувы и гондольеры процветали. К середине XIX века в городе насчитывалось не менее восьмидесяти двух обувных магазинов и сто торговцев шелком.
При этом город по-прежнему находился под властью Габсбургов, и принципиальные социальные и экономические решения принимались в далекой Вене. Венеция стала всего лишь отдаленной подконтрольной областью большой империи. Разумеется, венецианцы были недовольны утратой своего статуса. Они жаловались на высокие налоги и жестокую цензуру. К тому же они не любили австрийских солдат и даже проводили нелестное сравнение с их предшественниками – французскими солдатами. «Едва ли найдется хотя бы один венецианский дом, где принимают австрийцев, – писал английский генеральный консул. – Те, кого подозревают в симпатиях к правительству, подвергаются всеобщему осуждению, их имена пишут на стенах и называют предателями родины».
Шелли был уверен, что венецианцы потеряли лицо во время оккупации города французской и австрийской армиями. «Пока я не пожил несколько дней среди венецианцев, – писал он, – я не имел представления, до каких размеров могут дойти жадность, трусость, суеверия, невежество, холодный разврат и все немыслимые пороки, к которым может обратиться человеческая природа».
Неверно было бы сказать, что венецианцы полностью утратили смелость и энергию. Эти человеческие качества не подвержены быстрым изменениям. В 1848 году, когда пришла пора испытаний, венецианцы приняли вызов. Речь идет об осаде Венеции.
Она началась в 1848-м, в Год революций, когда Орлеанский дом пал и во Франции установилась Вторая республика. Дух свободы распространился по всей Европе. Примечательно, что общественные беспорядки произошли в Вене, в самом сердце Австрийской империи, и император был вынужден принять новую Конституцию. Когда почтовый пароход привез эту новость из Триеста, венецианцы восстали против оккупационной австрийской армии. Собравшись на площади Святого Марка, они потребовали освободить еврейского юриста Даниеле Манина, посаженного в тюрьму за выражение венецианских патриотических чувств. Арсенал был захвачен местными жителями. Перед лицом всеобщего восстания, на подавление которого австрийцы не могли рассчитывать, австрийская армия согласилась покинуть Венецию и отошла по морю в Триест.
22 марта Манин был объявлен президентом новой республики. Когда ему сказали, что венецианцы любят праздность и потворствуют своим желаниям, он ответил: «Ни вы, ни кто-либо другой не знают венецианцев. Их никогда не понимали. Я горжусь тем, что их знаю. Это единственная моя заслуга».
Тогда казалось, что Венеция вновь восстала из глубин. В передовой статье Gazzetta di Venezia было провозглашено: «Мы свободны!» Ответом стал древний клич: «Да здравствует Святой Марк!»
Но в человеческих делах не может быть уверенности. Предсказанное не наступает; мировая жизнь состоит из непредвиденного и неожиданного. В 1849 году Австрия разбила национально-освободительные силы на материке и оккупировала Венето. Венеция вновь осталась один на один с угрожающими ей силами. На протяжении всей своей истории венецианцы боялись этого больше всего. Вскоре их страхи облеклись в материальную форму. Австрийская армия осадила город. Осада продолжалась семнадцать месяцев.
Народные чувства требовали сопротивления любой ценой. В городе, который в течение двух столетий упрекали в изнеженности и бесславии, воскрес древний дух независимости. Чтобы покончить с иностранным гнетом, венецианцы были готовы поставить на карту все. Они с радостью расставались со столовым серебром и драгоценностями ради благородного дела спасения Венеции. Даже бедняки отдавали свои тонкие браслеты и серебряные шпильки.
Когда разнесся слух, что город будут бомбить с воздуха с помощью воздушных шаров, он был незамедлительно развеян с помощью карикатур и уличных плакатов. 12 июля было запущено несколько воздушных шаров, но, оправдав комические ожидания, они упали в лагуну и были отнесены течением назад к австрийцам.
Однако в конце июля начался серьезный артиллерийский обстрел, продолжавшийся двадцать четыре дня. Были повреждены все дворцы на Большом канале. Большинство австрийских снарядов упало в северном районе Каннареджо, но огонь и дым распространились по всему городу.
Многие горожане сооружали башенки на крышах своих домов, где они ели и пили, наслаждаясь красочным зрелищем. Венецианцы всегда любили фейерверки. Дух венецианцев, как и лондонцев во время немецких налетов в 1940 году, оставался бодрым и непоколебимым. Венецианцы говорили, что будут держаться «до последней ложки поленты». Дети разыскивали упавшие австрийские ядра и относили на венецианские батареи для повторного использования.
Ужасы этого периода неоднократно описаны. Перед лицом голода и эпидемии азиатской холеры венецианцы отказались сдаться, подбадривая себя припевом «Да здравствует Святой Марк!». Но в конце концов сопротивление стало невозможным.
24 августа Манин подписал договор о капитуляции. Австрийская армия вернулась в разрушенный город, Манин был арестован и выслан в Париж. Его мечта о независимой республике, основанная на древнем прошлом города, не осуществилась. Но хотя бы на время Венеция вновь стала символом республиканской свободы, служа предметом восхищения для всех, кто презирал империю Габсбургов. Конечно, общественной поддержке не хватало материального подкрепления, и она не могла спасти город. Однако мужество и стойкость венецианцев навсегда рассеяли миф об их мягкотелости и бесхарактерности.
В наказание за восстание австрийцы отняли у Венеции статус свободного порта. Так закончилась морская жизнь города.
Австрийская оккупация продлилась еще семнадцать лет после осады. Венеция превратилась в город траура. «На суше и на море нет большей подавленности и печали, чем в современной Венеции», – писал американский консул в 1865 году. Она стала обителью уныния, напоминая «гробницу для живых». На ранних фотографиях город напоминает трущобы – женщины в шалях, мужчины в потертых шляпах.
Затем события во внешнем мире, к которому венецианцы стали равнодушны, представили город в новом свете. В 1866 году австрийские войска ушли, и Венеция стала частью нового Итальянского королевства. Царившая в городе атмосфера уныния и заброшенности начала рассеиваться.
Успех Лидо как курорта, наступивший в 1880-х годах, открыл новые перспективы торговли и процветания в лагуне. На острове были построены два роскошных отеля. Венеция вновь стала местом развлечений для богатых и знатных. Ее посещали лишившиеся трона члены королевских семей, герцоги и герцогини, популярные певцы, актеры и те, кого называли плейбоями. Приехали аристократы. За ними последовал средний класс.
В 1895 году была организована первая Международная выставка, вскоре ставшая известной как Биеннале. Она положила начало чисто венецианской традиции искусства, денег и знаменитостей.
С этого времени всем стало ясно, что единственным будущим для города может стать туризм. Создание индустриальной зоны на материке в Местре и Маргере, в непосредственной близости от Венеции, в первые десятилетия XX века только укрепило уверенность в том, что развитие современных форм жизни надо каким-то образом сдерживать. Так проявилось древнее стремление изгнать всю промышленность за пределы города. Венеция решила положиться на свою историю, подлинную или мнимую. Подлинное прошлое не получило определения. Город просто поощрял дух архаичности.
Дворец, построенный в XIII веке, в котором некогда размещалось турецкое подворье (Фондако деи Турки), пришел в упадок и был куплен муниципалитетом. Его восстановили – с симметрией и элегантностью, которыми он никогда не обладал. На языке историков архитектуры, здание было «слишком венециализировано». В 1907 году в Риальто был построен новый Рыбный рынок в стиле XV века. Происходило готическое возрождение и византийское возрождение. Новые гостиницы были выстроены в классическом стиле или стиле Возрождения. По берегам Большого канала вырастали новые дворцы, по внешнему виду которых можно было подумать, что они спроектированы и построены в XII или XIII веках.
Во время Первой мировой войны старые властители Венеции, австрийцы, оказались в опасной близости от города, их войска подошли совсем близко к границам лагуны. С колокольни на площади Святого Марка можно было видеть аэростаты заграждения, а порт пришлось закрыть из-за угрозы вражеской атаки. Но город не пал.
Он почти не подвергся разрушению во время двух мировых войн, мало пострадал от бомбардировок и за все годы военных действий потерял всего две сотни человек – большинство из них упали в каналы во время затемнения.
Однако были и другие жертвы. Приказы Муссолини и Гитлера обрекли венецианских евреев на страдания. В 1920-х годах город быстро усвоил идеи фашизма, и вскоре организованные группы сторонников Муссолини стали там могучей силой. Расистские законы 1938 года и активное преследование евреев в 1943–1945 годах нанесли глубокую рану венецианскому еврейству. Евреев увольняли с работы, не позволяли пользоваться пляжами Лидо, на общественных зданиях висели объявления «Евреям и собакам вход воспрещен». Историческая терпимость венецианцев исчезла.
В 1943 году, когда немецкая армия оккупировала город, около двухсот евреев были задержаны и депортированы в концентрационный лагерь на материке. Некоторых отправили в Аушвиц. Душевнобольных забирали из больниц на островах и казнили. Мир за пределами Венеции, реальный мир, взял управление в свои руки.
Вторая половина XX века была ознаменована исходом венецианцев на материк, где развитие промышленности обещало более высокие заработки и менее дорогое жилье. К тому же промышленность Местре и Маргеры помогла отравить воды лагуны, увеличив уязвимость городской окружающей среды.
В городе продолжала – и продолжает – процветать бюрократическая пассивность и некомпетентность. Джанфранко Пертот, автор книги «Венеция: экстраординарные расходы» (2004), отмечает «невыполнение обещаний, отсутствие программ и планов, а следовательно, и действий» со стороны венецианских властей. «Инерция и отсутствие мобильности» в городе отчасти позволяют и даже поощряют «возмутительную эксплуатацию, спекуляцию, разрушение и упадок». Утверждается, что в городе процветают взяточничество и повальная коррупция. Но какое общество не поражено коррупцией? Таковы условия человеческого существования. И они веками оставались условием существования Венеции.
К тому же в Венеции веками было почти невозможно установить источник или центр власти, распределенной между частично дублирующими друг друга правительственными организациями. Кто стоял во главе государства? Дож или Сенат? Совет десяти или Большой совет? Современное бюрократическое устройство города унаследовало эту сложность и расплывчатость. Приведем еще одну цитату из книги Пертота: «Вопрос о том, кто отвечает за положение дел в Венеции, до сих пор не решен». И так было всегда. В XV и XVI веках появлялись новые законы при сохранении старых.
История повторяется и ныне. В конце XX века один специальный закон о сохранении города следовал за другим специальным законом. Все части административного механизма были поражены проволочками и неразберихой. Все еще не существует соглашения заинтересованных сторон относительно будущего города. Каким ему быть? Городом-музеем и исследовательским центром? Просто раем для туристов и площадкой для различных международных выставок, которые притягивает лагуна? Или он должен восстановить свое прошлое живого города с постоянными жителями?
Возможно, для последнего предложения время уже прошло. Миграция жителей Венеции в Местре, начавшаяся в 1950-х годах, продолжается. В начале XXI века доходы жителей Венеции были самыми низкими во всем регионе Венето. Возраст трети населения превышает шестьдесят лет. Смертность здесь в четыре раза выше рождаемости. Вот почему ночью Венеция кажется такой пустынной. Она и впрямь опустела. Трудно вообразить, что когда-то этот город был густонаселен. Конечно, днем он полон туристов. Но, как ни парадоксально, туристы способствуют опустению города. Они превращают его жизнь в спектакль, лишенный глубины. Сейчас в Венеции постоянно проживает около шестидесяти тысяч человек, и демографы предполагают, что приблизительно к 2030 году последний венецианец покинет город.
Молодые венецианцы переехали на континент, где есть работа не только в сфере обслуживания. Для них Венеция стала слишком дорогой. Дома или квартиры покупают или снимают иностранцы. Найти жилье за приемлемую плату нелегко. Многие дома превращены в пансионы или гостиницы. Многие местные магазины почти не отличаются от сувенирных киосков. Мясники и пекари уехали, а магазинов, где продается мороженое, стало больше. Современная Венеция вновь как бы оказалась на осадном положении.
Вдали от главных туристических маршрутов город кажется запущенным. Частные дома разрушаются от двойной угрозы – оседания и затопления. Загрязнение окружающей среды от химических и нефтеперегонных заводов в Маргере, на материке, также губительно повлияло на кирпич и камень. Возникают трещины, стены смещаются и рушатся, из зданий выпадают камни. Слои штукатурки пропитываются на воздухе солью. Недавнее исследование Венеции, проведенное Джоном Берендтом, называется «Город падающих ангелов». Название навеяно объявлением на стене собора Санта-Мария делла Салюте. Иными словами, трудно не заметить некоторого цинизма оставшихся жителей города.
Большое наводнение 1966 года, когда дневной прилив поднялся выше обычного почти на два метра, напомнило венецианцам, что их городу все еще грозит опасность. Это событие взволновало весь мир, для сбора средств на реставрацию Венеции был создан фонд «Венеция в опасности». Город постепенно оседает, и опасность затопления увеличивается. Было подсчитано, что площадь Святого Марка каждый год заливает около пятидесяти раз.
Море продолжает подниматься. К угрозе глобального потепления присоединились ил, скапливающийся на дне лагуны, и метан из Адриатики. Море возвращает себе древние владения, несмотря на постоянное и энергичное противодействие людей. К примеру, в процессе разработки находится проект, в соответствии с которым в узком проливе, где встречаются море и лагуна, будет возведено семьдесят девять заграждений, которые во время угрожающе высоких приливов будут подниматься с помощью сжатого воздуха. Однако против этого спорного предложения выступают многие венецианцы, утверждающие, что лагуна, лишенная прилива, превратится в стоячий пруд. К тому же осуществление проекта потребует столько денег, что многие потребности самого города будут оставлены без внимания.
Как бы там ни было, Венеция – часть Италии. Потеряв независимость, она лишилась прав и перестала быть хозяйкой собственной судьбы. Но, потеряв уникальность, не потеряла ли она и энергию? Пегги Гугенхейм однажды сказала, что «когда Венеция затоплена, она вызывает еще большую любовь». Подобно Офелии, она плывет, угасая, по воде, то отнимая, то вселяя надежду.
Однако Венеция постоянно подвергалась опасности, ее существование постоянно находилось под угрозой. Она – творение рук человеческих, зависящее от превратностей природы. И она не погибла. Вот это достойно подражания. Будем надеяться, что ее воля к жизни останется могучим источником энергии.
Здесь кончается исторический урок.
Глава 33
Смерть в Венеции
У подножья барочной колокольни церкви Санта-Мария Формоза над входом изваяна отвратительная маска со следами разложения и страдания. По словам Рёскина, «хорошо, что в этом месте мы можем увидеть и почувствовать полный ужас происходящего и знаем, какая погибель пришла и дохнула на ее (Венеции) красоту, пока она не исчезла». Для него деформированное лицо символизировало упадок Венеции начиная с эпохи Возрождения. На самом деле каменная маска гораздо интереснее. Она точно воспроизводит лицо человека, страдающего нейрофиброматозом, или болезнью Реклингхаузена.
Венеция ассоциируется со смертью и чумой. Она в значительной части является полуразрушенным городом, о его крошащийся кирпич и штукатурку плещется вода.
Джон Аддингтон Саймондс в «Венецианской мозаике» пишет, что «темная вода нашептывает нам на уши рассказы смерти». Венеция город теней. К тому же этот город связан с чумой и спрятанным ножом убийцы. В нем до сих пор существует Rio Terra degli Assasini (Переулок убийц). Самый известный рассказ, созданный в этом городе, – «Смерть в Венеции» Томаса Манна. Надгробная песнь Венеции к лицу. Венеция обречена. Об этом рассказывают волны. В городе поблекших камней Байрон размышляет об упадке.
- Венеция! Когда тебя поглотят воды
- И с морем мрамор твой сровняет власть времен, —
- О, над тобой тогда заплачут все народы
- И громко прозвучит над морем долгий стон[19].
Это место слизи, плесени и ила. Маринетти назвал Венецию «разлагающимся городом», «великолепной язвой прошлого». Для Рёскина она стала призраком на поверхности моря. Ее тишина зловеща. От ее развалин веет смертью более чем в других местах, так как на них не различить прикосновения природы, обещающей возрождение. Эти каменные развалины окончательны. Их не покроют ни мох, ни трава. Они являют собой то, что Шелли назвал «мрачной бесформенной грудой» камней. В «Последнем человеке» (1826) Мэри Шелли так описала подобную сцену запустения: «Прилив неохотно отхлынул от рухнувших порталов и оскверненных залов Венеции». Единственная судьба, ожидающая город, словно покинувший изменчивый мир времени, – Апокалипсис. Он должен затонуть, молча и навсегда погрузиться под воду. Этот образ города олицетворяет конец всех человеческих достижений и надежд. Уильям Вордсворт написал сонет о Венеции (1802), кончающийся словами:
- Мы – люди! Пожалеем вместе с ней,
- Что все ушло, блиставшее когда-то,
- Что стер наш век и тень великих дней[20].
«Я не чувствую романтики Венеции, – говорил Рёскин отцу. – Это просто груда развалин». Венецианские хроники более давних времен полны рассказов о церквах, мостах или домах, внезапно рухнувших и превратившихся в груды пыли и битого камня.
В XVIII веке в городе распространился культ живописных руин. Руины там были даже в XIV веке. Многие дома были покинуты в плачевном состоянии и больше не восстанавливались. Разумеется, там нет античных руин, как почти во всех городах Италии – в этом отношении Венеция стоит особняком, – скорее можно говорить о медленном, но постоянном разрушении еще воспринимаемой красоты. Город лишен надежности великих городов древности. Вот почему упадок и разрушение в Венеции все же прекраснее большинства великолепных зданий в других местах. Они неотъемлемая часть ее особого очарования. Часть сладкой меланхолии быстротечности. Они напоминают человека, который движется к могиле.
Для Генри Джеймса Венеция была самой красивой в мире усыпальницей, где прошлое «похоронено с такой нежностью, такой печалью смирения». Церкви полны гробниц. Некогда существовала Сampiello dei Morti (площадь Мертвых), но название было изменено на campi ello Nuovo (Новую площадь). Некогда существовал Мост мертвецов, но теперь он называется Мост портных. А Calle dela Morte (улица Смерти) осталась. И все же кладбище тоже может стать метафорой. В XVIII веке Венецию называли «гробницей аристократов, в которой заперты здоровые люди».
Теперь рядом с городом есть остров мертвых, Сан-Микеле. Раньше там был монастырь, в котором занимались науками, но в XIX веке здесь было устроено кладбище, чтобы тела умерших более не находились вблизи живых. Трупы, уложенные в маленькие мраморные ящики, хранятся как бы в смертельном буфете. Церковь Сан-Микеле ин Изола, построенная почти четырьмя веками ранее, охраняла пространство, словно гроб повапленный. Число тел, покоящихся на кладбище, в несколько раз превосходит число жителей города. По прошествии некоторого времени тела вынимают из гробов, а скелеты отвозят на остров костей Сант-Ариано. Разве это не настоящая laguna morte (мертвая лагуна)? Меж черепов и костей снуют крысы и рептилии; среди разложения вырастают костяные цветы.
В Венеции существует культ смерти. Футуристы Италии верили, что этот город – храм поклонения смерти, с которой связано его основание и существование. В своем манифесте футуристы заявляли, что настало время «засыпать вонючие мелкие каналы обломками обветшавших зараженных старых дворцов». «Давайте сожжем гондолы, эти кресла-качалки для идиотов», – призывали они. Для них весь город был «огромной сточной трубой традиционализма».
Когда-то венецианские похороны поражали великолепием. С самого начала похоронные ритуалы города напоминали скорее ритуалы Египта или Ассирии, а не любого из итальянских городов. Тело покойного укладывали на пол, покрытый пеплом. Его родственникам полагалось продемонстрировать все пароксизмы горя, испуская вопли и стоны; по обычаю осиротевший супруг или супруга ложились на пороге, чтобы тело любимой или любимого не вынесли из дома; затем его или ее ритуально оттаскивали прочь. Тело обычно проносили по улицам города с открытым лицом и обнаженными ногами. Участники похоронной процессии несли хоругви и факелы, а комнаты дома покойного драпировались черным бархатом. Семья усопшего должна была громко рыдать на протяжении всей траурной церемонии. Это еще один пример восточного влияния на город. Того, кто умер девственником или девственницей, хоронили с зеленым венком на голове.
Всякий, кто видел фильм «А теперь не смотри» (1973), вспомнит катафалк, плывущий по воде в черной гондоле. Когда остров Сан-Микеле превратили в кладбище, возник обычай едва ли не триумфальных процессий к центру мертвых; появились траурные гондолы, предназначенные для этой цели, с пятью гондольерами в золоченых костюмах. Один из них стоял перед гробом с жезлом в руке, на носу и корме гондолы возвышались скульптурные изображения святых и пророков. Даже для более скромных похорон гондольеры надевали черные шарфы и кушаки, а гроб с катафалком был щедро украшен цветами.
В венецианских сказках и народных поверьях чувствуется болезненный интерес к смерти. Французский король Людовик XII сказал, что венецианцы слишком боятся смерти, чтобы выиграть войну; им присущ страх купцов перед насилием и ненадежностью. Город окружен остовами, на которые всегда высылали сумасшедших и прочих опасных для общества людей. В «Венеции» Джен Моррис написал: «Венецианцев зачаровывают мертвецы, ужасы, тюрьмы, извращенцы и уроды». Возможно, потому что сам город противоестественен и похож на тюрьму. Есть подозрение, что это мертвый город.
Некоторые люди, оказавшись в Венеции, физически чувствуют, что заболевают. Французский писатель Морис Барре заявил, что как только он вышел из вокзала и подошел к стоянке гондол – чувствуя на лице ветер лагуны, – понял, что напрасно понадеялся на хинин. «Я явственно ощутил, как внутри меня возрождаются к жизни миллионы бактерий… Повсюду в Венеции человек видит победу смерти», – написал он. Вагнер, ступив в гондолу, испытал схожие чувства.
Вагнер умер в Венеции. Стравинский умер во время шторма над лагуной. Здесь же скончался и Браунинг. И Дягилев. Некоторые умерли неподалеку. Данте умер в Равенне от лихорадки, которую подхватил в Венеции. Байрон решил закончить свои дни в этом городе, но ему помешали события, случившиеся в другом месте. Можно с определенной долей вероятности предположить, что в этом самом артистическом из городов умрет некоторое число артистов, но истина заключается в том, что люди, чтобы умереть, отправляются именно в Венецию. Генри Джеймс интуитивно ощутил фатальную притягательность города для страдающей Милли Тил в «Крыльях голубки». «Мне кажется, – говорит она, – здесь было бы приятно умереть». Есть что-то утешительное в смерти около воды, в городе, который сам находится в предсмертной агонии. Умереть в большом венецианском доме, как Вагнер или Браунинг, значит обрести огромный надгробный памятник, не тратясь на строительство. А неумолчный колокольный звон может послужить репетицией смерти.
Город навевает меланхолию и подрывает силы. Это не место для старых, больных и страдающих. Его атмосфера порождает депрессию и вялость. Когда французский художник Леопольд Робер покончил с собой в Венеции, его соотечественница Жорж Санд приписала это атмосфере города. Венецианским вечером Антону Чехову, услышавшему музыку и пение, захотелось разрыдаться. Венеция – город слез. Вагнер, впервые попав в Венецию, погрузился в состояние крайней меланхолии. Когда Томас Мур посетил в Венеции Байрона, он сразу же невзлюбил город и назвал его печальным местом. Такой же была реакция многих путешественников, внезапно испытавших странную подавленность. Даже в карнавальной атмосфере XVIII века чувствовалась меланхолия. Иначе зачем так надрывно веселиться? Англичане, жившие в Венеции в XIX веке, советовали вновь прибывшим соотечественникам не проводить в городе слишком много времени. Считалось, что длительное пребывание здесь способствует мрачному расположению духа. Этому имеется объяснение из области культуры и психологии. В то время английские путешественники верили, что вся история Венеции была историей потерь и угасания, что город утратил цель существования и ему не на что больше надеяться. Возможно, так они предчувствовали упадок Англии и Британской империи.
Присутствие воды также навевает меланхолию. Вода олицетворяет память и бег времени. Вода – символ забвения. Она привлекает тех, кто хотел бы уйти от мира. Тех, кто хотел бы забыть и быть забытым. В угасании Венеции есть нечто, служащее утешением проигравшим битву с жизнью. Огромная и нередко безмолвная лагуна по-прежнему доминирует над городом. Для тех, кто держал путь на Восток, для купцов или пилигримов, Венеция была последним портом на западном берегу. Возможно, все эти прощания оставили в воздухе осязаемое чувство ностальгии. Возможно, люди с атавистическим складом ума горько сожалеют о прошлом, которое столь мучительно проступает на порой слишком шумных улицах современной Венеции.
Жан Кокто описывал Венецию как больной лихорадочный город, плавающий в застойной воде и испускающий ядовитые испарения. Считалось, что на границе лагуны, там, где соленая вода смешивается с пресной, образуется вредный для здоровья воздух, а оттуда малярию разносят комары. В древности груды бревен и ловушки для рыбы также препятствовали свободному течению воды. Некогда процветающие поселения и острова вскоре оказывались в центре зловонных болот. В летние месяцы венецианские москиты до сих пор причиняют неудобства.
Корреспонденция сэра Генри Уоттона полна упоминаний о нездоровом, на его взгляд, воздухе. Он «чувствовал сильную слабость и потливость, которые мгновенно возникают в этом воздухе»; боли в груди «усилились в этом туманном воздухе». Он чувствовал, что им овладевает ипохондрия, «ибо ее рождает само это сырое место». Венеция вызывала в нем «свойственную ему склонность к унынию».
В Венеции стояло страшное зловоние, особенно в летние месяцы. В XVIII веке город поражал запущенностью и грязью: на углах возле каналов гнили кучи мусора, в каналы сливались все виды нечистот и отходов. Узкие каналы мало чем отличались от сточных канав. В нарушение санитарного законодательства мусор веками сбрасывался в каналы под тем предлогом, что их очистит прилив. Эта дурная привычка укоренилась, и домохозяйки просто выбрасывали мусор на улицу.
В 1780-х годах Хестер Трейл заметила, что в Венеции «отвращение преобладает над всеми другими чувствами». В базилике грязь и зловоние. Весь ладан с алтарей не может заглушить отвратительный запах. В то же самое время, что и Хестер Трейл, тюремный реформатор Джон Говард писал о городе, как о «месте, зараженном вирусом преисподней». Гете отметил, что в дождливые дни под ногами хлюпает «мерзкая грязь», состоящая из грязи и экскрементов. Самих венецианцев считали грязными и неаккуратными. Раньше запах сам по себе считался признаком болезни. Он наполнял Эдварда Джиббона «пресыщенностью и отвращением». Неудивительно, что все эти сообщения относятся к XVIII веку. Венеция не в один день наполнилась смрадом – она всегда была и в некотором смысле остается такой до сих пор, – но только в XVIII веке путешественники стали отпускать по этому поводу замечания. До этого зловоние, человеческое или любое другое, было чем-то само собой разумеющимся.
Только в конце XIX века связь между запахом и болезнью стали отрицать на основании научных фактов. В 1899 году некий доктор отметил, что «многие запахи» Венеции безвредны, «так как они вызываются разложением сульфатов соленой воды и превращением их в сульфиды, в результате чего выделяются зловонные газы». Это объяснение не слишком утешало. В XIX веке Ральф Уолдо Эмерсон заметил, что в Венеции пахнет трюмной водой, а в конце XX века Донна Леон, автор детективов, действие которых происходит в Венеции, описала в «Безымянном венецианце» «проникающий повсюду запах разложения, всегда таящийся в глубине». Эту фразу можно понимать двояко – и как метафору, и буквально. В то же время другой автор детективов, Майкл Дибдин, писал в «Мертвой лагуне» (1994) о канале, где «в воздухе висят густые отвратительные запахи взбаламученной грязи, вредоносные миазмы такой силы, что они почти осязаемы». Авторов криминальных романов влечет к гибельному городу, где за красивой поверхностью скрываются летучие запахи.
В голодные времена, особенно в первые десятилетия XVI века, бедняков из-за недоедания поражала лихорадка. Лихорадка была разлита в воздухе. Существовали и другие болезни. Гастроэнтерит, тиф и инфлюэнца приходили и уходили вместе с временами года. Диарея и глазные болезни считались эндемическими заболеваниями. Некий врач XVI века приписывал недуги венецианцев половым излишествам и обжорству. В 1588 году появилась прежде неизвестная болезнь – грипп, сваливший с ног всю Венецию. Впервые в истории не собрался Большой совет. На первый взгляд у гриппа множество симптомов, но он в действительности был тяжелой формой инфлюэнцы.
И, разумеется, была еще одна болезнь, известная в просторечии как Смерть. Известно, что Венеция была первым европейским городом, в который пришла чума. Когда осенью 1347 года венецианская галера вернулась в родной порт из торгового плавания в Каффу на Черном море, она привезла в своем трюме черных крыс, на которых жили блохи Yersinia pestis. Торговые пути между Востоком и Западом сеяли смерть. Эпидемия распространялась также из Венеции. (Говорят, что Великая чума, разразившаяся в Лондоне более трех столетий спустя, началась после того, как в съемных комнатах на севере Друри-лейн умерли два венецианца). Так в Европу проникла Черная смерть. Весной 1348 года венецианские власти, напуганные массовыми смертями горожан, назначили трех человек, чтобы «тщательно рассмотреть все возможные способы сохранить здоровье города и избежать заражения воздуха». Это первый в истории Европы случай государственного и законодательного регулирования в области здравоохранения.
В Венеции очень рано возникла сеть общественных больниц. Было открыто множество церковных и благотворительных заведений для нуждающихся женщин, детей, сирот и опасно больных. К примеру, в 1735 году были учреждены специальные отделения для больных туберкулезом. В 1258 году уже существовала гильдия врачей и аптекарей, а полвека спустя государство выплачивало годовое жалованье двенадцати врачам-хирургам. В 1368 году была открыта Медицинская академия. В то время доктора пользовались благосклонностью государства. Они облагались небольшим налогом и могли одеваться как им было угодно. Они носили белые шелковые чулки и кружевные камзолы. Им разрешалось носить любое количество колец. Им вменялось в обязанность наблюдать за работой фармацевтов и аптекарей, но запрещалось участвовать в их доходах. Аптечное дело было развито в Венеции с древности, отчасти благодаря притоку лекарств из таких торговых портов, как Каир и Византия. С Востока поступало и самое чудодейственное средство, известное как treacle– смесь янтаря и восточных специй, которое якобы излечивало все болезни, от чумы до укуса змеи. От этого корня происходит английское treacle (патока, или противоядие).
Экономические и социальные последствия первой в Европе эпидемии чумы были огромны. Однако в городе в лагуне они имели особенности. Черная чума косвенно послужила спусковым механизмом крестьянского восстания в Англии и Жакерии во Франции, однако в Венеции подобных беспорядков или мятежа не было. Люди сохраняли спокойствие. При этом нехватка рабочих рук была так сильна, что в 1348 году правительство объявило, что предоставит гражданство каждому, кто поселится в городе в следующем году. Это неслыханное предложение больше никогда не повторялось.
В анналах города содержится более семидесяти записей о визитах Смерти. Чума 1527 года уничтожила пятую часть населения Венеции. Больные умирали прямо на улицах, а их тела плавали в каналах. Но самая страшная эпидемия случилась в 1575–1576 годах, когда погибло более трети населения. С июля 1575 по февраль 1577 года в Венеции умерли сорок шесть тысяч семьсот двадцать один человек. Из страха заразиться жены бросали мужей, а сыновья – матерей. Одной из жертв чумы стал Тициан, ничем не болевший на протяжении долгой жизни. Близлежащие острова, Ладзаретто Нуово и Ладзаретто Веккио, где прежде жили прокаженные, теперь были отданы жертвам чумы. Тех, кто казался здоровым, но вызывал подозрения, на двадцать два дня отправляли на Ладзаретто Нуово. Тот, кто нарушил предписание, на несколько лет изгонялся из города. Тех, кто уже заболел, высылали на Лазаретто Веккио, где условия заведомо были ужасны. В палатах раздавались стоны, некоторые больные бросались в воды лагуны, над островком висели клубы дыма от сжигаемых тел.
Город был охвачен пароксизмом ненависти к себе, являвшейся оборотной стороной веры в свое священное предназначение. В глазах некоего венецианского поэта целомудренная дева превратилась в orrido mostro (ужасное чудовище). Горожане, погрязшие в пороках и роскоши, навлекли на себя гнев Божий. К тому же и статус Венеции как абсолютной модели города работал против нее. Все города переживают упадок. Все города – приют смерти и болезни. Поэтому в мифе и предании Венеция должна была быть крайне нездоровым местом.
Нашествия чумы повторялись. С июля 1630 по октябрь 1631 года в городе умерли сорок шесть тысяч четыреста девяносто человек. Летом 1630 года бежало двадцать четыре тысячи человек – от болезни и изнуряющей жары, которая вызывает лихорадку. В поисках Божественной защиты возносились молитвы святым, но святые не слишком помогали. Венецианские врачи облачились в черные мантии, пропитанные воском и ароматическими маслами, покрыли голову капюшоном, глаза защитили большими очками, а нос – длинным клювом с фильтром на конце. Они сами казались привидениями. Но в силу любопытного акта переноса именно это зловещее одеяние стало одним из излюбленных карнавальных костюмов. Это было не только memento mori (помни о смерти), мотив, весьма характерный для стихии карнавала, но и способ посмеяться над смертью.
И все же те, кто сумел приспособиться к климату Венеции, обычно отличались отменным здоровьем. По меньшей мере аристократы жили, как правило, очень долго. Считалось, что мягкий климат способствует неге и чувственности. На вид венецианцы XVII–XVIII веков (а возможно, и позже) отличались нежной плотью и округлостью форм. Их кожа была бархатисто-белой. Однако внешность порой обманчива. Летописцы отмечали особую живость и импульсивность горожан. Венецианцам, создавшим свой город в неблагоприятных условиях, пришлось выработать твердый характер, чтобы его защищать и хранить. Как утверждалось в XIX веке, возбуждение поддерживает жизнь.
Многие венецианские дожи были избраны, когда им перевалило за девяносто. Город был раем для стариков, и местную форму правления можно, по сути, назвать геронтократией. «Никогда ни в каком другом месте, – писал Файнс Моррисон в конце XVI века, – я не видел такое множество глубоких старцев или сенаторов, уважаемых за их седины и старческую степенность». В венецианских архивах хранится сообщение о настоятельнице монастыря, обратившейся летом 1521 года с жалобой к правящему дожу, аббатисе было сто шесть лет. Тициан скончался в девяносто один год, Тинторетто в семьдесят шесть, Беллини в восемьдесят шесть. Пьетро Лонги было восемьдесят три, а Франческо Гварди восемьдесят один. В эпоху, когда они жили, это был весьма преклонный возраст. Он служит мерой их бурной деятельности, их гибкости и энергии, которыми отличается венецианский гений.
Было сказано, что венецианцы жили дольше современников. По мнению Макиавелли, постоянная активность горожан позволяла им держать болезнь на расстоянии. Возможно, трата жизненных сил позволяла им противостоять недугам. В наше время отсутствие транспорта в городе означает, что по улицам и мостам приходится ходить пешком. Поэтому современные венецианцы меньше страдают от гипертонии и сердечных заболеваний; однако из-за влажного воздуха они чаще болеют ревматизмом.
Венеция была городом смерти в совершенно ином смысле. Ее «убийства по суду» были известны всей Европе секретностью и быстротой. Людей, оскорбивших государство, незамедлительно уничтожали. Мартовским утром 1498 года бытописатель Марино Санудо услышал тихий разговор на улице, смысл которого заключался в том, что справедливость восторжествовала. Проходя по площади Святого Марка, он увидел на piazzetta высокое должностное лицо, болтавшееся между двумя колоннами. Чиновника, обвиненного в измене, повесили, никого не известив. Он был в своем обычном костюме с пышными рукавами. Почти триста лет спустя английский художник Джеймс Норткот с ужасом увидел болтавшееся между колоннами тело с табличкой, на которой значилось: «За государственную измену». Говорили, что если число приговоренных было недостаточным, власти брали трупы из больниц и вешали их, чтобы держать население в страхе. Впрочем, это весьма сомнительно.
Церемонии публичной казни были призваны подчеркнуть тот факт, что государство возлагает на себя квазирелигиозную роль ангела мщения. Приговоренного сопровождали к плахе или виселице члены венецианской гильдии смерти в черных капюшонах. Затем он или она поворачивались к изображению Венеции и декламировали на латыни Salve Regina (хвалебная песнь Пресвятой Богородице). На казни присутствовал дож в самых пышных одеждах. Горожане стояли молча и чинно, словно члены религиозного братства. Это была религиозная церемония, призванная очистить государство от заблудшего индивида. Публичные казни в Венеции не имели ничего общего с беспорядком и весельем лондонского Тайберна, где преступников, пока они шли к виселице, приветствовали криками и аплодисментами. В Венеции казни были торжественным общим ритуалом.
Многих внутренних врагов города удушили в камерах Дворца дожей, а их тела тайно сбросили в воды лагуны. Когда племянник дожа в 1650 году был замечен в гондоле с испанским дипломатом, его бросили в камеру во дворце его дяди и быстро умертвили. За островом Сан-Джорджио Маджоре проходит большой канал, известный как Канале Орфано, из которого тела казненных попадали в море. Некий генерал, наемник, прельстившийся щедрым венецианским жалованьем, был заподозрен в сношениях с врагом. Под предлогом консультации он был вызван в Большой совет во Дворце дожей и сразу же направлен к секретной двери. «Мы не туда идем», – сказал он. «Туда, туда, – ответили ему. – Мы идем именно туда, куда надо». Коридор привел его к тюремной камере. «Я погиб!» – вероятно, воскликнул он. Старая венецианская пословица гласит: «Мертвец не воюет». Пощады не мог ожидать и любой венецианский адмирал или полководец, не оправдавший надежд государства.
Приговоры бывали весьма суровыми. В XIV и XV веках фальшивомонетчиков сжигали заживо. Сыновьям двух сенаторов, распевавшим богохульные песни, вырвали языки и отрубили кисти рук. Монах, от которого забеременело не менее пятнадцати монахинь, был сожжен на костре. Двух священников, обвиненных в государственной измене, похоронили заживо, положив друг на друга лицом к лицу. Подобная жестокость заставляет вспомнить о восточных казнях. В Венеции изобрели новый вид казни: приговоренного к смерти помещали в деревянную клетку с железными прутьями, которую затем подвешивали на колокольне на площади Святого Марка. Несчастного кормили уменьшавшимися порциями хлеба и воды, которые доставлялись к нему на веревке, пока он не умирал от голода и жажды на глазах у многочисленной толпы, снующей внизу.
Венецианцы также славились тайными убийствами. В 1421 году Совет десяти решил отравить герцога Миланского, предварительно испробовав яд на двух свиньях. О результатах ничего не сообщается. В 1649 году венецианский врач изготовил «квинтэссенцию чумы», чтобы применить ее против турок; это первое в истории упоминание о попытке использования биологического оружия. В столицах Европы бытовало мнение, что Венеция использует группу профессиональных убийц, готовых уничтожить врагов, где бы те ни находились. Эта история вымышлена, но она свидетельствует о глубоком подозрении, какое испытывали к венецианцам другие страны. Когда сила и могущество города стали иссякать, враждебность тоже уменьшилась. В XVIII веке говорили, что яд, используемый венецианскими властями, выдохся, а рецепт его изготовления потерян.
Отражают ли сообщения о государственном насилии отношение к насилию вообще? В данном случае важна природа насилия сама по себе. Власти применяли насилие, не считаясь с достоинством и спокойствием граждан. Говоря современным языком, права жертвы редко соблюдались. Преступления против государства – к примеру измена – наказывались быстро и жестоко. Не столь тяжкие государственные преступления влекли за собой не менее жестокое наказание. Наиболее суровые наказания применялись к людям, оскорбившим город. Генуэзский моряк, прибыв в лагуну, заявил, что с радостью омыл бы руки венецианской кровью. Его немедленно схватили и повесили, отрезав подошвы ног, чтобы кровь его орошала камни Венеции. Когда в 1329 году венецианец Марко Рицо заявил, что хотел бы бросить всех патрициев в тюрьму, его арестовали, вырвали язык и навсегда изгнали из города.
Преступления против собственности считались более тяжкими, чем преступления по страсти. К примеру, пытки обычно применялись в случае воровства, но не в случае убийства. За повторный грабеж преступнику автоматически грозило повешение. Создается впечатление, что изнасилование было обычным делом, особенно изнасилование простолюдинок патрициями. Однако это преступление наказывалось всего восьмидневным тюремным заключением, причем насильник освобождался от наказания, если выплачивал жертве сумму в размере приданого. Это преступление не считалось серьезным.
Судебные протоколы свидетельствуют о том, что жертвы нападения предпочитали кричать «Пожар!» вместо «Помогите!», так как это быстрее привлекало внимание.
Больше всего преступлений в венецианском обществе совершали аристократы, хотя представители их класса стремились облегчить им наказание за преступления, не угрожающие государственному статус-кво. В частности, молодые аристократы бывали крайне необузданны. Казанова всегда носил при себе нож, который, по его словам, «в Венеции носят все честные люди, чтобы защитить свою жизнь». Простые горожане были более послушны. В Венеции существовали значительные силы по поддержанию порядка, да и сами popolani были начеку и яростно защищали общественную безопасность. В густонаселенном торговом городе соблюдение порядка отвечало всеобщим интересам. В нем имелось место для партийных фракций, но не для преступных банд. Преступников-одиночек здесь не чествовали, в отличие от других стран. В любом случае, куда мог скрыться преступник в городе, окруженном водой?
Стоит ли удивляться тому, что в Венеции многие сходили с ума? Автор этой книги слышал вой, похожий на вой обреченных на вечные муки, который доносился из небольшого доходного дома в Кастелло. Безумие поражает островитян коварнее, чем других. В самом городе никогда не было сумасшедшего дома; возможно, это считалось слишком вызывающим. Душевнобольных содержали на нескольких островах лагуны. К примеру, с XVIII века женщин, потерявших рассудок, отправляли на остров Сан-Клементе, где их за различные проступки подвешивали в клетках над водой. Мужской сумасшедший дом на острове Сан-Серволо обессмертил Шелли:
- То, что мы видим, – дом умалишенных
- С своею башней, – молвил Маддало.
- Вот в этот час всегда здесь слышать можно,
- Как над лагуной колокол поет,
- И каждого из кельи он тревожно
- К вечерне для моления зовет[21].
Из зарешеченных окон палат сумасшедшие окликали проплывавшие мимо гондолы.
Можно сказать, что сам город демонстрировал некоторые психопатические склонности. Он постоянно находился в состоянии сильнейшего беспокойства. С момента трудного и опасного возникновения в водах лагуны, он чувствовал себя во вражеской осаде всего мира. Когда-то он в полном смысле слова находился в изоляции и страдал от глубокой онтологической неуверенности. Причины этого понять нетрудно: представьте Нью-Йорк или Париж, стоящие на воде, и вы почувствуете глубинный страх, сопряженный с подобным положением. Вода зыбка. Вода непредсказуема. Вот почему Венеция всегда подчеркивала свою устойчивость и постоянство.
На протяжении всей своей истории она ощущает угрозу. Она проецирует образы непрочности и уязвимости, тем самым настойчиво вызывая реакцию заботы и попечения. В XII веке частые землетрясения повергли горожан в панику. В 1105 году остров Маламокко затопило, и было решено, что Венецию постигнет та же участь. В XIII веке город охватил почти истерический страх пожара; считалось, что он тлеет где-то внутри, готовый вырваться наружу во мраке ночи. В XV веке горожан повергла в ужас угроза заиливания лагуны и обмеления каналов. Говорили, что с каждым годом Венеции угрожает все большая опасность. Во второй половине того же века люди верили, что Венецию неминуемо постигнет кара за грехи. Грядет Божий суд, и Венеция погрузится в пучину волн.
Венеции всегда угрожала опасность. Во все века считалось, что город ждет неминуемая гибель. Все его действия, возможно, объясняются глубоким всеобъемлющим страхом, а захват материковых земель и создание империи были попытками уменьшить неуверенность. Медленное торжественное правление патрициев на самом деле представляло собой защитный механизм. Венецианцы ненавидели непредсказуемость. Они испытывали нешуточный страх перед будущим. Стяжательство, страсть к золоту и другим богатствам, возможно, объясняются так же, как скупость мистера Скруджа в повести Чарлза Диккенса «Рождественская песнь» (1843) – «Ты слишком боишься мира». Однако триумф Венеции, главный источник ее гражданской гордости в XVII и XVIII веках, ее притязания на вечную славу можно объяснить простым фактом: она поставила себя в уязвимое положение и все-таки осталась неоскверненной. Какой еще город на земле может об этом заявить?
Этот город всегда осознавал себя, был одержим собой. И занимался самообманом. Он лгал самому себе. Создавал о себе мифы. Он сочинил свою историю, совершенно не согласующуюся с подлинной. Он был во власти противоположных импульсов; к примеру, проповедовал гражданскую свободу и в то же время требовал полного контроля над населением. На первый взгляд в нем царила атмосфера праздничного веселья, однако в центре его политики лежал коммерческий расчет. Многочисленные воззвания к народу Венеции не поддаваться искушению роскошью, чувственностью и расточительностью свидетельствуют о том, что город охватывала ненависть к себе. «Мы должны быть непорочными» – таков был призыв. Мы должны остаться неоскверненными, как наш город. Должны быть безупречными. Поэтому то, что угрожало порядку или безопасности, изгонялось за пределы города.
Настроение народа было крайне неустойчивым. Любые внезапные изменения или неожиданные поражения повергали его в отчаяние. В XVI веке Марино Санудо то и дело пишет в дневнике: «Весь город в отчаянии». Город преследовал постоянный страх заговора. У человека это опасный симптом психического расстройства.
Можно сказать, что Венеция олицетворяет все города. Она воплотила в себе многие страхи, поражающие города: страх заболеть, страх заразиться, страх навсегда быть отрезанным от природы. Но она олицетворяет и пороки всех городов: их роскошь, их могущество, их агрессию. Место, полное страхов.
XI
Город мифов
Глава 34
Карта разворачивается
Существует множество карт Венеции, не все из них надежны. Возможно, по количеству карт этот город занимает первое место в мире, и все же в некотором смысле он не поддается переносу на карту. Calli слишком напоминают лабиринты, тесные проходы между ними слишком извилисты. Здесь слишком много закоулков, чтобы их можно было начертить на бумаге. Во всяком случае, город расположен не на одном уровне, а раскинулся вдоль мостов и каналов. До боли знакомая картина: туристы, потрясающие картой и тщетно вглядывающиеся в названия улиц и мостов. Они оказались в «совсем другом месте». Чужакам в Венеции нельзя не заблудиться. Во всяком случае, городов, созданных человеческим воображением, нет ни на одной карте.
Первая дошедшая до нас карта Венеции, на которой можно ясно разглядеть окончательные очертания города, относится к XII веку. Но самой известной остается карта 1500 года работы Якопо де Барбари, изображающая город «с птичьего полета». На этой карте впервые нашел воплощение образ Венеции как значимой формы. Ее детали не имеют себе равных, исполнение выше всяких похвал. Однако это скорее символическое, а не натуралистическое изображение города. Некая священная геометрия, подчеркивающая искусственную природу города. Меркурий, сидящий на облаке над городом, прямо над рынком Риальто и базиликой Святого Марка, восклицает: «Я, Меркурий, благосклонно блистаю над этим рынком, как ни над одним другим». Нептун глядит на него из вод лагуны, возглашая: «Я, Нептун, обитаю здесь, успокаивая воды этой гавани». Город имеет форму дельфина, резвящегося в волнах. Его безлюдность внушает веру в то, что Венеция важнее любого из ее временных обитателей. Они лишь тени на ее стенах.
Разумеется, эта карта не преследует практической цели. Как сказал венецианский картограф XV века Фра Мауро, «моя карта… всего лишь один из вариантов реальности. Она может быть хоть сколько-нибудь полезной только как орудие воображения. Я полагаю, и самый мир следует рассматривать как совершенное произведение искусства и проявление безграничной воли».
Множество венецианских карт выражали меркантильные интересы города. Они были созданы не только для того, чтобы обозначить торговые пути в Катай и Трапезунд, но чтобы облегчить проникновение туда, где ни один венецианский купец еще не побывал. К примеру, многие пытались отыскать морской путь к индийским пряностям. На почерневшей стене Галереи рядом с рынком Риальто были фрески, изображающие mappamundi (карту мира), а в самой Галерее хранилась копия «Путешествий Марко Поло».
Венецианцы были сведущими и искусными картографами. В своем водном мире они искали определенности и достоверности. Легко понять их одержимость в городе, где карта редко встречается с реальностью. Изготовление карт олицетворяет стремление к порядку и контролю. Это еще одна сторона всеобъемлющей власти. К примеру, венецианские правители заказывали множество подробных карт, которые касались всех аспектов жизни материковых провинций, находившихся под их господством. Возможно, именно этот дух завоеваний побудил венецианского картографа написать первое эссе о пейзажной живописи. В Венеции не было пейзажей. Для их создания годились только захваченные территории. В 1448 году венецианский картограф Андреа Бьянко впервые намекнул на существование Америки, нарисовав остров там, где примерно находится Бразилия. В начале XVI века венецианец Джованни Контарини изготовил первую точную карту Африки.
В домах известных купцов и патрициев на стенах висели карты мира. Покои Дворца дожей украшали карты с торговыми путями Венеции по всему миру. На картине художника середины XVIII века Пьетро Лонги «Урок географии» (1752) изысканно одетая дама изучает глобус, держа в правой руке два компаса; у ног ее лежит открытый атлас. Фра Мауро, бенедиктинский монах из Мурано, создал знаменитую полную mappamundi с символическими деталями и ссылками на Священное писание. Он заявил, что создал ее «для размышления славных правителей» города. Уже в середине XV века в Венеции имелась мастерская, занимавшаяся только изготовлением карт. Венецианские картографы особо славились морскими справочниками, картами береговой линии, предназначенными для моряков. В 1648 году в Венеции была создана Академия аргонавтов, занимавшаяся изданием карт и глобусов.
Неудивительно, что копия «Путешествия Марко Поло» находилась в Риальто. Марко Поло – самый известный из всех венецианцев – возможно, за исключением Казановы – и самый известный из путешественников. Его история – в некотором смысле типичная для Венеции коммерческая история.
Он принадлежал к семье, занимавшейся торговлей. Некогда жили два брата, которые родились в венецианском приходе Святого Иоанна Златоуста и стояли во главе торгового дома в Константинополе, представлявшего одну из ветвей их семейного бизнеса. Они были патрициями, но в Венеции патриции богатели на торговле.
В 1260 году, во время крупных беспорядков в Византии, Никколо и Маффео Поло решили в поисках новых торговых путей отправиться на Восток. Они взяли с собой драгоценности, надежно спрятав их в одежде, и отправились в Среднюю Азию. Они добрались до Бухары, теперь входящей в Узбекистан, где войны и слухи о войне задержали их почти на три года. Однако благодаря счастливому случаю они познакомились с посланниками, направлявшимися ко двору Великого хана, «владетеля всех татар в мире». Такую возможность нельзя было упустить. И они отправились в город Кублай-хана, правившего Монгольской империей и Китаем. В Пекине Кублай-хан был любезен и любознателен. Он подробно расспрашивал о законах и обычаях их страны. Под конец их пребывания в Пекине он вручил им послание к Папе и попросил вернуться с маслом от лампад, горящих у Гроба Господня в Иерусалиме.
На обратный путь в Венецию ушло еще три с половиной года. Они не видели свой город пятнадцать лет, и по возвращении Никколо Поло встретил дома сына, которому исполнилось шестнадцать. Его назвали Марко в честь святого покровителя Венеции. В конце концов они получили от нового Папы Григория Х грамоты с папским благословением и сосуд с драгоценным маслом, а затем вернулись к Кублай-хану вместе с молодым Марко Поло. И вновь на путешествие ушло три с половиной года.
Однако самое интересное впереди. Через двадцать четыре года в приход Святого Иоанна Златоуста прибыли три странника. В одежде из грубой шерсти, как у татарских воинов. С длинными волосами и бородами, с грубой кожей, обветренной в долгих странствиях. Марко Поло вместе с отцом и дядей наконец-то вернулись домой.
Их не признали членами семьи Поло. Они говорили на ломаном венецианском диалекте. Скорее всего их выдворили бы из прихода как самозванцев. Но Марко Поло представил доказательства. Он взял одежду из домотканой шерсти и распорол по швам. В нее было зашито множество драгоценных камней – рубины, сапфиры, бриллианты, изумруды – щедрые дары Великого хана. Венецианцев, разумеется, мгновенно убедили баснословные сокровища, и они, по словам летописца, приняли пришельцев «с превеликими почестями и уважением». Марко Поло стали называть Марко Миллионе. Во время недавних раскопок на месте, где находился дом семьи Поло, обнаружили новые фундаменты времен возвращения Марко Поло. Он не хранил свое богатство в драгоценностях.
Всем известно, что на этом история не кончается. Марко, будучи горячим патриотом, снарядил на свои деньги галеру для войны с генуэзцами. В битве близ острова Корчула в сентябре 1298 года Поло был взят в плен. Его посадили в генуэзскую темницу, где он провел около года. За это время он приобрел известность как рассказчик удивительных историй о дальних странах. И нашелся человек, который их записал. Старик из Пизы по имени Рустикан записал историю Марко на странном старо-французском, почерпнутом из рыцарских романов. Письменная версия имеет все признаки устного рассказа: «Довольно об этом, теперь я расскажу вам кое-что еще»; «Оставим Мосул и поговорим о Бодаке, большом городе»; «Но сначала я должен вам сказать…»
Рукопись переписали. Ее начали распространять.
После освобождения из заточения Марко Поло вернулся к тихой ничем не примечательной жизни в родном городе и занимался только обычными торговыми делами. Он подарил экземпляр своей книги французскому королю, посетившему Венецию, но больше никаких упоминаний о книге, сделавшей его имя бессмертным, нет.
Марко Поло умер в 1324 году в возрасте семидесяти лет. На смертном одре он заявил, что не рассказал и половины того, что видел.
Когда-то думали, что эти рассказы были лишь красивыми историями, однако в последние годы становится все более очевидным, что Марко Поло правдиво описал страны и города, в которых побывал. Он был практичен и предусмотрителен, у него были ясная голова и зоркий глаз. Он также обладал почти детской энергией и любознательностью, которые помогли ему оставаться в живых долгие годы странствий среди необычных людей. Он был истинным венецианцем. Мы могли бы назвать его венецианским героем, если бы город не питал неприязни к героическим личностям, угрожающим благополучию государства.
Из рассказа о странствиях Марко Поло становится ясно, что он прошел через всю Азию по поручению Кублай-хана, желавшего знать свою империю во всех подробностях. Пожалуй, подобную миссию мог выполнить только венецианец. Он был первым путешественником, сообщившим о богатстве и величии Китая, описавшим монгольские степи и неприступный Тибет; он написал о Бирме и Сиаме, о Яве и Индии; он рассуждает о факирах Пашаи и идолопоклонниках Кашмира; рассказывает о битве между Чингисханом и попом Иваном.
Во многих отношениях это было удивительное путешествие, но в действительности Марко Поло неукоснительно следовал венецианской традиции. Дипломатам и другим официальным лицам полагалось составлять подробные relazione об иностранных городах, которые они посетили. Отчасти книга Марко Поло имела целью преподать венецианцам урок удачного правления. В самом деле, через несколько лет после его возвращения венецианские власти ввели если не конкретные детали, то некоторые общие принципы монгольской системы. Они следовали рецептам Великого хана, Великого Господина Господ, которого Марко Поло описывает как «самого могущественного человека в том, что касается войск, земель и сокровищ, которые существуют или существовали в мире со времен нашего праотца Адама по настоящее время».
Венецианским купцам также требовалась точная информация о состоянии местных обществ и местных экономик. В чем те нуждаются? Что могут предложить на продажу? Венецианцы умели не только наметанным глазом оценивать товар, но и внимательно наблюдать за местными условиями. Более всего они нуждались в информации. И не стоит удивляться, что Марко Поло с особым интересом наблюдал за торговлей во всех городах, которые посетил. О городе Кобинан в Персии он написал: «Есть тут железо и сталь, и онданик. Выделываются здесь из стали большие и очень хорошие зеркала». Описав, как люди зарабатывают себе на жизнь, он часто прибавлял: «Больше ничего не стоит упоминания».
Венецианские аристократы были профессиональными путешественниками, органично входя в роли купцов. В отличие от современников из Флоренции или Гамбурга, они не выжили бы без точного знания морских путей и береговой линии. Дух путешествий был у венецианцев в крови. Иначе и быть не могло, ведь город смотрит на Адриатику и Средиземное море. Уже в IX веке венецианские купцы посетили Египет, Эвксинский понт и Азовское море. В начале XV века некий венецианец был рыцарем в Дании. А веком позже венецианский кораблестроитель преуспевал на верфях острова Элефанта в Индии.
Существуют рассказы о путешествиях в Гренландию и Тартарию. В 1432 году Пьетро Кверини добрался до Северного Ледовитого океана; сорока годами позже Иосафат Барбаро ступил на берег Каспийского моря. Когда купец и мореплаватель Джованни Кабото (генуэзец, гражданин Венеции по собственному выбору, одобренному государственным декретом, находился на английской службе) высадился в Новом Свете, рядом с английским флагом он водрузил знамя Святого Марка. Возможно, стит упомянуть о том, что первооткрыватель и мореплаватель Себастьяно Кабото родился в Венеции; в 1498 году он открыл полуостров Лабрадор, а в 1526 году добрался до низовьев реки Ла-Плата. В середине XV века молодой венецианский патриций Альвизе да Мосто отправился в Сенегал и открыл Острова Зеленого Мыса. Он описал подробности плавания в истинно венецианском духе, поскольку «был первым из благороднейшего города Венеции, кто, выйдя в океан через Гибралтарский пролив, направился к югу, в землю негров…» Он также был первым купцом, обменявшим лошадей, шерсть и шелк на рабов и попугаев.
Венецианские путешественники преследовали двоякую цель: получить доход и добиться славы; общественный вес и уважение проистекали из коммерческого успеха, а открытие новых земель служило тому и другому. Вот почему многие купцы вели записи своих достижений. Их дневники служили доказательством их подвигов и исполняли роль мемориалов в семейном бизнсе. Первые отчеты путешественников были опубликованы в Венеции в XV веке. В 1543 году вышла антология путешествий под названием «Путешествия из Венеции в Тану (город на левом берегу Днепра), Персию, Индию и Константинополь».
Карта фиксирует границы. Венеция всегда стояла на границе. Ее называли шарниром Европы. Во всех своих действиях она, по сути, обладает всеми признаками границы – порогового пространства. Она есть вечный порог – не то земля, не то море. Она посередине, между древними имперскими городами Римом и Константинополем. Здесь Италия встречалась с Востоком, и Европа в самых общих чертах встречалась с Африкой. Здесь можно было сесть на корабль, отправлявшийся в Левант, и оставить позади христианский мир. Вот почему некоторые полагали, что священная миссия Венеции состоит в объединении западных христиан с остальным миром – с греческими христианами на Босфоре, а также с наследниками ислама и индуизма.
Гете описывал Венецию как «рыночную площадь, где встречаются рассветные и сумеречные страны»; он имел в виду, что город, расположенный между Западом и Востоком, является срединной точкой между солнцем на восходе и на закате. Когда в эпоху Карла Великого Священная Римская империя распалась, лагуны Венеции не были отнесены ни к Западу, ни к Востоку. По словам венецианского историка Бернардо Джустиниани, их оставили «в целости и сохранности, почти как известные Святые места». Далее он говорит, что «эти места были оставлены как некая граница между обеими империями». В Средние века почтовая служба, осуществляемая венецианскими галерами, была единственным средством сообщения между королевскими дворами Германии и Константинополем. Первые представления о мусульманском мире пришли в Европу из Венеции.
Венеция также была границей между религиозным и светским. Публичное пространство города являлось пороговой зоной благочестия и патриотизма. Границы между прошлым и будущим были размыты, как и границы между личным и общественным, которые постоянно нарушались. Здесь встречались и смешивались католики и протестанты, католики и православные, иудеи и христиане, турки и европейцы. Все цивилизации Средиземного моря – греко-римская, мусульманская, иудейская и христианская – сошлись в Венеции. О венецианских художниках XV века было сказано, что в своем искусстве они осуществили синтез тосканского и фламандского стилей. Город был дверью между холодным Севером и жарким Югом; поначалу он предназначался для торговли, но затем стал средством доступа к общему делу жизни, распространявшемуся по Европе.
Венеция в полном смысле слова неоднородна и с культурной, и с социальной точек зрения. Некоторым она покажется восточным городом, с базиликой Святого Марка, весьма напоминающей мечеть, и Риальто, весьма напоминающим восточный рынок. Вот почему другие европейские страны относились к Венеции с подозрением. Она содержит в себе признаки Другого. Здесь уместно напомнить, что арабские слова, проникшие в венецианский диалект, главным образом связаны с торговлей – zecca (монетный двор), doana (таможня), tariffa (тариф) – или с предметами роскоши, к примеру софа и диван. «Увы, венецианский народ, – писал Папа Пий II в 1458 году, – как много из своего древнего характера вы утратили! Слишком долгое общение с турками сделало вас друзьями мусульман». Фасад Дворца дожей, смотрящий на лагуну, мусульманский по духу. По всему городу действительно встречаются заимствования мотивов исламской архитектуры и исламского искусства. Даже венецианские цвета – ярко-синий и золотой – пришли со Среднего Востока. Торговые пути, организованные морские караваны, даже венецианские гильдии были мусульманскими по происхождению. Венецианцы испытывали истинную симпатию к мусульманской цивилизации и восхищение ею не без связи с неприязнью к папской пышности. К примеру, на картинах Карпаччо венецианские интерьеры украшают предметы восточного происхождения; трон Мадонны на картине Джентиле Беллини «Мадонна с младенцем на троне» (1480–1485) стоит на турецком ковре или молельном коврике.
Венеция во многих отношениях была близка Византии. Она заимствовала идеи и практику у древнего города, которому когда-то подчинялась. Ее даже называли вторым Константинополем. Венецианское общество было скорее иерархическим, нежели феодальным. Влияние византийской цивилизации можно заметить в домашней изоляции молодых девушек, а также в обычае разделять мужчин и женщин во время церковной службы. Оно также чувствовалось в чопорности и пышности религиозных церемоний, в которых использовались ритуалы и реликвии Византийской церкви. Чувствуется что-то восточное в величавости и символизме венецианской политической жизни с ее сложным бюрократическим механизмом и торжественной практикой выборов. К тому же – не был ли дож чем-то вроде императора? Он иногда рассматривался в подобном священном свете. На Страстной неделе дож изображал Христа в его последние дни. В той же роли выступал и византийский император.
Базилика Святого Марка построена по образцу константинопольской церкви Святых Апостолов. Хронисты Венеции также сообщают, что собор Святого Марка был построен архитектором из этого города, но это утверждение спорно. Однако не возникает сомнения, что в городе в то время жили мусульманские ремесленники. Религиозная политика Венеции, с ее понятием государственной Церкви, следует византийскому примеру; ее глава назывался Патриархом, как в Константинополе.
Есть и другие дериваты. Представление об Арсенале, оружейной мануфактуре, принадлежащей правительству, почерпнуто из византийской практики. Длинный черный плащ, который носили патриции, похож на византийский кафтан. Разбрасывание монет народу по случаю выбора дожа – практика, заимствованная у восточных императоров. Ведение подробнейшей документации наверняка позаимствовано у византийской бюрократии. Само слово «византийский» стало синонимом перегруженности деталями. В Венеции, как и в Византии, записывали буквально все. Когда венецианцы отпускали бороду в знак национального или личного траура, они подражали восточным современникам. Любовь к куклам и кукольному театру уходит корнями в древность. Конечно, все итальянцы имеют давнюю традицию кукольного театра и театра масок, однако любовь венецианцев к куклам восходит к византийской традиции, менее связанной с реальностью, в которой подчеркивается меланхолический аспект неодушевленной куклы, пока человеческое желание не вдохнет в нее жизнь.
Глава 35
Сплоченная семья
До самого последнего времени среди венецианцев царил дух братства. Утверждение, что все они – одна большая семья, превратилось в клише. Это было заметно всем. Дух братства проявлялся в самой атмосфере общения. Простолюдины, были детьми республики, патриции – их отцами. Гете называет дожа дедом народа. Организация общественного здравоохранения и сиротских домов для детей, потерявших отца, свидетельствует о том, что государство, в сущности, считало себя одной большой семьей. Управляющие подобными заведениями старались создать внутри большой семьи маленькие семьи. Так поступали в Венеции.
Степень гармонии не стоит преувеличивать; как и в любом другом замкнутом сообществе там возникали споры и вражда. Венецианцы не были святыми. Однако в Венеции не было вопиющей дисгармонии или фанатичной злобы, поражавших такие города, как Флоренция и Генуя. Эмоции и отношения людей были ограничены пределами небольшого замкнутого пространства, и это естественным и неизбежным образом привело к тому, что в общественной жизни установилась семейная атмосфера. Топография города позволяла воспринимать его как огромный семейный дом. Генри Джеймс называет Венецию всеобщим жилищем, «великолепным совместным местом жительства, семейным, домашним и отзывчивым». Известно, что Наполеон назвал площадь Святого Марка лучшей гостиной Европы. Однако эта семья не могла покинуть свой дом.
Семья была определяющей социальной силой венецианского общества. Политические и общественные союзы были построены на фундаменте семейной жизни. Выражение l’honorevolezza della casa (честь семьи) повторялось очень часто. Успех или провал политической карьеры в значительной степени зависел от влияния патрицианской семьи. На протяжении многовековой венецианской истории повторяются одни и те же имена – среди них Вендрамин, Барбо, Дзен, Фоскари и Дандоло. В сущности, Большой совет был собранием семейств, связанных друг с другом рядом взаимных обязательств; с точки зрения эмоций он был не столько собранием фанатиков, сколько местом договоров и компромиссов. Он не служил ареной для декларации принципов или для идеологических высказываний. Каждая семья по отдельности была не в состоянии создавать фракции или оказывать определяющее влияние на результаты выборов. Они существовали на основе взаимной зависимости.
По закону венецианские власти считали всю семью ответственной за проступки одного из ее членов. В середине XIV века анонимный составитель Cronica Venetiarum описывает целые семьи так, как если бы они были отдельно взятыми людьми с определенными привычками и характеристиками; Дандоло были отважными, а Барберини «бестолковыми… развлекаясь по всему миру». В книге говорилось, что Барбо никогда не были богатыми, Мочениго бедными, а Эриццо сострадательными. Одна и та же фамилия встречается в списках сенаторов, епископов или богатых купцов. В Венеции все были одержимы генеалогией, и потому в XV веке были заведены Librid’Orо (Золотые книги), чтобы заносить туда сведения о свадьбах и рождениях аристократов.
Главное коммерческое предприятие города – fraterna. В его бухгалтерских книгах на равных фигурируют домашние и коммерческие счета. Братья, живущие под одной крышей, воспринимались как деловые партнеры, если они формально не разрывали эту связь; семейный бизнес считался более эффективным и более ответственным. По словам некоего патриция, отцы и сыновья трудились друг для друга «с большей любовью, большей честностью, большим доходом и меньшими издержками». Сокращались и накладные расходы. В венецианском обществе было гораздо больше холостяков, чем в любых других городах Италии. В XV веке, к примеру, холостяками остались более половины взрослых мужчин. Их собственность после смерти доставалась детям женатого брата, тем самым поддерживая семейный бизнес.
Сама семья рассматривалась как подобие государства. Она была институтом, в котором индивидуальная воля обязана подчиняться решению коллектива. Муж обладал безусловной властью; роль жены сводилась к деторождению; детям предписывалось молчаливое послушание. Господ и слуг связывал тесный контекст контроля. Без семьи нет государства; без государства нет семьи. Идеал семейной гармонии, таким образом, был весьма силен. В уставе гильдии строителей провозглашалась «любовь и плодотворное счастье между… добрыми соседями и дорогими друзьями». Члены братства Святого Иоанна Евангелиста стремились снискать благодать «посредством любви», тогда как каменотесы трудились для «всеобщего блага и процветания».
Жителей Венеции можно уподобить пчелам, трудящимся сообща в золотом улье. Пчелы должны подчиняться всеобщей цели улья. Они соревнуются, но не враждуют. Они трудятся без устали не из принуждения, а в стремлении к общему благу. Там нет гражданских войн. Чарлз Батлер в книге «Женская монархия в истории пчел» (1609) перечислил некоторые характеристики этих насекомых: они полезны, трудолюбивы, верны, проворны, ловки, смелы и искусны. Все эти качества можно отнести к венецианцам. Плиний Старший заметил, что пчелы «признают только то, что представляет общий интерес». Это еще один ключ к пониманию венецианского общества. Мы также можем понять природу Венеции из книги Би Уилсон «Улей», где она утверждает, что улей – «это место, где мир природы сливается с миром артефакта, вот почему он представляется таким таинственным». Такова и тайна Венеции.
Что представляет собой это общее благо, к которому стремились венецианцы? Его можно определить как необходимость самого выживания, продолжения бытия. Его единственная цель – поддержание и сохранение жизни как таковой. Она первична, она слышится в крике младенца и хрипе умирающего. «Согласие здесь наблюдается лишь в одном, – писал испанский посол о венецианском правлении в начале XVII века, – в непрерывности власти». Все другие мотивы человеческих действий – богатство, могущество, слава – подчинены этой главной необходимости. Этот принцип взаимосвязи и взаимодействия основан скорее на органической, а не на механической силе. Именно этот поток взаимосвязанной целенаправленной деятельности и образует историю Венеции. В истории мы, несомненно, различаем отдельные события и пытаемся установить их причины. Но главная причина выше нашего понимания. Она часть внутреннего бытия вещей. Вместо нее мы можем ухватить только хитросплетение событий, более важное и существенное, чем находящиеся в связи события или предметы.
Общее благо воплощало в себе волю и сенситивность общины. Каждый человек был обязан подчинять свои интересы интересам государства. Если первичный капитализм способен быть также формой первичного коммунизма, тогда Венеция была олицетворением этого состояния. Но эти термины, возможно, анахроничны. Может быть, более уместно рассматривать их в контексте средневекового коллектива, используя понятие «город», как человеческий организм, созданный по образу и подобию Божию. «Капитализм» и «коммунизм» стали инструментами инстинктивной потребности борьбы за выживание. В Венецианской республике, в отличие от королевств и герцогств, общественное благо имело приоритет над индивидуальной волей. Природа республики определяется правовыми и институциональными процессами, а не властью или личностью. В Венеции не было единого центра власти. В ней процветал плюрализм. На протяжении всей истории Венеции в ней не было ни одного деспота. На первом месте всегда стоял сам город.
Идея семьи проявляется в четырех различных представлениях, или верованиях: территория города – это общее наследие; форма правления городом определена священным договором; происхождение города связано с семьей или кланом; благочестие города основано на уважении к предкам. Граждане Венеции с рождения находились в обстановке человеческой взаимозависимости и естественной потребности в ней. Возможно, это условие самой жизни. Общественная жизнь отвечает природе человека. Людям нет нужды устанавливать руссоистский общественный договор. Джорджа Элиота посетило озарение, когда, наблюдая закат над Венецианской лагуной, он заметил: «Это была картина такого рода, перед которой я с готовностью забыл о собственном существовании и почувствовал, что растворяюсь в общей жизни».
Венецианцы видели свою задачу в единодушии и солидарности. К примеру, крупные торговые проекты Венеции были коллективными мероприятиями, в ходе которых группы купцов заключали официальный договор по доставке товаров. За самые большие галеры отвечали власти города. Венецианцы находили смысл в создании сети гильдий, приходов и scuole (школ), составлявших важную часть общественной жизни города, а также бесконечных комитетов, советов и правлений, выполнявших контролирующие функции.
Равенство венецианцев – вопрос весьма спорный. Разделение жителей Венеции на аристократов, граждан и простой народ заставляет предположить существование иерархии в том, что касалось общественного положения и общественной ответственности. Однако не возникает никаких сомнений, что внутри венецианской политики существовала тенденция к сглаживанию различий. Еще в VI веке Кассиодор, вождь остготов, сказал о венецианцах: «Здесь бедняк на равных говорит с богачом, все едят одну и ту же пищу и живут в одинаковых домах». По традиции все дома в городе когда-то были одной высоты. В XI веке две-три старые семьи попытались создать правящие династии, но получили резкий отпор со стороны патрициев, заявивших: «Мы пришли сюда не для того, чтобы жить под чьей-то властью».
Среди венецианских купцов на самом деле существовало подлинное равенство. Деньги не знают социальных барьеров. Томас Кориат отметил, что «у них люди благородного происхождения и знаменитые сенаторы, имеющие состояние, быть может, в два миллиона дукатов, ходят на рынок и покупают там мясо, фрукты и прочие вещи, необходимые для содержания семьи». На узких улицах города постоянно сталкивались и общались друг с другом различные классы. И купцы, и патриции не могли оставаться в стороне от обыденной жизни. Вот почему нижние этажи роскошных домов нередко сдавались под магазины и лавки. Венецианские законы запрещали показную роскошь. Но, так или иначе, бережливость или mediocritas (умеренность) была у венецианцев в крови. Во многих завещаниях оговаривается, чтобы похороны были «как можно скромнее». Естественная среда обитания также сыграла свою роль. Вода – великий эгалитарист. К примеру, было замечено, что Темза – великая гавань социального равенства. На воде все находятся на одном уровне.
Вот почему в отношении венецианцев друг к другу чувствовалась сердечность. Некий английский аристократ XVIII века заметил: «Во всех слоях общества здесь присутствует поголовная вежливость; люди ожидают учтивого отношения к себе со стороны своей знати и с почтительностью и признательностью отвечают тем же; разве стал бы вельможа вести себя высокомерно и нагло с простыми людьми, если бы те не терпели такое поведение?» В отношениях венецианцев царило относительное равенство. В комедиях Гольдони слуги часто сердятся на своих хозяев. Хозяева же никогда, никогда не бьют своих слуг. Находились те, у кого подобная свобода обращения вызывала сожаление. В диалоге конца XVI века под названием Discorsi Morali (Диалоги о морали) один из собеседников замечает, что в Венеции «слуги распущенны, развратны, порочны и дерзки», а при княжеских дворах «добры, верны, честны и благонравны».
К тому же существовало официальное толкование понятия «свобода», согласно которому считалось, что государство не должно быть слугой князей. Миф о государстве, построенном на общинной основе, хотя на самом деле беженцы подпадали под власть епископов или местных господ, был очень силен. Для венецианского правления свобода заключалась не в личной свободе, но в свободе от вмешательства других государств.
Начиная с XIV века Венеция позволяет приезжим пользоваться роскошью свободы вероисповедания. Вот почему она считалась открытым городом, дающим пристанище кальвинистам и анабаптистам, а также православным, мусульманам и иудеям. Религиозный фанатизм не слишком хорошо уживается со свободой торговли. «Так как я человек, рожденный в свободном городе, – сказал некий сенатор коллегам, – я буду свободно выражать свои чувства». В начале XVI века мало где можно было произнести эту фразу. В конце же XVII века французский путешественник писал: «Венецианская свобода сообщает подлинность всему, что вы делаете: образу жизни, который вы ведете, религии, которую вы исповедуете; если только вы не говорите и не предпринимаете ничего против государства или знати, вы можете жить спокойно, ибо никто не станет надзирать за вашим поведением или разбираться в неурядицах ваших соседей».
Вот почему эта свобода сознания вылилась в свободу поведения, которой всегда отличался город. В XIV веке Петрарка заклеймил «исковерканный язык и непомерную вольность поведения» венецианцев, которая в XVII и XVIII веках стала отличительной чертой города. Венеция славилась тем, что ныне называется вседозволенностью, и вскоре было замечено, что личная свобода вполне сочетается с упорядоченным правлением. Для остального мира это стало откровением. Однако за атмосферой изнеженности скрывалась система. Свобода поощряла приезжих тратить все больше денег. Здесь царила свобода иного вида. В Венеции ты мог забыть свое прошлое и стать другим человеком.
Как часто отмечалось, в венецианской литературе почти нет биографий или автобиографий. Действительно, в венецианской жизни нет отдельного человека. Детей патрициев с младенчества учили не выделяться из среды товарищей. Как уже говорилось, венецианцы не прощали своим адмиралам или военачальникам поражения; точно так же они не прощали успеха. Личная слава грозила затмить славу города.
Главной разновидностью венецианского портрета был портрет групповой. Было выдвинуто предположение, что именно такой портрет появился в Венеции первым. Прекрасный знаток венецианской истории Полпео Молменти заметил в XIX веке, что «в венецианской живописи индивидуальное теряется в радостной толчее». К примеру, Тинторетто, увлеченный передвижением и распределением людских толп, редко уделял внимание отдельным персонажам, подчиненным всеохватывающему ритму и единству композиции точно так же, как жители Венеции подчинялись государственному ритму. На картинах Карпаччо мы всегда видим группы людей, обменивающихся шутками и сплетнями. Они никогда не спорят. Никогда не возникает чувства, что они могут что-то изменить в своей жизни. Такова природа венецианского общества. Венеция всегда была местом скорее для толпы, нежели для одиноких странников. В XXI веке первое, что бросается в глаза, – группы туристов.
Если венецианский портретист изображает отдельного человека, он (почти всегда это мужчина) представлен в его социальной или политической роли. На портрете нет внутренней жизни, нет попытки психологического разоблачения. Вместо этого тщательно соблюдаемая анонимность. Выражение лица отчужденное и замкнутое. Главное в характере сдержанность и благопристойность, известная в Венеции как decoro (внешнее приличие). Здесь важен не столько сам человек, сколько его классовая принадлежность или сан. Человек, изображенный на портрете, поглощен государственной ролью. Его руки почти всегда скрыты.
Потому трудно воздать хвалу знаменитым мужчинам и женщинам Венеции. Там были великие художники и музыканты, но не было великих личностей, подобных Лоренцо Медичи или Папе Юлию V. И в литературе, и в истории жители Венеции не блещут индивидуальностью. Они не запомнились нам эксцентричностью или победами. Комедии Гольдони – комедии обыденной жизни; они наполнены поэзией домашних событий и локальной интриги, но им чужды подвиги, приключения, уязвимость выдающихся личностей или сбившихся с праведного пути. В них отражен благодатный общественный порядок. Венецианцы всегда отличались покорностью. Они могли легко предаться личным страстям, но всегда относились к власти с уважением.
Буркхардт никогда не мог бы написать о Венеции тех слов, которые посвятил Флоренции: «В результате человек мог достигнуть высших пределов в осуществлении и использовании власти»; правители народа «обретали ярко выраженный личный характер». Никто из дожей или правителей Венеции не отличался «ярко выраженным характером». Город никогда не был и не мог быть феодальным государством; при феодализме санкционировалось и сохранялось личное господство.
Макиавелли отметил, что безопасность и благоденствие города в лагуне проистекали из того факта, что его знать не имела ни замков, ни собственных армий, ни вассалов. Венеция – это «великий и достойный уважения результат совместных человеческих усилий, – писал Гете, – великолепный монумент, созданный не одиноким мастером, но народом».
Должное воздавалось самому народу. Гаспаро Контарини в книге о государственной власти в Венеции, опубликованной в 1547 году, заметил: «Наши предки, от которых мы получили столь процветающую державу, объединились, чтобы сохранять, чтить и укреплять свою страну, не помышляя о личной выгоде или славе». Они остались безымянными в жизни и смерти, и единственным памятником им стало само государство. «Хотя эти венецианские джентльмены необычайно мудры, когда они все вместе, – писал в XVII веке Джеймс Хауэлл, – возьмите их поодиночке, и они окажутся такими же, как остальные». Секрет венецианцев лежал в их сплоченности. Вне этого контекста у этих патрициев не было своего лица. Их собственное «я» было поглощено их политическим «я». Без государства они были ничто. Отсутствие великих людей в Венеции подтверждает мысль Толстого, что человеческой историей управляют миллионы различных случайностей и интересов, связанных друг с другом тем, что может быть названо общественным инстинктом. Каждый исторический период представляет собой обнаружение подобного инстинкта. Автор в полном смысле слова потрясен сложностью этого процесса.
Глава 36
Луна и ночь
Ночь и тишина в Венеции глубоки. Площадь Святого Марка заливает лунный свет. Суть Венеции проступает ночью. Свойственный этому времени суток покой лучше всего соответствует ощущению остановившегося времени. Тогда является предмет ее любви – она сама. Дверные проемы кажутся темнее, чем в любом другом городе. В них плещется темная вода. Перед статуями Мадонны на углах calli мерцают лампадки. Ночи в Венеции бывают разными: глубокая синева летней ночи и непроницаемая тьма зимней. Современные венецианцы редко выходят из дома ночью. Нет пьяниц, бредущих по улицам в предрассветный час. Нет пронзительных криков. Современный специалист по акустике замерил уровень ночных шумов в Венеции, он оказался равен тридцати двум децибелам. Ночи в других городах шумнее децибел на тринадцать. В Венеции нет фоновых шумов.
Во второй половине XIII века было образовано государственное учреждение, призванное охранять общественный порядок под покровом темноты (signori di notte). Похоже, венецианская ночь сделалась предметом подозрений. Ей сопутствовал страх невидимой воды, темной и глубокой, и извилистого лабиринта переулков. Ночь – время нападений и переворотов. Ночь – время убийц и шпионов. Ночь – время сборищ тайных обществ, ночью на стенах города появляются граффити против законной власти. Для города, гордившегося порядком и контролем, ночь была особо опасным врагом. В декретах провозглашалось, что ночью вам угрожает множество pericula (опасностей); всегда есть риск disordines et tumultationes (беспорядков и мятежей). Ночь была хаосом. Ночь была угрозой. Венецианская ночь, казалось, призывала изначальную тьму и тишину лагуны, из которой вырос город. Ночь пробуждала память об истоках.
Однако в последующие века, с появлением вездесущего карнавала это настроение буквально просветлилось. В мемуарах Гольдони, написанных в XVIII веке, перед нами предстает ночной мир того времени. Лавки открыты до десяти часов вечера, многие из них не закрывают дверей до полуночи; к тому же «все таверны открыты, и ужин готовится во всех постоялых дворах и гостиницах».
Каковы звуки венецианской ночи? Венеция – великолепный акустический инструмент. Время от времени звонят колокола. Звук воды, в вечном движении с плеском набегающей на камень. Над водой раздается зов, чистый и звучный – над стоячей водой, между приливом и отливом, голос разносится очень далеко. По узким улочкам звук идет, как по трубам. Прибавим к этому едва различимый звук гондолы. В XIX веке самые романтичные путешественники отмечали, что иногда над водой звучит музыка. Наделенный тонкой восприимчивостью Ференц Лист упоминал «немые звуки» города, один из которых – тихий шелест скользящей по воде лодки.
Всегда есть моменты, когда на Венецию спускается тишина. «Повсюду царила все та же необычайная тишина», – писал Диккенс в «Картинах Италии». Для него это была неестественная тишина современной жизни – ни экипажей, ни повозок, ни механизмов. Для многих викторианских путешественников очарование Венеции было связано с ее отдаленностью от современной индустриальной цивилизации. Двумя веками раньше Джон Ивлин писал о Венеции, что в ней «почти так же тихо, как посреди поля, ни грохота карет, ни топота лошадей». Ни шума машин. Вы можете завернуть за угол и оказаться в полной тишине. Ни в одном другом городе нет такого количества тихих уголков. В «Мертвой лагуне» Майкла Дибдина рассказчик заявляет, что «столь абсолютная, безоговорочная тишина рождает тревогу, будто прекратилась какая-то жизненно важная функция».
В Венеции была и темная сторона, которую скрывала ночь. Там было много бедных и отверженных. В венецианской жизни всегда присутствовали нищие. В конце XV века в Сенате обсуждалась проблема стариков и прочих неимущих, которые каждую ночь лежали около Дворца дожей. Были построены приют и больница. Но этого оказалось недостаточно. Во времена голода, к примеру зимой 1527 года, бедняки умирали у колонн дворца. Дети стояли на рынке Риальто или на площади Святого Марка и кричали: «Я умираю от голода! Умираю от голода и холода!» Один из современников заметил, что «в городе от них смердит». У городской скученности есть предел. И, разумеется, Венеция не производила продовольствия.